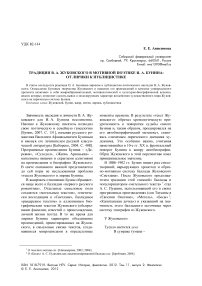Традиции В. А. Жуковского в мотивной поэтике И. А. Бунина: от лирики к публицистике
Автор: Анисимова Евгения Евгеньевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется рецепция И. А. Буниным-лириком и публицистом поэтического наследия В. А. Жуковского. Осмысление Буниным творчества Жуковского и освоение его произведений в качестве универсального претекста включают в себя жанрообразовательный, мотивологический и культурно-биографический аспекты, анализ которых позволяет сделать вывод о моделирующем характере воздействия художественного мира Жуковского на лирическую систему Бунина.
Жуковский, бунин, жанр, мотив, лирика, публицистика
Короткий адрес: https://sciup.org/14737738
IDR: 14737738 | УДК: 82-144
Текст научной статьи Традиции В. А. Жуковского в мотивной поэтике И. А. Бунина: от лирики к публицистике
Значимость наследия и личности В. А. Жуковского для И. А. Бунина несомненна. Именно к Жуковскому писатель возводил свою поэтическую и семейную генеалогию [Бунин, 2007. С. 151], называя русского романтика Василием Афанасьевичем Буниным и именуя его зачинателем русской классической литературы [Бабореко, 2004. С. 408]. Программные произведения Бунина – «Деревня», «Суходол», «Жизнь Арсеньева» – наполнены явными и скрытыми аллюзиями на произведения и биографию Жуковского. В свете сказанного важной представляется до сей поры не исследованная проблема «текста Жуковского» в лирике Бунина.
В жанровом отношении Бунин обращается чаще всего к балладам «первого русского романтика». Отдельные смысловые поля создаются «метельным текстом», генетически восходящим к «Светлане», балладным «рыцарским текстом» и аллюзивным биографическим текстом Жуковского (обыгрывание фамилии, известий о происхождении, личной жизни поэта). В то же время для лирики Бунина характерно объединение произведений, ориентированных на Жуковского, в смысловые связки текстов, создававшиеся микроциклами в определенные моменты времени. В результате «текст Жуковского» обретал хронологическую приуроченность к поворотам судьбы самого Бунина и, таким образом, проецировался на его автобиографический метатекст, становясь слагаемым лирического дневника художника. Это особенно важно, учитывая наметившийся в 10-е гг. XX в. фронтальный поворот Бунина к жанру автобиографии. Образ Жуковского в этой перспективе имел принципиальное значение.
В 1886–1902 гг. Бунин пишет ряд стихотворений, варьирующих хронотоп и образ-но-мотивную систему баллады Жуковского «Светлана». После Жуковского продолжателем традиции этой «зимней» баллады и популяризатором «метельного текста» 1 стал А. С. Пушкин, использовавший его в своих программных произведениях (сон Татьяны в «Евгении Онегине», «Метель», «Бесы» 2, «Капитанская дочка») и указавший на значимость этого балладного источника через систему эпиграфов из Жуковского.
У Жуковского:
Тускло светится луна
В сумраке тумана –
Молчалива и грустна 3 Милая Светлана
[Жуковский, 2008. Т. 3. С. 32].
У Пушкина:
«…Скажи: которая Татьяна?»
– Да та, которая грустна
И молчалива , как Светлана, Вошла и села у окна
[Пушкин, 1978. Т. 5. С. 50].
В лирике 1886–1902 гг. Бунин особенно активно использует топосы «Светланы», указывая на свою преемственность по отношению к специально отобранному пантеону предшественников: предку Жуковскому и символу классического периода русской литературы Пушкину.
Как светла , как нарядна весна!
Погляди мне в глаза, как бывало,
И скажи: отчего ты грустна ?
Отчего ты так ласкова стала?
Но молчишь ты, слаба, как цветок… [Бунин, 1987. Т. 1. С. 80].
И в ней луна столбом отражена.
Склонив лицо прозрачное, светлеет
И грустно в воду смотрится она [Там же. С. 115].
Помимо продуктивных топосов такого рода, «Светлана» Жуковского повлияла на становление важнейшего в мотивной поэтике Бунина «метельного текста». Так, в написанном в 1901 г. стихотворении «Эпиталама», совмещающем в себе черты античной свадебной песни с балладным параллелизмом «свадьбы-похорон», «метельный текст» звучит вполне отчетливо: «В старом храме, и сиял / Чистый образ новобрачной <…> // А из окон ночь синела; / Зимний вечер темен был, / Вьюга в сумраке шумела, / Грустно с колоколом пела, / Поднимая снег с могил …» [Там же. С. 112]. С легкой руки Жуковского балладные мотивы, использованные в «Светлане» (открытое, труднопреодолимое из-за буйства зимней стихии степное пространство), стали универсальными метафорами национального хронотопа. Так, у
Бунина читаем: «Родились мы в снегу, – вьюга нас и схоронит» [Там же. С. 386]. В ранней лирике поэта 1886–1902 гг. «метельный текст» становится лейтмотивным как на уровне заглавий («Крещенская ночь», «Метель», «Вьется путь в снегах, в степи широкой…»), так и в образно-мотивной системе («Ночью в полях, под напевы метели», «Пусть бежит, в степи метель играет», «А вьюга трупы замела» и т. д.) [Там же. С. 45–120, 377–393].
В конце 1880-х – начале 1890-х гг. Бунин экспериментирует с переводами произведений, в свое время интересовавших Жуковского-переводчика, и обращается к «Лесному царю» Гете и «Лалле Рук» Т. Мура. Если бунинские переводы конца XIX – начала XX в. еще очень зависимы от переводов Жуковского и аллюзивны по отношению к его биографии, то в дальнейшем Бунин адаптирует исходные сюжеты к собственному жизнетексту. Так, в 1903–1906 гг. он обращается к двум программным балладам Жуковского: «Лесному царю» и «Эоловой арфе» (стихотворения «Горе» и «Призраки»).
Баллада «Горе», датированная в собраниях сочинений очень приблизительно 1903– 1906 гг. [Там же. С. 180], – второе обращение поэта к «Лесному царю». Как отмечает современный исследователь, «возвращение отца вечером лесной дорогой, тревога о больном сыне, недобрые предчувствия, смерть ребенка – это фабульная канва, как и характерный романтический антураж, напоминают о стихотворении Гете в переложении Жуковского и в юношеском переводе Бунина» [Владимиров, 1999. С. 32]. Но если в 1886 г. Бунин делает точный перевод баллады Гете «Der Erlkönig», открыто ориентированным на перевод Жуковского, то в 1903–1906 гг. его интересуют уже не построчное воспроизведение немецкого источника и техника литературного перевода, а репрезентативность балладного жанра и мотивной системы «Лесного царя» в отношении собственного биографического опыта. Полагаем, датировка стихотворения может быть уточнена именно в связи с семейными обстоятельствами писателя: в конце 1904 г. заболел и 16 января 1905 г. скончался сын Бунина Коля. Баллада, вероятнее всего, была написана в интервале между 18 января 1905 г. – в этот день было написано письмо Элеоноры Павловны (ма- чехи А. Н. Цакни. – Е. А.) Бунину с трагическим известием [Бабореко, 2004. С. 91], и 1906 г., когда публикуется сборник «Стихотворения 1903–1906» с вошедшей в него балладой «Горе».
Едва ли будет натяжкой предположение, что ключевые в стихотворении мотивы болезни и смерти сына в отсутствие отца коренятся в драматической истории потери Буниным своего единственного ребенка. После расставания писателя с А. Цакни в 1900 г. их сын воспитывался в семье супруги, и Бунин виделся с ним «раз пять в году», при этом «весь дом затворялся у себя и дышал <…> злобой» [Там же. С. 81]. Думается, именно этим обстоятельством объясняется отсутствие в бунинском произведении такого характерного признака балладного жанра, как диалог: постоянная разъединенность поэта с Колей подводила под изъятие этого композиционного фрагмента достоверно-биографическую основу. Ею же объясняется и снятие с отца в стихотворении «Горе» всякой вины за произошедшее, вины, более или менее явственно вытекавшей из глухоты всадника к жалобам ребенка у Гете, Жуковского и молодого Бунина-переводчика «Лесного царя». Со слов В. Н. Муромцевой мы знаем, что причину гибели сына Бунин видел в беспечности бывших родственников, падких на праздное общение: «Жаловался на Цакни, что у них “двери на петлях не держались” и скарлатину занес кто-нибудь из гостей» [Там же. С. 92]. В поэтической обработке эта деталь обрела такое звучание: «Погубили дитя перехожие старцы-калики!» [Бунин, 1987. Т. 1. С. 180].
В лирике Бунина 1906–1916 гг. к характерной топике «метельных текстов» 1886– 1902 гг. добавляются такие компоненты «Светланы» Жуковского, как зеркало, сон и жених-мертвец, формирующие не только настроение лирического героя, но и собственно лиро-эпические балладные сюжеты. Важнейшим лирическим циклом, обращенным к Жуковскому, является группа текстов, написанная Буниным в течение нескольких дней (25.01–13.02.1916): «Богом разлученные», «Сон», «Зеркало», «В горах», «Людмила» и «Колизей».
Внутри так называемого «Жуковского цикла» можно выделить стихотворения-дублеты, объединенные мотивными сцеплениями. В первой паре дублетов «Богом разлученные» и «Сон», написанных 25 и 30 января 1916 г., обыгрываются сюжеты главных баллад Жуковского. Стихотворение «Богом разлученные» ориентировано на произведения «русского балладника», объединенные темой разлуки – автобиографической для Жуковского. Бунин перекодирует в древнерусскую образность (как и в балладе «Горе») такие неотъемлемые детали любовных баллад Жуковского («Пустынник», «Алина и Альсим», «Рыцарь Тогенбург» и т. д.), как антураж средневекового монастыря (пустынной кельи), любовь в буквальном смысле до гроба, обет отречения друг от друга. В «Сне» присутствует атмосфера «Светланы» с ее зыбкой границей между сном и явью, скачкой под луной по бескрайнему снежному пространству и персо-нажем-«мертвецом».
Другой парой дублетов являются стихотворения «Зеркало» и «Людмила», написанные также с разницей в несколько дней – 10 и 13 февраля 1916 г. Оба стихотворения ал-люзивны по отношению к балладному подтексту «Суходола», восходящему, в свою очередь, к «Людмиле» и «Светлане» Жуковского и внедренному в описание любовной интриги Тони и Войткевича, который «глухим голосом» читал героине балладу «Людмила», первый и наиболее экзальтированный вариант сюжета Бюргера о возвращении мертвого жениха. Одновременно важную роль в организации символического пространства повести играет не менее четко ориентированный на мотиволо-гию баллады Жуковского образ зеркала, в отражении которого у фортепиано разыгрывался роман Тони и Войткевича.
Третьей парой дублетов этого периода, связанных с Жуковским, являются бунинские стихотворения «В горах» и «Колизей» (12 и 13 февраля 1916 г.). Если первые дублетные пары содержат балладные аллюзии, то эти два стихотворения позволяют обнаружить связь с элегиями Жуковского и его эстетическим манифестом «Невыразимое». Стихотворение «В горах» начинается с парафраза слов Жуковского. «Поэзия темна, в словах не выразима » [Бунин, 1987. Т. 1. С. 315], – пишет Бунин. Сравним у Жуковского: «Кто мог создание в словах пересоздать? / Невыразимое подвластно ль выраженью?..» [Жуковский, 2000. Т. 2. С. 129]. Именно в «Невыразимом», ставшем гимном романтической эстетики, Жуковский сформулировал антитезу богатства внешнего и внутреннего мира, с одной стороны, и скудости поэтического языка для их передачи – с другой.
После долгого поиска нужного начала стихотворения Бунин останавливается на определении поэзии, данном Жуковским:
сначала «Что есть поэзия?» – затем «Душа поэзии – она» – и, наконец, «Поэзия темна, в словах невыразима» [Двинятина, 2007. С. 366].
Т. М. Двинятина отмечает, что «в 1910-е годы интертекстуальная составляющая поэзии Бунина становится более парадоксальной. Во-первых, тематика стихотворения уже не определяет круг возможных текстов-источников <…>. Во-вторых, теперь Бунин нередко цитирует в своем тексте не один, а сразу два (и, возможно, больше) источника» [Двинятина, 1999. С. 22]. Дублетные пары «Богом разлученные» и «Сон», «Зеркало» и «Людмила», «В горах» и, в особенности, «Колизей», образующие «Жуковский цикл» 1916 г., демонстрируют механизм циклообразования Бунина. «Колизей» содержит открытую аллюзию на элегию Жуковского «Сельское кладбище», еще более очевидную благодаря также, вероятно, имевшимся в виду пушкинским строкам из «Евгения Онегина». Сравним:
«Колизей» И. А. Бунина:
Дул теплый ветер. Точно сея
Вечерний сумрак , жук жужжал
[Бунин, 1987. Т. 1. С. 317].
«Евгений Онегин» А. С. Пушкина:
Был вечер . Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал
[Пушкин, 1978. Т. 5. С. 126].
«Сельское кладбище» В. А. Жуковского:
В туманном сумраке окрестность исчезает…
Повсюду тишина; повсюду мертвый сон; Лишь изредка, жужжа , вечерний жук мелькает [Жуковский, 1999. Т. 1. С. 53].
В своем разборе «энтомологической» ме-татекстовой формулы у Пушкина А. С. Не-мзер отмечает, что «ударная сентенция о жуке, отсылающая не только к мелькнувшему в элегии крылатому насекомому, но и к дружескому (сокращенному от фамилии) прозвищу автора: “Жук жужжал” здесь, кроме прочего, означает нечто вроде “Жуковский это уже описал, сами знаете как”» [Немзер, 2000. С. 52].
Таким образом, «Жуковский цикл» Бунина 1916 г. образует единое смысловое поле, связанное с творческим и биографиче- ским наследием поэта-предшественника и уже воплощенное художником XX в. в ранней лирике и прозе, в особенности в «Суходоле». Ядро «Жуковского текста» у Бунина представляет собой компактный балладный образно-мотивный комплекс, дополняемый аллюзиями на конкретные произведения, известные биографические события и, наконец, само имя Жуковского. Стихотворения этого времени относятся к моменту последнего взлета лирического письма Бунина: после 1917 г. происходит переориентация писателя на публицистику и прозаическое творчество.
Интерес Бунина к балладе был обусловлен несколькими причинами. Во-первых, аспект жанрового мышления смыкался здесь с историко-философскими вопросами рода и наследственности: для Бунина увлеченность балладой была напрямую связана с мифологизацией собственного происхождения от того семейно-«поэтического» корня, который дал русской литературе В. А. Жуковского. Во-вторых, в социальной перспективе баллада становилась для Бунина жанром, ассоциировавшимся с культурой русского дворянства XIX в. Так, характерной приметой дворянского быта в «Суходоле» и рассказе «Баллада» становится увлечение героев именно балладами. В произведениях Бунина баллада сделалась не просто историко-культурным фоном или характеристикой литературных пристрастий персонажей, а органичным элементом сюжетного строения, жанровым метатекстом основного повествования. В-третьих, интересующий нас жанр с его комплексом показательных сюжетов и мотивов оказался для Бунина актуальным в силу эсхатологизма исторического мышления писателя. Не случайно балладными мотивами пронизаны произведения, в которых анализируются грозные предзнаменования национальной катастрофы в России: «Деревня», «Суходол», «Жизнь Арсеньева», «Баллада». Этим обстоятельством объясняется и устойчивость в творчестве писателя основного мо-тивного компонента «Светланы» – метели. Метель, ставшая лейтмотивом ранней лирики Бунина, постепенно перерастает из элемента пейзажа, характерной приметы русского ландшафта, в символ происходящего в России. В творческом сознании Бунина актуализируется изначальный полисемантизм метели: метель – мятеж – смута [Даль, 1989. Т. 2. С. 321–322, 374–375, 361–362]. Все эти смыслы уже были актуализированы в претекстах бунинских метелей – произве- дениях Жуковского и Пушкина, в которых природные метели соединяются со смятенностью чувств персонажей и социальноисторическими катаклизмами, а некоторые из них осмысляются позднее как символы революционного хаоса («Бесы», «Капитанская дочка»).
В публицистике Бунин сравнивает события в России 1905–1920-х гг. с мятежами Емельяна Пугачева и Степана Разина. Фоном деяний мятежников XX в. становится мечущийся народ, «метелицу» революции автор «Окаянных дней» воспринимает катастрофически и в пику А. А. Блоку называет «бессмыслицей» [Бунин, 2000. С. 34–35, 144]. В этом ключе Бунин воспринимает события 1917 г., считая точкой отсчета национальной трагедии не октябрьскую, а зимнюю – «бескровную» февральскую революцию. Как свидетельствует эпистолярий писателя, ее природным камертоном становятся метели, затянувшиеся в 1917 г. до самого лета [Бунин, 2007. С. 387; Устами Буниных, 1977. Т. 1. С. 162].
Социально-исторический надлом России и судьбу русской эмиграции в 20-е гг. Бунин также осмысляет в балладной перспективе, сравнивая судьбу соотечественников с персонажами баллады Жуковского «Ивиковы журавли»: «Так было бы, говорю я, если бы мы были просто огромной массой беженцев, только одним своим наличием вопиющих против содеянного в России, – были, по прекрасному выражению одного русского писателя, ивиковыми журавлями , разлетевшимися по всему поднебесью, чтобы свидетельствовать против московских убийц» [Бунин, 2000. С. 149].