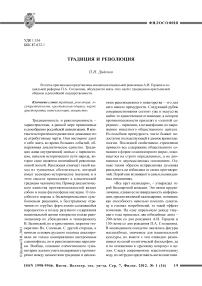Традиция и революция
Автор: Диденко Павел Ильич
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (16), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье оригинально представлены концепции социальной революции А.И. Герцена и социальной реформы П.А. Столыпина, обсуждается связь этих идей с традициями крестьянской общины и российской государственности.
Традиция, революция, государственность, крестьянская община, народ, аристократия, интеллигенция, мещанство
Короткий адрес: https://sciup.org/14974490
IDR: 14974490 | УДК: 1:316
Текст научной статьи Традиция и революция
Традиционность и революционность – характеристики, в равной мере применимые к своеобразию российской цивилизации. В контексте исторического развития и динамики это ее атрибутивные черты. Они явственно дают о себе знать во время больших событий, обнаруживая диалектическое единство. Традиция жива неутраченной связью с первоисто-ком, началом исторического пути народа, которое само является величайшей революционной эпохой. Революция означает такой выход из тупиковых обстоятельств, который имеет всемирно-историческое значение и в этом смысле принадлежит к классической традиции человечества. Пример диалектического единства противоположностей являет собою и наше философское наследие. О способности народа к бескомпромиссным судьбоносным решениям, к бесстрашному отречению от «грубых форм ложно сложившейся народности» в пользу разумного содержания национальной жизни говорил не только революционер по убеждениям и темпераменту В. Белинский, но и христианин, теоретик «теократии» Вл. Соловьев. С другой стороны, к вечным основам русского космоса апеллировали не только консервативно настроенные славянофилы, но и революционные народники. Вообще, сознание отечественного гуманитария должно уметь выдерживать противоречие между ценностями традиции и ценнос- тями революционного новаторства – это для него начало премудрости. Следующий рубеж совершенствования состоит уже в искусстве найти то единственное отношение, в котором противоположности приходят к «золотой середине» – гармонии, а не какофонии, по выражению известного общественного деятеля. Но подобная премудрость часто бывает недоступна господствующей в данное время идеологии. Последней свойственно стремление привести все содержание общественного сознания к форме «однополярного мира», покоящегося на строго определенных, а не двоящихся и двусмысленных основаниях. Однако таким образом исправленная духовная реальность не избавлена от своих противоречий. Порой они возникают в самых неожиданных отношениях.
«Все врут календари», – утверждал герой бессмертной комедии. Это явное преувеличение, однако если завиральность информации, предоставляемой календарями, понимать как способность невольно поселять сумятицу в головах потребителей, то такой эффект возможен. На одну апрельскую декаду текущего года пришлись две юбилейные даты – 200-летие со дня рождения А.И. Герцена и 150-летие со дня рождения П.А. Столыпина. В неожиданном соседстве оказались фигуры масштабные, значимые для национальной культуры, но вместе с тем очевидно разнящиеся по своей политической философии, да и по отношению к «русскому вопросу» в целом. Следуя современному идеологическому коду, их нетрудно представить антагонистами.
Точнее, трудно не представить таковыми. Отсюда и происходит проблема. Как в течение одной недели успешно провести торжественные мероприятия, посвященные памяти выдающихся личностей, кумиров своего времени, управлявших «теченьем мыслей», а в одном случае и прямо страной, но при всем том олицетворявших разные «берега» (по выражению одного из них) общественно-политического раскола XIX – начала XX века? Юбилеи ведь иного формата, кроме чествования виновника торжества вечно благодарными потомками, не предполагают. А между тем все знают, что один герой культуры видел в крестьянской общине спасение для России, другой – источник разложения. Первый из них, «разбуженный декабристами», стоял у истоков массового освободительного, революционного движения, второй, спустя время, явился лидером и знаменем контрреволюции. Даже та часть публики, что, как водится, Пастернака не читала (соответственно, Герцена и Столыпина тоже), что-то слышала об «аннибаловой клятве» одного деятеля и трибуна и знакома с афоризмом другого о «великой России», сегодня бесконечно цитируемым. Каким же образом встроить эти полярно противоположные идеологемы в один ряд позитивных ценностей?
Просто замолчать одну памятную дату в угоду другой не получится, ибо имена юбиляров (в особенности, Герцена) известны всему миру – не казать же себя перед мировой общественностью Иванами, не помнящими родства. С другой стороны, кесарю кесарево – нельзя не считаться с влиятельными сегодня в отечестве Герцена и Столыпина идеологическими схемами и клише. Словом, перед ныне здравствующими представителями российской интеллигенции встала нелегкая задача, что называется, отпраздновать именины и на Антона и на Онуфрия.
Впрочем, задача, кажется, упрощается тем обстоятельством, что А.И. Герцен и П.А. Столыпин все же не являлись в полной мере современниками, реальными персонажами одной эпохи, и постольку имеется основание не драматизировать излишне существующие между ними расхождения и противоречия. Действительно, разница в 50 лет – немалая дистанция. Тот факт, что П. Столыпин при- ходился троюродным братом М.Ю. Лермонтову, практически ровеснику А. Герцена, в расчет можно не брать. Тем более, что весь XIX в. – это череда огромных событий, переломных моментов, когда «карта будня» менялась стремительно, и не только в воображении поздних романтиков и первых декадентов, но и реально совершалась «переоценка ценностей», на арену истории выходили целые генерации «новых людей» – новых почти в буквальном, антропологическом смысле слова. Так что не видится большим грехом утверждение, что революционный демократ эпохи отмены крепостного права и консерватор времени первой русской революции, пришедшейся уже на начало следующего века, отвечали своей философией и практикой на существенно разные проблемы существования и развития российского общества, на разные вызовы мировой истории. Стремление столкнуть их общественно-политические и мировоззренческие взгляды напрямую, в лоб методологически не вполне корректно. Довлеет дневи злоба его... В этих соображениях, направленных на смягчение отношений между великими тенями прошлого, есть свой резон. Во всяком случае, с точки зрения юбилейного этикета и протокола их логика приемлема. Она действовала уже 100 лет назад. Вот что писал П.Б. Струве по поводу столетия Герцена: «Один из национальных героев духа, Герцен не принадлежит какой-либо партии и какому-либо направлению. Не готовые решения и утвержденные рецепты, а дух свободы и культуры и сияние красоты обретаем мы в его творениях» [5, с. 290]. Конечно, таким образом «отретушированного» автора «С того берега» можно примирить с кем угодно. Но на самом деле попытка свести конкретно-историческое противоречие между концепцией Герцена и концепцией Столыпина к противоречию в разных отношениях (разные времена, разные ситуации) упускает из виду то, что в первую очередь сегодня заслуживает внимания – то общее, структурно-схожее, что существовало между ними именно как непримиримыми сторонами одного и того же идейного конфликта.
В чем состоит это сходство? Оба наших юбиляра могли бы о себе сказать, используя слова Евангелия, что они несут в общество не мир, но меч, – оба по-своему исповедуют принцип дифференциации, размежевания, скорейшего и радикального отделения добра от зла, зерна от плевел, живого от мертвого в общественной жизни, свободного от рабского, трудового от паразитического. Различие заключается только в определении конкретной области применения действия евангельского меча.
Столыпин мыслью и делом обратился к реформированию русской деревни (не без оснований поставив знак равенства между нею и Русью в целом). Широко известно его признание, некогда вызвавшее возмущение в левых оппозиционных кругах, что крестьянская политика руководимого им правительства делает ставку «не на убогих и пьяных, а на крепких и сильных» [4, с. 178]. Эти слова допускают не только буквальное толкование. «Убогое», «слабое» – это унизительно отсталое в реалиях российского быта, общественной морали и производства, далеко не достигающее даже нижней планки цивилизованности на Западе. За долгие века крепостничества (против любой критики которого Столыпин никогда не возражал) «слабость» как массовое явление стала не просто недостатком, а превратилась в нечто злокачественное, грозящее гибелью общественному организму («пьянство» в этом контексте фигурально означает порочность, развращенность как таковую). Но в народе имеются воля и энергия, необходимые для избавления от векового недуга, – их и представляют «крепкие и сильные» (в экономическом смысле «личные собственники», выделившиеся из общины хуторяне).
Проект аграрной реформы возник задолго до того, как П. Столыпин возглавил кабинет министров, но именно ему было суждено дать зеленый свет практике «отрубов», неотвратимо ведущей к разрушению сельской общины. Это было нелегкое решение. Вряд ли у премьера-реформатора можно подозревать какие-то психологические мотивы наподобие врожденной ненависти, «идиосинкразии» к общинному, коммунистическому началу вообще. Нет, инстинктивным антикоммунистом он не был. Его критические претензии к общинному устройству деревни, сохранившемуся в начале XX в., носили другой характер. Столыпин хорошо видел, что этот архаичный строй отношений делал русского крестьянина, честного труженика и хозяина, безоруженным перед новым социальным злом, во весь голос заявившем о себе в деревне и в городе. Это зло уравнительства – смердяковщина, позже удостоившаяся названия и шариковщи-ны. Будучи «социально близкими» простому мужику, шариковы представляли для него самую страшную угрозу. Беспрепятственная активность легиона «новых бесов» могла оставить после себя в буквальном смысле выжженную землю. Причем народившийся асоциальный тип, при всех его уравнительских замашках, тоже нельзя считать плотью от плоти общины, вменять в вину коммунистическому принципу как таковому. Маркс справедливо определял сущность подобного явления как «зависть мелкой собственности к более крупной». Конечно, такого рода чувство совсем незнакомо истинно и истово общинному Платону Каратаеву. Смердяковы, или «маленькие чумазые» (если вспомнить еще одно их определение в классической русской литературе), всегда и везде суть уравнители в свою пользу, и когда они выдвигают свой знаменитый лозунг «все поделить», то действительный его смысл надо искать не в стремлении к справедливости, хотя бы грубой и темной, но, в конечном счете, в стремлении убрать со своей дороги всех возможных конкурентов. Абстрактно судя, это явление правильнее было бы отнести к продуктам начавшейся буржуазной модернизации России. Однако абстрактные выкладки в сфере социальной мысли имеют малую цену, как и везде. Конкретная суть дела, которую прекрасно осознавал премьер П. Столыпин, состояла в том, что быстрое развитие классических капиталистических отношений собственности в сельском хозяйстве России не только ставило заслон агрессии взбесившегося обывательского ничтожества, но и сводило на нет весь этот бунт «серого сверхчеловека».
Нигилизм плебейского образца, эксцесс мелкобуржуазной стихии представляет значительную величину в условиях, когда народная жизнь опутана средневековыми экономическими и моральными пережитками. На этом фоне шариковская «деконструкция» как бы даже являет пример дерзкого освобождения от косного прошлого, словно бы выражает самую правду наступившего века, откровение о новой земле и новом небе. Старой крестьянской морали трудно что-то противопоставить такому захватывающему дух новаторству. Казалось бы, начавшийся процесс распада общины обречен совершаться по его правилам. Однако у «чумазого» авангарда тоже имелась своя ахиллесова пята. Эти силы, говоря словами Гегеля, пытались запрячь дух отрицания в свою колесницу. А это слишком самонадеянное намерение для любого социального субъекта, даже такого, что наделен выдающимися историческими достоинствами, не говоря уже о рассматриваемом общественном типе, особыми дарованиями не блещущим.
Гегелевский «дух отрицания» имел своим прообразом реальную негативность, присущую буржуазному прогрессу. Как указывали многие критики буржуазной цивилизации, начиная с романтиков, капиталистический способ производства отмечен ростом не только производительных сил, но и сил разрушительных. Безжалостная борьба интересов, конкуренция, кризисы, разорения, факты бессмысленного расточения общественного богатства всегда сопровождали и будут сопровождать эту форму прогресса человечества. Но, по мысли Гегеля, все подобные нерадостные факты являются следствием того, что мировой дух на этой стадии развития принимает вызов от всех возможных инстанций отрицания и опровержения его творческой деятельности, предоставляя им режим наибольшего благоприятствования, позволяя им развернуться во всю ширь. Нет такого зла, которому бы не дано было право на «критику» положительного начала созидания – в конце концов, начала бытия. Заранее обусловленных привилегий в этом споре, легкой жизни для себя «дух капитализма» (как сказал бы уже М. Вебер) не ищет. История капиталистического общества «охраняет своим всеобщим законом только интересы развития. Всякая остановка на этом пути, всякая удовлетворенность материальным благополучием становится изменой мировому духу...» [3, с. 164]. Ценности развития отдают себя на правеж максимуму отрицания. Но что же выясняется? Такой максимум негативности (ее, так сказать, актуальная бесконечность) на самом деле существует, однако он не совпадает ни с одной отдельной, особенной и определенной «крити- ческой инстанцией», обращенной против начала творчества и производства, и, стало быть, рано или поздно отрицает сами эти источники смуты и хаоса. Зато вселенская мефистофельская сила отрицания где-то сходится, образует единство с самим созидательным мировым духом. При всех недобрых отдельных проявлениях негативная энергия буржуазного прогресса в конечном счете расчищает дорогу для носителей морали труда, а не бунта.
У шариковых явно или неявно присутствовала претензия монополии на отрицание, они чувствовали себя крайними разрушителями, «частными собственниками» энергии великого Ничто. Но в этом и состояло роковое для них заблуждение. Не стесненное общинными рогатками развитие «духа капитализма» в деревне, становление здоровой конкуренции и естественной борьбы интересов в первую очередь ударило бы по ним. Зато перспективы существования в пореформенной России «традиционного» мужика, наделенного трудолюбием, практической сметкой, навыками самодисциплины, были вполне оптимистическими. По убеждению П. Столыпина, из всех слоев общества именно русский крестьянин в массе своей был наиболее способен к перестройке в духе необходимой для страны модернизации. Столыпин прямо призывал интеллигенцию и властные круги к вере в народ.
Пользуясь правами и свободами, предоставленными верховной властью, фермеры-хуторяне, в представлении Столыпина, способны были внести решающий вклад в преодоление отставания российского мира от Запада и тем самым ликвидировать источник национальной порчи. Но вместе с тем позволено ли будет сказать, что дальнейший прогресс «крепкой и сильной», или великой России (чтобы употребить знакомое всем выражение Столыпина) будет вечно измеряться западными мерками? Согласно Столыпину, вовсе нет: «нельзя к нашему русскому стволу прикреплять чужестранный цветок» [4, с. 149]. То новое слово, которое несет освобожденная Россия миру, само способно выступать универсальным мерилом человеческих ценностей.
Оппозиция «слабое, убогое – сильное, здоровое» играет важную роль и у А.И. Герцена в его философии истории России. Полюс «слабого» здесь тоже выступает в качестве наследия крепостничества и татарщины. Глубину этого общественного зла, символизирующего исторический провал Руси, так же, как и у П. Столыпина, можно приблизительно измерить в категориях отставания от передовых форм европейской цивилизации. Но, в отличие от будущего философа в премьерском кресле, Герцен диагностирует очаг массового порока не в российской деревне, крестьянской общине, а в бытии верхов общества, – если употребить выражение славянофилов, не в «стихии земли», а в «стихии государства». Именно в среде сильных мира сего и сложилась пагубная привычка, позорная притерпе-лость к слабости, незначительности и отсталости, инерция «применения к подлости», по слову Щедрина, которую и можно считать корнем зла. Та привычка, которая, по Аристотелю, формирует характер. В данном случае, конечно, речь идет более о ничтожности, нищете «духовной», чем «материальной». Господское, государственное сословие оказалось несостоятельным прежде всего в политическом отношении, в роли верховной инстанции управления «русской землей». Со времен вассальной зависимости от Орды наша аристократия, как показывает анализ Герцена, так и не избавилась вполне от комплекса властителей неполноправных, ущербных, всего лишь условных и призрачных. Научившись не хуже татар притеснять и обирать русский народ (а если предоставляется удобная возможность, то и окрестные народы), наша знать не обнаружила и малейшей способности к развитию в себе той смелости духа, дерзости ума и воли, которые необходимы с точки зрения решения первостепенно важной для великой страны задачи – завоевания исторической инициативы. Да, собственно, господствующую страту и трудно назвать аристократией, если держаться точного значения слов. «Хозяевам жизни» в России не только незнакомы понятия рыцарской чести и доблести, но во многих случаях они не могут похвастаться и генеалогией, действительно знатным русским происхождением. Природа их «византийско-татарско-немецкая». Герцен пишет, что русских царей всегда «окружала олигархия, лишенная культуры и достоинства. Эти гордые вельможи, кичившиеся должностями, которые занимали их отцы, бывали биты плетьми на царских конюшнях и даже кнутом на площади, сами не считая то за оскорбление» [1, с. 408]. В «субкультуре» высших, приближенных к трону, кругов вообще отсутствует элемент традиции – вещь совершенно немыслимая для аристократии Запада, гордой укорененностью своего родового уклада жизни в вековых обычаях и преданиях нации. В консерватизме западных синьоров и лордов есть своя черта народности (что признавали даже наши славянофилы – к примеру, часто оказывавшийся оппонентом молодого А. Герцена А.С. Хомяков), но ничего подобного невозможно усмотреть в образе жизни отечественных магнатов. Тут даже и о консерватизме как таковом говорить не приходится – Герцен на многочисленных примерах показывает, что высшая бюрократия чрезвычайно легка на подъем – всегда готова по команде свыше приступить к каким угодно эпохальным реформам, перестройкам, «великим переломам». При этом нововведения подражают всяким, в том числе и западным образцам. Но в любом случае они мало способны служить действительному освоению обществом общечеловеческих ценностей. Ведь поскольку эти ценности цивилизации, высочайше предлагаемые в пользование коренному российскому населению, идут в тесной увязке с требованием признания «цивилизованности» же, то есть легитимности и моральной состоятельности самих властей, то трудно ожидать от народа, чтобы он с открытой душой принял такого рода благодеяния. К тому же столь прагматичная адаптация форм мировой культуры сама по себе искажает и разрушает их смысл. Отношение казенной и, в сущности, безродной российской «аристократии» к ценностям европейской культуры (во всем диапазоне их от политики до поэтики) проникнуто духом мещанской уравнительности. Русскому народу, как считал Герцен, чужд этот дух.
Тема критики мещанства не случайна в творчестве А.И. Герцена. Своей не убывающей по сей день славой на Западе русский мыслитель более всего и обязан «имиджу» открывателя (наряду с С. Кьеркегором, Ф. Ницше, Д.С. Миллем) этой темы в европейской философии. Но важно не забывать, что феномен мещанства – этой духовно ограниченной субстанции, стремящейся тем не менее ка- питал приобрести за счет своеобразного «культурного развития» (оборачивающегося для самой общественной культуры перспективой опуститься до его, мещанства, собственного потолка возможностей), – впервые был опознан Герценом в лице российской правящей касты.
Таким образом, по Герцену, злокачественную отсталость, социокультурную «убогость», превращающуюся в агрессивную уравнительную силу, представляет способ существования верхов общества. Но где же полюс «здоровья», потенциального изобилия? Герцен был народник, а следовательно, абсолютную основу и правду российской истории видел, так же, как и Некрасов, Толстой, Бакунин, в народе, в его неискаженных творческих силах. Народ пока «побежден, но он не лакей. Его суровый, демократический, патриархальный язык не прошел науку передних. Мужественная красота его сохранилась нетронутой под двойным игом царя и помещика» [1, с. 380]. Однако самый факт присутствия такой «крепкой и сильной» основы предполагает, так или иначе, распространение ее влияния (посредством тех или иных «эманаций») и на сферу высокой культуры, реальными носителями которой выступают люди не из народа, а из привилегированных классов. Именно это и утверждает Герцен. Власть мещанской по духу «аристократии» не всесильна даже в пределах «стихии государства», какова она есть реально, в сфере городской культуры, в жизненном пространстве образованного общества. Иначе и быть не может – слишком велики масштабы российской цивилизации, чтобы ограниченная по определению субкультура, хотя бы и имеющая в своем распоряжении все средства насилия, могла бы установить над нею тотальный контроль. Более того, начальствующая от века «элита» вынуждена не только признать факт существования неподконтрольного ей сектора общественной самодеятельности, но и волей-неволей пойти на известный компромисс с ее субъектом. Иначе говоря, рядом с властями предержащими на поприще государственного и культурного строительства заявляет свои права нечиновная «интеллигенция».
У Герцена много определений интеллигенции. Самое простое и исходное: часть при- вилегированной (хотя бы только в отношении образования) верхушки общества, обнаруживающая (в отличие от отщепенской «аристократии») в формах и приемах своей духовной и практической деятельности существенную генетическую и логическую связь с народной основой. Это соответствует тому значению термина «интеллигенция», которое давно известно в философии и богословии. Интеллигенция – слой сознания (вариант: общественного сознания), в котором реализуется духовное единство с Абсолютом (Богом). Согласно историософии Герцена, интеллигенция как субъект свободного духовного производства и демократически ориентированной общественной практики возникает в обществе, подобном российскому, вполне неизбежно. Она представляет собой в известной мере стихийный продукт исторического развития. Можно сказать, что ее порождает сам масштаб исторических событий, переживаемых великим народом. Идея, культурно-исторический принцип интеллигенции и развивается из того отпечатка, который накладывает воля народа на эти судьбоносные события. Но все это происходит именно стихийно, со всеми издержками, свойственными такому типу развития. Герцен и выдвигает перед интеллигенцией задачу привести к сознательной, разумной, «системной» форме то содержание, ту историческую тенденцию, которая и увенчалась на определенном этапе возникновением ее самой, российской интеллигенции. Логика, присутствующая в этом рассуждении, весьма характерна для выдающегося русского философа. Герцен независимо от Маркса сформулировал положение, что сознание есть сознанное бытие. Г. Шпет так представляет эту логику: «...Человек не вносит свой разум в вещи, а находит разум в вещах, – или, как формулирует Герцен, “...человек не потому раскрывает во всем свой разум, что он умен, и вносит свой ум всюду, а напротив, умен оттого, что все умно”. Остается только найти, увидеть этот ум вещей, и дуализм вещи и мысли преодолен» [6, с. 225]. В конкретных условиях места и времени духовная работа интеллигенции как органа самосознании общественного бытия должна была явиться не чем иным, как развитием идеологии массового освободительного движения, народной революции. Гер- цен полагал, что только взрыв революционной энергии окончательно очистит общество от его пороков. Дело интеллигенции – свести к минимуму отрицательные последствия этого взрыва. «Герцен не раз писал, что социальная революция вовсе не означает гибель драгоценной ткани старой культуры, по крайней мере, если господствующие классы не станут проявлять безумного упорства и если участие сознания в революционном процессе будет достаточным. Для Герцена революция является, скорее, возрождением культуры, источником поэзии» [2, с. 282].
П. Столыпин не желал никаких революционных «великих потрясений». Абсолютное начало национальной жизни для него представало в традиции русской государственности, в культуре великой державы. По его логике, лучшие силы народа, оказавшиеся способными вырваться из «власти тьмы», должны найти для себя духовную, правовую, политическую и не в последнюю очередь экономическую (помощь Крестьянского банка и пр.) опору именно в этой традиции – вечно живой и растущей в своем благом содержании за счет ассимиляции достижений прогресса. Зачем же «потрясать» устои всего ценного на Руси? Знаменитая фраза, сказанная им в Государ- ственной Думе, дословно звучит так: «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». «Нам...» В это «мы» для Столыпина, очевидно, входит и русский мужик, хозяин своего хутора и своей судьбы.
Кто же был прав – Столыпин или Герцен? Скорее, по-своему правы оба. Проблема заключается в синтезе этих двух разных и даже противоположных применений одной общей логики. В прошлом этот синтез не удался. Может быть, сегодня пришло его время?
Список литературы Традиция и революция
- Герцен, А. И. Сочинения: в 9 т./А. И. Герцен. -М.: Гос. изд-во худож. лит., 1956. -Т. 3. -728 с.
- Лифшиц, М. А. Поэтическая справедливость/М. А. Лифшиц. -М.: Фабула, 1993. -472 с.
- Лифшиц, М. А. Собрание сочинений: в 3 т./М. А. Лифшиц. -М.: Изобраз. искусство, 1986. -Т. 2. -448 с.
- Столыпин, П. А. Нам нужна великая Россия/П. А. Столыпин. -М.: Молодая гвардия, 1991. -411 с.
- Струве, П. Б. Patriotica/П. Б. Струве. -М.: Республика, 1997. -527 с.
- Шпет, Г. Г. Очерк развития русской философии/Г. Г. Шпет. -М.: РОССПЭН, 2009. -848 с.