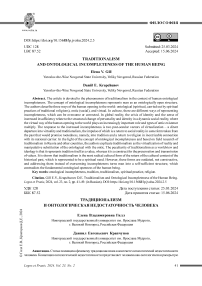Традиционализм и онтологическая недостаточность человека
Автор: Гилл Е.В., Крапчунов Д.Е.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена феномену традиционализма в контексте онтологической недостаточности человека. Концепция онтологической недостаточности представляет человека как онтологически раскрытую структуру. Авторы описывают три способа размыкания человека: онтологический (духовный, осуществляемый духовными практиками традиционных религий), онтический (социальный) и виртуальный. В культуре существуют разные способы репрезентации недостаточности, которая может преодолеваться или корректироваться. В глобальной реальности кризис идентичности и усиление чувства нехватки связаны с изменением структур личности и идентичности в динамичной социальной реальности, где всё большую роль играет виртуальный способ размыкания человека к миру и множатся виды онтического бытия. Ответом на усиление нехватки становятся два постсекулярных вектора виртуализации: прямой уход в виртуальность и традиционализм, импульсом которого является возвращение к социальному в такой его утерянной форме, которая бы обещала укорененность, а именно в традицию; возврат к религии в неразрывной связи с ее национальным носителем. В свете концепции онтологической недостаточности и на основе полевых исследований явлений традиционализма в России и других странах авторы эксплицируют традиционализм как виртуализацию реальности и манипулятивную подмену онтологического онтическим. Особенность традиционализма как мировоззрения и идеологии состоит в том, что он представляет саму традицию в качестве ценности, тогда как она есть механизм сохранения и передачи ценностей. Показано, что традиционализм представляет собой наиболее радикальную культурную форму возврата структур исторического прошлого, которое представляется духовно необходимым. Однако эти структуры являются отжившими, не конструктивными, и обращение к ним вместо преодоления недостаточности превращает человека в самодостаточную структуру, то есть противоречит принципиальной онтологической открытости человека.
Онтологическая недостаточность, традиция, традиционализм, духовная практика, религия
Короткий адрес: https://sciup.org/149146833
IDR: 149146833 | УДК: 128 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2024.2.5
Текст научной статьи Традиционализм и онтологическая недостаточность человека
DOI:
Цитирование. Гилл Е. В., Крапчунов Д. Е. Традиционализм и онтологическая недостаточность человека // Logos et Praxis. – 2024. – Т. 23, № 2. – С. 41–49. – DOI:
Взгляд на человека как на существо недостаточное обоснован тем, что человек, движимый чувством неудовлетворенности, принужден от рождения преобразовывать внешний мир. Неудовлетворенность в той или иной форме сопровождает человека на протяжении всей жизни. Само рождение, в момент которого человек навсегда теряет комфортное единство со средой, свойственное перинатальному периоду, актуализирует границу со средой, через которую путем личных усилий нужно переходить для удовлетворения потребностей.
Начиная с рождения человек всегда нуждается в чем-либо: в пище, жилье, внимании, признании, самореализации, в эмоциональном самовыражении, а также в личном пространстве и одиночестве, которое может быть недоступно. При этом исправить личный сценарий очень трудно, и внешнее, событийное изменение не обеспечивает избавления от неудовлетворенности и невротической зависимости от объектов потребности, не позволяет перейти к длительному переживанию достаточности, которое было бы не сиюминутным моментом, а состоянием сознания. Конечно, фундаментальные потребности беспрерывно возникают снова, и природа делает нехватку принципом жизни. Но человек, кроме этого, стремится к повышению качества удовлетворенности жизнью, выходит за границы необходимой биологической и социальной нормы выживания и даже делает саморазвитие и цель неотъемлемыми принципами экзистенции как способа человеческого бытия. Человек превосходит остальных животных не только в успешности приспособления к действительности, но и в неутолимости жажды восполнения нехватки, в постоянном преумножении и разнообразии всех видов нужды. Человек склонен к чревоугодию, тщеславию, убийству ради спорта, к символической зависимости от вещей и тяге к потреблению, которая нацелена не на функциональное использование вещей, но только на их символическое участие в построении социальной идентичности и поддержании чувства собственной значимости. Диагноз булимии в психиатрии иллюстрирует явный пример недостаточного бытия, когда влечение к пище происходит не вследствие голода, но по причине травматической незавершенности гештальта, из-за потребности, которая либо оставалась неудовлетворенной в течение долгого времени, либо привела к сильному переживанию и была «вытеснена» в область бессознательного. Булимия может встречаться и у животных, но у человека она связана не только с недоеданием, и ее причиной может быть любое неэффективное взаимодействие со средой. Булимию можно рассматривать как иллюстрацию неустроенности, неприкаянности бытия человека, невозможности исполнения его желания обрести постоянное счастье и блаженство.
Человеку, помимо функциональной нехватки, которая относится к биологической и социальной сферам, охватываемым понятием «онтическое бытие», свойственна онтологическая недостаточность, которая не примыкает ни к какой отдельно взятой топике компенсации и может быть обозначена как недо-определенность бытия до целостности. Недостаточность человека – термин более фундаментальный, нежели «нехватка», потому что он указывает на фундаментальную характеристику существования, всегда не-опреде-ленного, незавершенного, развивающегося, частичного, расколотого, или, в теологической терминологии, – бытия падшего, от-пад-шего от Бога. Недостаточность как частичность бытия и прерывание связи с целым есть основной момент религиозной сотериологии, где человек есть онтологически раскрытая структура, стремящаяся к преодолению своих границ, разомкнутая к иному, превосходящему ее бытийному модусу, по сравнению с которым она имеет редуцированный характер.
Согласно исследователю православной духовной практики исихазма С.С. Хоружему, существуют три способа размыкания человека: онтологический, онтический и виртуальный. Только в онтологической топике реализуется «размыкание в бытии, к иному способу бытия... эталонными примерами которого служат духовные практики» [Хоружий 2013, 54]. Опираясь на исследования С.С. Хоружего, духовной практикой мы называем практическую реализацию стремления человека к Инобытию. Это стремление проявляется на ме-таантропологическом уровне, через преодоление конечности и смертности как характеристик, обозначающих предельные границы бытия человека. Разработка «органона» духовной практики производится религиозным сообществом в течение жизни нескольких поколений, и это сообщество является духовной традицией. Эффективность духовной практики может быть «проверена» опытом не одного или нескольких представителей традиции, но целой системой доктрины, метода и опыта, которая составляет традицию и содержит эзотерическое знание, ядро духовной практики.
Особенность риска жизни современного человека заключается в том, что он идет не извне (из природы или общества), а изнутри, проявляясь в модификации антропотипов [Хоружий 2015]. Ответом на усиление нехватки становятся два постсекулярных вектора виртуализации: прямой уход в виртуальность и традиционализм. Импульсом последнего является возвращение «домой» (словами Хайдеггера), к социальному в такой его утерянной форме, которая бы обещала укорененность, а именно, к религиозной традиции в ее национальном проявлении.
Мы согласны с тем, что традиционализм – это « социально-философская доктрина или отдельные консервативно-реакционные идеи, направленные против современного состояния культуры и общества и критикующие это состояние в связи с его отклонением от некоего реконструированного или специально сконструированного образца, который выдается за исторически изначальную, а потому идеальную социокультурную модель, сохраняемую в корпусе особого знания» [Макаров, Пигалев 2002, 183].
Традиционализм и, прежде всего, интегральный традиционализм как явление современности был и остается объектом и предметом серьезных научных исследований [Элиаде 2000; Быстров 2001; Макаров 2001; Дугин 2002; Sedgwick 2004]. Предметом нашего исследования является тот аспект традиционализма, который демонстрирует взгляд на традицию извне и проявляется в виде консервативной идеологии, связывающей традицию с духовностью.
В данном отношении важно различение Традиции и традиции. Традиция как духовная практика, о которой писал Хоружий, есть такой процесс на онтологической границе, который актуализирует взаимодействие (размыкание) человека с Иным способом бытия, тогда как в онтическом размыкании к миру наличного, или сущего, Иное остается недоступным, либо его место занимает область Бессознательного. Духовные Традиции, такие как исихазм, суфизм, йога и даосизм, следует отличать от традиции с маленькой буквы – как структуры онтического плана бытия. Такая традиция, содержащая правила, регулирующие поведение людей, передающиеся из поколения в поколение, является социальным механизмом транслирования культурного содержания, остенсивной формой культуры.
Традиционализм не может возникнуть в традиционном обществе, так как сама традиция в апологетике не нуждается. Если европоцентризм был естественным видом самопонимания европейской культуры на протяжении многих веков, а многие межрелигиозные конфликты в разных странах – Сирии, Египте, Индии – имеют отложенный характер и являются его следствием, то с наступлением кризиса культуры на рубеже XIX и XX вв. европоцентризм мутирует, и, пережив период секуляризации и мультикультурализма, возвращается в формах традиционализма, который проявляется в попытках возрождения этнических традиций или «традиционной» религии как якобы жизненно необходимого основания культуры и идентичности. Между тем этноцентризм и его российское проявление – православие-центризм – является поздним феноменом постсекуляризма наряду с постструктурализмом в философии и в целом с постмодерном.
В данном случае мы имеем дело с цепью подмен: онтологического – онтическим, духовного – культурным, культурного – религиозным, а религиозного – православным. Православие-центризм является мейнстримом в сегодняшнем российском традиционализме. На учебных и даже на научных мероприятиях часто по умолчанию происходит отождествление православного с духовным. Хоружий отмечает, что вместо термина «традиция» часто предпочитают использовать «еще более неопределенную формулу “традиционные ценности”» [Хоружий 2017, 105]. Примером традиционализма являются псевдонаучные тексты А.Л. Дворкина, который активно употребляет слово «секта» в значении антипода традиционной религии не как научное религиоведческое понятие, а как негативный собирательный ярлык для всех неправославных религиозных организаций (и прежде всего новых религиозных движений – НРД, появившихся на Западе), у которых есть только две общие черты: они являются религиозными меньшинствами и не нравятся автору. В учебном пособии «Сектоведение» Дворкина используется стиль, далекий от научного или научно-популярного и доходящий временами до уровня брани в адрес «сект», с которыми автор знаком по опыту случайных встреч с отдельными представителями этих движений. Например, утверждается, что «кришнаиты» (употребляется именно это уничижительное прозвище) обязательно постараются при встрече с человеком выманить у него деньги. Есть и еще более агрессивные обвинения, без всяких ссылок на факты: «история показала, что по приказу своих руководителей рядовые кришнаиты, не задумываясь, шли на преступления» [Дворкин web]. Резко негативная оценка учений некоторых известных философов, например, Шивананды, учеником которого был Мирча Элиаде, не подкреплена никакими доказательствами. А.Л. Дворкин явно не знаком с учением Шивананды, которого он безосновательно относит к неоиндуизму. Оценочные суждения, вернее, осуждения, напоминающие охоту на ведьм эпохи Возрождения, легко принимаются многими читателями «Сектоведе-ния» за истину в силу религиозной безграмотности населения, и это провоцирует негативное отношение людей к религиозным организациям, и особенно к НРД, провоцируя межрелигиозную рознь. Виртуальный образ наукообразной деятельности создается благодаря имитации научных методов и подмены понятий словами, а также путем прямого искажения фактов. Не только в России, но и в европейском пространстве в целом, особенно под влиянием антикультового движения, широкое употребление слова «секта» создало одноименный симулякр, несущий, по словам известного английского религиоведа Эйлин Баркер, эмоциональный окрас и не подразумевающий конкретного научно выводимого содержания, а наоборот – формирующий негативное отношение к несуществующему содержанию [What Are New... web].
Поскольку концепт «традиционные ценности» находится на пересечении национального и религиозного, он стал орудием манипуляции традиционалистов. Несмотря на то что в Указе Президента РФ от 09.11.2022 № 809 [Указ Президента РФ от 09.11.2022... web] под традиционными ценностями пони- маются те, которые легли в основу российской идентичности, а вовсе не религиозные и не специфически христианские, данные ценности часто связывают исключительно с христианством [Чиркова web; Морозова 2009; и др]. Согласно Конституции РФ Россия – многонациональное государство, все религии которого (как минимум три конфессии христианства, ислам, буддизм, иудаизм и иные религиозные организации) вносят вклад в «культурное наследие». Однако в учебниках по обществознанию, включенных в федеральный перечень ФИПИ, слово «церковь» употребляется как синоним религии («церковь» как один из каналов социальной мобильности и как агент социализации), что прямо исключает, например, ислам, в котором нет церкви [Котова, Лискова 2021]. Конечно, школьник об этом не знает, но тем хуже, что он не может критически отнестись к воспитанию, основанному на шовинистской подмене. Такое выборочное прививание традиционных ценностей взращивает не патриотизм, а национализм и невежество, враждебность и недоверие к другим религиям, и особенно к НРД.
Присутствие концепта «traditional values» в образовании критикуется западными религиоведами, которые находят, что содержание таких ценностей негласно несет христианский смысл. Исследователи отмечают, что очевидна неоспоримая дискурсивная гегемония христианского представления о религии в качестве системы отсчета почти для всего религиозного образования, где христианская позиция подается так, как если бы она была не отдельным мнением, а универсальной точкой зрения на религию. Таким образом, ученик и студент лишается возможности получить светское образование [Alberts 2019].
В России мы можем наблюдать разные формы традиционализма, и общая их черта состоит в идеализации определенного периода прошлого России [Русская Народная... web], которое обладает монополией на особую мораль, потерянную российской культурой (когда именно – возможны варианты: в связи с Крещением Руси, с Октябрьской революцией и т. д.). Яркое проявление российского традиционализма – неоязычество. Здесь следует отметить идею Н.В. Левашова о геноциде русов и русского народа, изложенную в книге «Россия в кривых зеркалах» [Левашов 2013] и многочисленных выступлениях автора.
Волна возрождения идеи уникальности духовного пути России и «русской идеи» (Ф.М. Достоевский) началась в постсоветский период на фоне падения уровня жизни и потери уверенности в завтрашнем дне и была одним из направлений «религиозного возрождения». Неоязыческие организации, такие как «Покон Рода Всевышнего», «Община Вятичей», не желая различать разные народы славянской языковой семьи, относят себя к некому неделимому абстрактному славянству [Крапчунов 2022, 191]. Феномен «религиозного возрождения» в его проязыческих или же проправославных проявлениях отвечает постсекулярной потребности в укорененности в условиях динамичной реальности и неопределенной идентичности [Литвинцева, Пашедко 2017, 32]. Базируется ли поиск «русской культуры» на дореволюционных народных обрядах, на языческих ритуалах древних славян или на идеализации российской монархии и «православии, самодержавии, народности» – все эти движения демонстрируют выбор определенной традиции с тем, чтобы положить ее в основу концепта развития российской культуры.
На наш взгляд, не принципиально, является ли данная традиция, которой отдается предпочтение, вымышленной или согласуется с историческими фактами. Нет подлинной и неподлинной традиции, так как историческая реальность необязательно является ее основой. По мнению британского профессора, марксиста Эрика Хобсбаума, само появление движения в защиту или за возрождение традиции в любом случае является изобретением традиции, потому что «разрывы в преемственности отличают и те движения, что сознательно подают себя как “традиционалистские” и апеллируют к группам, всеми признаваемым за хранителей исторической преемственности и традиции, например к крестьянам» [Хоб-сбаум 2000, 54].
Традиция развивается, обретая новые формы, но традиционализм выбирает определенные отжившие формы (в противном случае стремление их вернуть не имело бы смысла), старается репрезентировать или ре- конструировать их, основываясь на том, что «традиция жива», но была либо искажена, либо забыта; но тем самым утверждается прямо противоположное, а именно – что традиция умерла, поскольку живая традиция есть самоочевидная естественная реальность, которая не нуждается ни в поддержке, ни в возрождении. Традиционалисты выбирают культурные формы определенного исторического периода и представляют их как безусловную ценность. Однако ценность – это содержание традиции, а культурные формы – это механизм передачи ценностей, и перенос прежних форм на новое историческое содержание представляет собой виртуализацию традиции, превращение ее в структуру знаков, которые демонстрируют сами себя, то есть в симулякр. Ж. Бодрийяр писал, что симулякром стала реклама, так как из рекламы товара она сама превратилась в товар [Бодрийяр 2013, 122]. С тех пор прошло много лет, и симулякром стала традиция, так как в ней отпала необходимость, и она стала спекуляцией на человеческом страхе перед неопределенностью глобального мира постмодерна. Когда переменные становятся константами, происходит переход от традиции к традиционализму.
Традиционализм является ретроградным движением и социально деструктивен, так как симулирует возрождение более не актуальных форм культуры, которые более не несут содержания, не имеют связи с действительностью. При этом другая часть прошлого, как правило, используется как антипод «подлинной» традиции и подвергается особой критике, игнорирующей совокупность исторических данных. Например, борцы за славянскую нацию и ее исконную веру обвиняют в разрушении славянской веры «чуждое» ей христианство [Крапчунов 2022, 191], тогда как их оппоненты, приверженцы русского дореволюционного православия, демонизируют советский период и представляют его как духовный и социальный регресс, замалчивая очевидные достижения СССР в области науки и культуры.
Разрушительная роль синкретизма религиозного и национального может быть проиллюстрирована на примере Таиланда, где буддизм считается основанием тайской нации и является государственной религией, у которой есть не только идеологическая, но и финансовая поддержка правительства и короля. В последние десятилетия на фоне ярко выраженной политики традиционализма правящие круги Таиланда щедро финансируют проекты, связанные с возвеличиванием буддизма как основы культуры. Строятся статуи и храмы, которые поражают своими размерами и богатым убранством и привлекают внимание туристов. В Таиланде есть поговорка: «быть тайцем – значит, быть буддистом». Во время интервью, проведенных нами в Таиланде среди его коренных жителей, относящих себя к тайской нации, обратил на себя внимание тот факт, что верующие ссылаются на некий «тайский буддизм», к которому они себя относят, не как на одно из ответвлений буддизма как мировой религии, а как на самодостаточную, отдельно взятую религию, и связывают ее именно с тайской культурой. Путь «истинного буддизма» неотделим от тайской нации и ее истории, что ставит тайцев в особое положение среди других наций, населяющих Таиланд. Исследователь Глубокого юга Таиланда Н.Г. Рогожина пишет: «Религиозные конфликты особенно остры и особенно опасны для государства тогда, когда религиозные различия совпадают с этническими и социальными. Примером могут послужить события на Юге Таиланда, где основное население, малайцы, являются одновременно и национальным, и религиозным меньшинством, активно борющимся против таиландского правительства» [Рогожина 2021, 177]. Несмотря на то что Таиланд является унитарным государством и имеет жесткое в отношении наказаний законодательство, уже привычным паттерном для политической ситуации там стали военные перевороты, и недовольство разных социальных групп держится в том числе на религиозных различиях, при этом оно часто вызвано тем, что ни ярко выраженное социальное неравенство, ни нищета людей с низким социальным положением, вынужденных жить в трущобах, фактически в палатках, и быть «прикрепелен-ными» к Бангкоку, где они могут получать мизерное пособие от правительства, не являются препятствием для все больших финансовых вложений в буддийские религиозные памятники и проекты.
Причинами неугасающей популярности традиционализма являются негативные последствия глобализации, а именно потеря странами экономической и культурной индивидуальности, насаждение единого политического и потребительского стандарта, мировой экономический кризис. Возврат к традиции привлекает как наиболее простой и уже известный вариант решения проблемы «размывания» границ идентичности современного человека. Однако такое действие является шагом назад и не решает проблему, потому что ценности, продвигаемые традиционализмом – это ценности традиционного общества, и они не могут быть конституирующими для современности. Замыкание в собственных культурных границах влечет опасные последствия, такие как нетерпимость к инакомыслию, национализм, национальный и культурный шовинизм.
Проблема традиционализма не ограничивается рамками социального. Рассмотрение традиционализма в контексте понимания человека как существа, разомкнутого в трех измерениях – онтологическом, онтичес-ком и виртуальном – позволяет увидеть традиционализм как виртуализацию реальности. Поскольку традиция, будучи социальным механизмом, бессильна преодолеть онтологическую недостаточность человека и вместе с ней конечность и смертность, то имеет место подмена духовного социальным с целью пропаганды определенной системы ценностей, в которой заинтересованы отдельные социальные группы. Традиционализм как интернациональный феномен глобальной реальности деструктивен и реакционен в отношении общества и антигуманен в отношении человека, так как он превращает человека в самодостаточную структуру и противоречит принципиальной онтологической открытости человека.
Список литературы Традиционализм и онтологическая недостаточность человека
- Бодрийяр 2013 - Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / пер. О.А. Печенкина. Тула: Тульский полиграфист, 2013.
- Быстров 2001 - Быстров В.Ю. Человек в мире традиций: монография. Великий Новгород: Изд-во НовГУ 2001.
- Дворкин web -Дворкин А.Л. Сектоведение: учеб. пособие. В 2 кн. 4-е изд. М.: Изд-во ПСТГУ, 2024. Кн. II // http://bookscafe.net/book/ dvorkin_aleksandr-sektovedenie-153094. html? ysclid=lsaa13ewx0331081903
- Дугин 2002 - Дугин А.Г. Философия традиционализма. Серия: Новый Университет. М.: Арк-тогея-Центр, 2002.
- Котова, Лискова 2021 - Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. 11 класс. Модульный три-актив-курс. М.: Национальное образование, 2021.
- Крапчунов 2022 - Крапчунов Д.Е. Практики конструирования этнокультурной идентичности русского народа: от возникновения русской традиции и государственности к современным фальсификациям // Ортодоксия. 2022. № 3. С. 175-198. DOI: 10.53822/2712-92762022-3-175-198
- Левашов 2013 - Левашов Н. В. Россия в кривых зеркалах. Киев: Золотой век, 2013.
- Литвинцева, Пашедко 2017 - Литвинцева Г.Ю., Пашедко Ю.М. Русская культура как основа национальной идентичности россиян // Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 11 (65). Ч. 1, ноябрь. С. 31-33. DOI: 10.23670/IRJ.2017.65.018
- Макаров 2001 - Макаров А.И. Традиция против истории в философии современного европейского традиционализма // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. М.: Еди-ториал УРСС, 2001. Вып. 6. С. 275-283.
- Макаров, Пигалев 2002 - МакаровА.И., Пигалев А.И. Традиционализм // История философии. Энциклопедия. Минск: Интерпрессервис: Книжный дом, 2002. С. 183-186.
- Морозова 2009 - Морозова Е.А. Традиционные ценности православного этического образования (1811-1917 гг.) // Ярославский педагогический вестник. 2009. Т. 59, № 2. С. 110-114.
- Рогожина 2021 - Рогожина Н.Г. Проблема Глубокого юга Таиланда - сепаратизм малайских мусульман // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2021. Т. 14, № 1. С. 176-193. DOI: 10.23932/2542-02402021-14-1-9
- Русская Народная... web - Русская Народная Линия: О нас // https://ruskline.ru
- Указ Президента РФ от 09.11.2022... web - Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» // https://publication.pravo.gov.ru/ Document/View/0001202211090019?ysclid= ltfnd3f8zp189229472&index=3
- Хобсбаум 2000 - Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии. 2000. № 1. С. 47-62.
- Хоружий 2017 - Хоружий С.С. Злоключения традиции, или Почему нужно защищать традицию от традиционалистов // Вопросы философии. 2017. № 9. С. 104-121.
- Хоружий 2015 - Хоружий С.С. Проблематика рисков современности: концептуальные основания и ведущие подходы // Фонарь Диогена: человек в многообразии практик. 2015. Т. 1, № 1. С. 131-157.
- Хоружий 2013 - Хоружий С.С. Как обходиться без бытия, или механика Латона // Вопросы философии. 2013. № 10. С. 50-67.
- Чиркова web - Чиркова Н.В. Традиционные ценности православия в контексте современного российского воспитания и образования // http://nauch-idea.ru/index.php/arkhiv/16-3-9/ 154-traditsionnye-tsennosti-pravoslaviya-v-kontekste-sovremennogo-rossijskogo-vospitaniya-i-obrazovaniya
- Элиаде 2000 - Элиаде М.А. Трактат по истории религий. В 2 т. / пер. с фр. А.А. Васильева. СПб.: Алетейя, 2000.
- Alberts 2019 - Alberts W. Religious Education as Small 'i' Indoctrination: How European Countries Struggle with a Secular Approach to Religion in Schools // Center for Educational Policy Studies Journal. 2019. № 9 (4). Р. 73-90. DOI: 10.25656/ 01:18834; 10.26529/cepsj.688
- Sedgwick 2004 - Sedgwick M. Against the Modern World: Traditionalism and the Secret Intellectual History of the Twentieth Century. New York: Oxford University Press, 2004.
- What Are New... web - What Are New Religious Movements. Prof. Eileen Barker // https://youtu.be/ ysCYQW_7FMU?si=6n1rz14IQTHQ4QOk