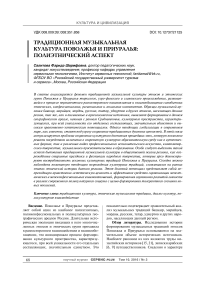Традиционная музыкальная культура Поволжья и Приуралья: полиэтнический аспект
Автор: Салитова Фэридэ Шарифовна
Журнал: Сервис plus @servis-plus
Рубрика: Культура и цивилизация
Статья в выпуске: 3 т.10, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется феномен традиционной музыкальной культуры этносов и этнических групп Поволжья и Приуралья тюркского, угро-финского и славянского происхождения, развивав- шейся в процессе перманентного разностороннего взаимовлияния и взаимообогащения самобытных этнических, конфессиональных, региональных и локальных компонентов. Образцы музыкальной ар- хаики башкир, марийцев, мордвы, русских, татар, удмуртов и других этносов, населяющих данных регион, так же, как и письменные и археологические источники, выявляют формирование в данном географическом ареале, начиная с раннего Средневековья, культурного пространства, характери- зующегося, при всей уникальности его отдельных составляющих, значительным единством и вы- соким нравственно-эстетическим потенциалом. Однако тенденции глобализации в современном мире, как известно, ставят под угрозу сохранение традиционных духовных ценностей. В этой связи актуализируется проблема сохранения культурного достояния прошедших эпох, которую возможно решать посредством включения в современную культурно-образовательную среду как в аутентич- ных формах, так и различных видах профессионального исполнительского искусства, композитор- ского творчества, музыкального просветительства и образования. Особо следует выделить такой аспект бытования традиционной музыкальной культуры в общественной жизни региона, как воз- рождённые старинные праздники и фестивали народного творчества, которые ярко демонстри- руют востребованность исконных культурных традиций Поволжья и Приуралья. Сегодня можно наблюдать позитивную тенденцию возрождения культурных традиций, сложившихся на ранних этапах этнической истории данного региона. Этот богатый потенциал представляет собой не- преходящую нравственно-эстетическую ценность и эффективное средство гармонизации межэт- нических и межконфессиональных взаимоотношений, формирования гармонично развитой личности в реалиях современного поликультурного социума с целью формирования толерантного сознания но- вых поколений.
Традиционная культура, этнические музыкальные традиции, диалог культур, поликультурное взаимодействие
Короткий адрес: https://sciup.org/140210373
IDR: 140210373 | УДК: 008.009:39; | DOI: 10.12737/21125
Текст научной статьи Традиционная музыкальная культура Поволжья и Приуралья: полиэтнический аспект
Введение. Поволжье и Приуралье представляет собой один из наиболее полиэтничных, поликонфессиональных и поликультурных географических ареалов России. Длительная историческая эволюция входящих в него многочисленных этносов и этнических групп проходила в разностороннем взаимодействии и взаимообо-гащении, что инициировало процесс формирования культурного пространства, характеризующегося, при всей уникальности его отдельных составляющих, значительным единством. Это показательно подтверждает сравнительный анализ музыкальных традиций башкир, марийцев, мордвы, русских, татар, удмуртов и других народов, населяющих данный регион.
Обзор литературы. Исследования истории формирования музыкальных традиций этносов Поволжья и Приуралья основываются на значительном объеме исторических источников. Наиболее ранними из них являются труды византийских историков [15, 21], записки арабских [6, 9] путешественников. Сведения о характере музыкального творчества предков народов региона содержатся и в средневековых литературных памятниках [1, 5, 7, 11].
В качестве объекта научного исследования традиционная музыкальная культура Поволжья и Приуралья впервые привлекла внимание учёных в XVIII веке [3, 18]. Дальнейшие этнографические и искусствоведческие исследования выявили глубокие исторические корни этого художественного феномена [2, 10, 12, 16, 17, 19, 20]. Однако в изучении музыкальных традиций региона все еще остаются мало изученные факты, а также до сих пор отсутствуют масштабные обобщающие труды, в которых бы данный феномен рассматривался на фоне общезначимых тенденций генезиса и процессов дальнейшей исторической эволюции культуры российских этносов.
Методология. Фактологически статья основывается на письменных исторических источниках и литературных памятниках эпохи Средневековья, результатах последующих археологических и этнографических исследований, отраженных в научных монографиях и статьях. Методологическая основа работы базируется на общенаучных методах анализа, синтеза и обобщения и следующих основных подходах, применяемых в историко-культурологических исследованиях: генетический (с точки зрения возникновения и развития), сравнительно-исторический (компаративный), системный (изучение культуры в поликультурном контексте, просветительский (в аспекте общественной значимости).
Полученные результаты. Музыкальная культура Поволжья и Приуралья складывалась на многогранном этнокультурном (финно-угорский, тюркский, славянский) и конфессиональном (политеистический, исламский, христианский православный) базисе.
Истоки этносов Поволжья и Приуралья восходят к раннему Средневековью, когда языческая обрядность и синкретизм определяли становление различных видов музыкального творчества. Трансформируясь, но сохраняя свои основные черты, они всегда оставались неотъемлемой частью традиционной культуры региона. В этом контексте примечательно значительное сходство древнетюркских надписей, высеченных руническими письменами на каменных стелах, с образцами современного татарского фольклора [4, с. 320].
В духовной культуре древних тюрков важное место занимали эпические сказания, которые предшествовали возникновению таких музыкально-поэтических жанров, как башкирские кубаиры, татарские баиты и чувашские пеиты. В них превалировала патриотическая тематика, наблюдалось утверждение общечеловеческих нравственно-эстетических ценностей и гуманистических категорий.
В византийских исторических источниках зафиксированы некоторые древнетюркские обряды, в которых вокальная и инструментальная музыка предстаёт не только как художественный компонент синкретических действ, но и в сакральном качестве. Так, в описании Менандром визита посла Земарха к правителю тюрков, состоявшегося в 568 г., отмечен обязательный для чужестранцев очистительный ритуал, сопровождавший звучанием колоколов и тимпанов [15]. Феофилакт Симокатта был впечатлён песнопениями гимнического характера, посвящёнными воспеванию земли как источника всего живого [21, с. 34].
Политеистические культы определяли и развитие преимущественно связанных с обрядностью традиционных форм и жанров музыки финно-угорских племён, обитавших на территории Поволжья и Приуралья – предков марийцев, удмуртов, мордвы и др.
Несмотря на то, что обладавшие значительным сходством языческие ритуалы поклонения многочисленным божествам впоследствии стали заменяться богослужениями монотеистических религий, архаические напевы продолжали бытовать в культуре предшественников современных народов Поволжья и Приуралья и дошли до нашего времени как часть национального фольклорного наследия, в том числе в форме детских игровых напевов (татарский «Кояш чык» – «Заклинание солнца», чувашский «Зумгр чяк » – «Моление о дожде» и др.).
Изначальное тесное взаимодействие культур народов Поволжья и Приуралья ярко прослеживается в музыкально-инструментальном творчестве и исполнительстве. В археологических памятниках, созданных 7 тысячелетий назад и более, содержится «значительный материал по музыкальным орудиям и инструментам» [2, с. 26–27].
В арсенал музыкальной архаики рассматриваемого региона вошли инструменты ритуальной предназначенности, а также атрибуты охотничьего и пастушеского обихода. Некоторые из них, близкие или идентичные по названиям, конструктивным и акустическим параметрам, бытуют и в наши дни. К шумовым музыкальным инструментам из металла типа колокольчиков, бубенчиков, погремушек относятся марийский колдырма, мордовский калдораа, удмуртский колтро гырлы, татарский кыңгырау. Металлические кубызы повсеместно обнаруживаются в могильниках, обнаруженных в различных районах республик Удмуртия и Марий Эл (то есть, относящихся к предкам этносов угро-финского происхождения), но не менее часто и на более обширных территориях Поволжья и Приуралья – в тюркских раскопах [2, с. 55].
Древние духовые музыкальные инструменты из различных природных материалов (полые стебли тростниковых растений, кость, дерево), изначально утилитарной предназначенности, воспроизводили звучания живой природы, чаще всего – голоса птиц (лебеди, соловьи, жаворонки и др.), служили также для передачи сигналов. Со временем они приобрели эстетические функции: татарские сөрнай и быргы , чувашские шăхлич и сăрнай, марийские шиялтыш и нюди , удмуртские пеллян и шулан , мордовский торама , башкирский борго .
С освоением гончарного производства началось изготовление музыкальных инструментов из обожжённой глины семейства окарин в форме птиц и зверей. Среди их разновидностей представляют интерес ташкыш (каменная птица) у татар и сюй шулан (в виде утки) у удмуртов.
Особо значимым духовым музыкальным инструментом башкир и татар является курай, который первоначально изготавливался из полых стеблей зонтичных растений. Со временем появился целый ряд его разновидностей: агач курай (деревянный курай), җиз курай (металлический курай), нугай курай (ногайский курай), казан курай (казанский курай). Курай и его аналоги всегда сохраняли свою актуальность в инструментальном исполнительстве Поволжья и Приуралья.
Согласно древним поверьям, в системе языческой обрядности этносов и тюркского, и финно-угорского происхождения музыкальными инструментами, которым придавались магические функции, являлись волынка ( шăпăр у чуваш, шувыр у марийцев фам, уфам или пувама у мордвы) и гусли ( гэзле у башкир, крезь у удмуртов, кĕсле у чуваш, – кусле у марийцев, гөслə у татар). В качестве атрибута языческих культов они сопровождали коллективные моления, ритуальные напевы и пляски.
Многочисленные ударные музыкальные инструменты различной конфигурации выполняли как бытовые, так и ритуальные функции: башкирский донгоре, татарский доңгыра, чувашский тумыр, мордовский шавома, марийский тумыр, удмуртский тангыра.
При сравнительном анализе охарактеризованного выше музыкального инструментария прослеживаются тесные межэтнические взаимосвязи, способствовавшие его совершенствованию в процессе дальнейшей исторической эволюции.
Важнейшим этапом в истории Поволжья и Приуралья стала эпоха формирования и укрепления Волжской Булгарии в IX–XIII вв. – первого государства на территории данного ареала, которое основали булгары, мигрировавшие из Причерноморья. Исследователи указывают на решающую роль экономического, политического и культурного воздействия этого мощного государственного образования в «оформлении этнической карты края» [16, с. 104].
Развитие земледелия и ремесел, строительство городов, интенсивный товарообмен и разносторонние взаимосвязи со многими регионами средневекового мира, географическое расположение на перекрестке сухопутных и водных путей Европы и Азии позволили Волжской Булгарии выполнять миссию культурного посредника между различными очагами цивилизации на обширной территории Восточной Европы. Отмеченные факторы определили восприимчивость к перманентному воздействию разнообразных традиций, привносимых извне.
Реалии эпохи отразились в музыкально-поэтическом творчестве X — первой четверти XIII вв., в котором выделились произведения патриотического настроя, посвященные Булгару. Самые, пожалуй, ранние, письменно зафиксированные тексты обрядовых и лирических напевов булгар обнаруживаются в словаре тюркских языков под названием «Дивану-лугат-ит-турк», составленном Махмудом Кашгари в 1072–74 гг. В него включены и поэтические строки, посвященные реке Итиль (Волге), которые на века запечатлелись в песенном фольклоре народов, населяющих её берега [5, с. 111–147].
Большое нравственное и эстетическое значение в жизни населения Волжской Булгарии приобрели массовые праздничные действа. Со временем они оформились в такие всенародные праздники, как Агавайрем, Сабантуй, Акатуй, благодаря которым развивалось музыкальное и хореографическое искусство предков марийцев, татар, башкир и чувашей. Целый ряд сходных праздников связывался со сменой времён года или трудовыми процессами. Например, одним из наиболее торжественных обрядов-праздников древних чувашей был Чуклеме в благодарность богам за новый урожай. В посвящённых им песнопениях воспевалась природа и «в поэтической форме упоминались все виды и последовательность земледельческих работ» [20, с. 269].
Характерные подробности жизни булгар одним из первых засвидетельствовал учёный и путешественник Ибн Фадлан. В его записках о путешествии на реку Итиль содержатся некоторые сведения, подтверждающие на примере музыкального творчества полиэтничность булгарского населения. К примеру, это описание обряда погребении знатного славянина – «руса», включавший цикл прощальных песнопений [9, с. 44; 145].
С объявления в начале X в. ислама государственной религией Волжской Булгарии, последовало освоение народом страны (особенно элитарными слоями общества) мировоззренческих устоев и культурных традиций мусульманского Востока. В обиход вошли как канонические ритуальные музыкально-поэтические формы (распевное чтение духовной литературы), так и жанры, синтезирующие общеисламские и местные традиции (книжное пение, баит, мунаджат). Новые культурные влияния «стимулировали также развитие светского вокального и инструментального музицирования» [19].
Тенденция к восприятию общезначимых для многих народов мира духовных ценностей отразилась в поэме Кул Гали «Кысса-и Йусуф» («Сказание о Йусуфе»), основанной на известнейшем библейском сюжете, оригинально интерпретированным автором применительно к местным литературно-художественным традициям. Это произведение содержит картины реальной жизни булгар, в том числе зарисовки музыкального быта первой четверти XIII века [11, с. 172; 228]. Так, в поэме не однажды упоминается инструмент военного оркестра, закрепившийся под терминами карнай (в татарском языке), на-хра (в чувашском языке). Подобные звучные музыкальные инструменты, которые изготавливались из латуни, меди, серебра и могли достигать длины до трёх метров.
В эпоху Средневековья в развитии музыкальной культуры Поволжья и Приуралья принимали участие не только носители исконных традиций, но и представители других этносов. Они демонстрировали своё искусство на ярмар- ках и массовых празднествах, во дворцах правителей и феодальных резиденциях. Это подтверждают результаты археологических исследований и письменные свидетельства той эпохи. Средневековые авторы писали об арабских классических музыкальных инструментах, которые в большей степени пользовались популярностью в элитарных слоях общества, тогда как исконный инструментарий – в народном быту. Ибн Даста писал в своих путевых заметках о распространённости разнообразных по конструкции струнных и духовых музыкальных инструментов [6, с. 31], а уже упоминавшийся выше Ибн Фад-лан – аналогах европейских лютни и цитры [9, с. 250]. Влияние на развитие вокального искусства региона багдадской, северокавказской, среднеазиатской, египетской и других школ распевного исполнения духовных текстов исследовал учёный-историк XIX в. Ш. Марджани [14, с. 51–52].
В ХIII–XIV веках в музыкальном обиходе населения Поволжья и Приуралья прочно закрепились такие общевосточные музыкальные инструменты, как думбра , танбур , кобуз (струнная группа), сарнай , бургу , нокара (духовая группа), даф , томбур (ударная группа). Сведения о них содержатся в словаре «Codex Coumanicus», составленном католическими миссионерами [1, с. 67–109], в музыкально-поэтических творениях башкир (кубаиры), монументальном эпическом памятнике татарского народа – дастане «Идегей».
Развитие музыкальной культуры края продолжилось в эпоху Казанского ханства, обогащаясь традициями различных народов, проживавших на его территории. Неизвестный русский автор «Казанской истории» (середина XVI в.) писал о казанцах: «Прелестныя песни поюще … играющи въ гусли своя, и въ прегудница ударя-ющи» [7, с. 26].
Светское музыкальное творчество, характерное для культуры исламского Востока, особо культивировалось в период правления казанского хана и поэта Мухаммед Эмина на рубеже ХV–XVI вв., при дворе которого служили певцы и музыканты – носители различных культурных традиций. Один из них – Уста Шади, славился исполнением восточных макамов, собственных сочинений, игрой на танбуре , уде (лютне), чанге (угловой арфе) [12].
С середины XVI в. в результате активной миссионерской политики Московского государства произошло массовое крещение значительной части населения края, ранее приверженной язычеству. Но при этом сохранялись прежние культы и места их отправления, что зачастую приводило к симбиозу православных и древнейших политеистических традиций. У христианизированных народов укрепилось каноническое церковное пение и наряду с этим его самобытные варианты с элементами народной песенности, которые с XIX в. стали исполняться на родных языках благодаря переводам духовных текстов, инициированных известным миссионером и востоковедом Н.И. Ильминским. В данном контексте показательны музыкальные традиции этнической группы крещёных татар (кряшен), которые выделяются своей самобытностью (в основном многоголосием и устойчивостью архаических черт) и являются неотъемлемым компонентом системы обрядности, сочетающей черты языческого и православного культов. Это отмечалось ещё первыми исследователями данной этнической общности. Например, священник Г. Филиппов выявил давние этнокультурные связи молькеевских кряшен и чуваш [22, с. 752–760]. Специальные циклы напевов и инструментальных наигрышей кряшен обладают сходством тематики, стилистики, содержания и функциональной предназначенности с жанрами музыкального творчества чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов. Они сопровождают, помимо древних обрядовых действ, таких как посвящённый зимнему солнцестоянию Наргуган, отмечаемые в фольклоризированных формах христианские праздники: Раштуа (Рождество), Качману (Крещение), Тройсын (Троицу), Олы көн (Пасху), Пи-трау (Петров день) и др.
Со второй половины XVI в. на территории Поволжья и Приуралья обосновывались русские переселенцы, которые привносили из прежних мест обитания свои музыкальные традиции, вовлекавшиеся в процесс взаимовлияния и взаимо-обогащения. Русская музыкальная культура края преимущественно была представлена разнообразными видами фольклорного творчества и культовыми формами, являющимися принадлежностью православной христианской обрядности.
Межэтническое взаимодействие усилилось и приобрело новую направленность с вовлечением народов края в общероссийский процесс «европеизации», начиная с петровских реформ и ещё более интенсивно со второй половины XVIII в. Развитие светской культуры и образования, несомненно, активизировало интеграционные процессы. В народный быт входили музыкальные инструменты европейского происхождения, первым из которых была скрипка, сменившая входившие ранее в струнно-смычковую группу традиционного инструментария ко-буз, ковыж, карьзе, сĕрме купăс (соответственно – у татар, марийцев, мордвы, чуваш). При этом новые музыкальные явления не входили в противоречие с исконными культурными традициями, например, с сопровождением татарской скрипки (əскрипкə) исполнялись мусульманские духовные напевы зикры и мунаджаты. Исследователь жизни и быта региона первой половины XIX в. К. Фукс, прослушав в Казани ансамбль народных музыкантов-инструменталистов, зафиксировал наличие в его репертуаре не только национальных мелодий, но и европейских (немецких, французских) «танцевальных пьес» [23, с. 124].
К началу ХХ в. элементы европейской светской музыкальной культуры начинали проникать в ученическую среду Поволжья и Приуралья. Мандолина, флейта, гитара, фисгармония и фортепиано стали атрибутами обихода учащихся медресе, музицировавших сольно и объединявшихся в инструментальные ансамбли. В этом плане лидировало уфимское медресе «Галия», где выпускник и бывший профессор Варшавской консерватории В. Клеменц ввёл в учебную программу уроки музыки, организовал хор и струнный оркестр, которые принимали участие в концертах и литературно-музыкальных вечерах.
Культурное взаимодействие сыграло важную роль и при становлении профессиональной музыкальной культуры народов Поволжья и Приуралья. В этом процессе принимали участие носители традиционного музыкального искусства, первые академически образованные музыканты из представителей этносов региона и русские музыканты-просветители. Среди последних следует выделить казанского скрипача и педагога И. Козлова – автора первых обработок татарских мелодий для скрипки и фортепиано, композиторов и фольклористов В. Виноградова и А. Клю-чарёва – создателей симфонических и музыкально-сценических произведений на материале башкирской и татарской народной музыки.
Советский период истории Отечества, как известно, был отмечен нигилистическим отношением к наследию прошлого, что привело к утрате многих духовных ценностей. Их возвращение началось лишь в последние десятилетия ХХ века. Вместе с ними актуализировалось и возрождение исконных форм народного творчества.
Как отмечают с тревогой зарубежные и российские учёные, в современном мире в сфере культуры, науки и образования «всё стремительнее протекают процессы универсализации на глобальном уровне» [13, с 287]. Глобализация характеризуется противоречивыми тенденциями и включает не только позитивные интеграционные факторы. Она форсирует процессы утраты традиционных духовных ценностей, что в итоге приводит к дезориентации личности, утрате ею своей этнокультурной идентичности. Поэтому столь актуальна проблема включения культурного достояния прошедших эпох в современную культурно-образовательную среду.
В настоящее время традиционное музыкальное наследие Поволжья и Приуралья находит достаточно разностороннее претворение в аутентичных формах, профессиональном исполнительском искусстве, композиторском творчестве, музыкальном просветительстве и образовании, а также, является объектом научных изысканий. Ниже охарактеризуем важный, на наш взгляд, аспект бытования традиционной музыкальной культуры в общественной жизни региона.
Сегодня взаимодействие этнокультурных традиций Поволжья и Приуралья ярко демонстрируют возрождённые старинные праздники и фестивали народного творчества. Практически все из них: и общезначимого характера, и ограничивавшиеся ранее рамками одного этноса или определённой местности, превратились в масштабные события всероссийского или международного уровня.
С XVI века известен «Каравон» – престольный весенний праздник жителей села Никольское современного Лаишевского района Татарстана в честь святителя и чудотворца Николая (Никола Вешний). Теперь это событие, ранее важное только для русского населения данной местности, приобрело официальный статус и общенародный характер. «Каравон» включает массовые гулянья, выставку традиционного декоративно-прикладного искусства, этнографический фестиваль с участием фольклорных коллективов всех республик и областей Поволжско-Уральского региона и гостей со всей России и из-за рубежа.
Особой популярностью пользуются повсеместно отмечаемые весенне-летние праздники, которые в каждой местности имеют свои неповторимые особенности. Например, это приуроченный ко дню летнего солнцестояния «Барда-зиен» в Бардымском районе Пермского края, где этнокультурные традиции выделяются в исторически сложившуюся систему, обладающую специфическими чертами благодаря синтезу древнейших пластов художественного творчества соседствующих этносов. Во время его проведения звучат на языке оригинала напевы пермских татар; башкирские, удмуртские, русские, коми-пермяцкие народные песни; музыкальный инструментарий района представляют башкирский и татарский курай , коми-пермяцкий пэлянка , удмуртский шулан и др.
С полным основанием можно назвать международным праздником татаро-башкирский «Сабантуй», поскольку он отмечается во многих странах мира. Землячества и другие общественные организации, к которым относится, например, Татаро-башкирский культурный центр в Берлине, способствуют «созданию условий, которые бы позволили не утратить собственную этническую принадлежность и обеспечить преемственность передачи новым поколениям традиционной ментальности и культурных ценностей» [8, с. 306].
Основные выводы. Таким образом, музыкальные традиции, сложившиеся на ранних этапах этнической истории Поволжья и Приуралья, возрождаются после длительного периода забвения в современном культурно-образовательном пространстве. Этот богатый потенциал представляет собой непреходящую нравственноэстетическую ценность и эффективное средство гармонизации межэтнических и межконфессиональных взаимоотношений, формирования гармонично развитой личности в реалиях современной поликультурной среды. В целом в данном регионе Российской Федерации можно наблюдать усиление нацеленности проживающих на его территории этносов и этнических групп на многостороннее взаимообогащающее культурное взаимодействие.
Список литературы Традиционная музыкальная культура Поволжья и Приуралья: полиэтнический аспект
- Gabain von A. Codex Cumanicus’un dili//Akalın M. Tarihi tűrk şiveleri. Ankara: Ankara Űniversitesi Basımevi, 1988. Р. 67-109.
- Бояркин Н.И. Древние звуковые комплексы восточных финнов (по археологическим материалам)//Финно-угорские музыкальные традиции в контексте межэтнических отношений: сб. науч. тр./Редкол.: Н.И. Бояркин (отв. ред.), Л.Б. Бояркина (сост.) и др. Саранск: Изд-во Мордовского гос. ун-та, 2008. С. 23-69.
- Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов: О народах татарского племени и других не решенного еще происхождения северных сибирских. СПб: Типография Ивана Глазунова, 1799. Ч. 2. 178 с.
- Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М.: Изд-во «Товарищество Клышников и Комаров», 1993. 526 с.
- Из «Диван лугат ат-турк» Махмуда Ал-Кашгари: //Поэзия древних тюрков VI -XII веков/Сост. И.В. Стеблева; поэт. пер. А. Преловского. М.: Изд-во «Раритет», 1993. С. 111-147.
- Известия о хозарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и русах Абу-Али-Ахмеда бен Омар Ибн-Даста/пер. Д.А. Хвольсона. СПб: Акад. наук, 1869, ХIV. 199 с.
- Казанская история/подг. текста, вступ. ст., прим. Г.И. Моисеевой; под ред. В.П. Андрианова-Перетц. М. -Л.: Изд-во АН СССР, 1954. 195 с.
- Кобер А. Русскоязычные культурно-образовательные центры современной Германии//Педагогика и психология, культура и искусство: проблемы общего и специального гуманитарного образования: мат. VII междунар. науч. -практ. конф./отв. ред. -сост. Ф.Ш. Салитова. Климовск; Минск: Рос. нов. ун-т; Белорус. гос. ун-т культ. и иск-в; изд-во «Отечество», 2014. Вып. VII. С. 306-308.
- Ковалевский А.П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921-922 гг. Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1956. 347 с.
- Кондратьев М.Г. Чувашская музыка. От мифологических времен до становления современного профессионализма. URL: http://bookoteka.ru/7436 (дата обращения: 28.09.2015).
- Кул Гали. Сказание о Йусуфе/пер. С.Н. Иванова. Казань: Татар. кн. изд-во, 1985. 254 с.
- Макаров Г.М. Средневековые инструментальные ансамбли татар Поволжья: Опыт рекультурации инструментальных традиций. URL: http://www.Musicmuseum.az/ru/index.php (дата обращения: 15.02.2016).
- Манолова В., Костадинова В., Цанкова Е. Инновационные технологии стимулирования интереса к музыкальному фольклору//Искусство и педагогика: проблемы художественного и музыкального образования: м-лы VI межд. науч. -практ. конф./отв. ред. -сост. Ф.Ш. Салитова. Казань: Казан. федер. ун-т; изд-во «Бриг», 2011. Вып. VI. С. 287-298.
- Марджани Ш. Источники по истории Казани и Булгара. Казань: Татар. кн. изд-во, 1989. 415 с.
- Менандр//Византийские историки/пер. и прим. Г.С. Дестуниса. СПб, 1860. URL: http://www. krotov.info/acts/05/marsel/ist_viz_00.htm (дата обращения: 12.01.2016).
- Напольских В.В. Булгарская эпоха в истории финно-угорских народов Поволжья и Предуралья//История татар с древнейших времен: в VII т. Волжская Булгария и Великая Степь/гл. ред. М.А. Усманов, Р.С. Хакимов. Казань: Изд-во «РухИЛ», 2006. Т. 2. С. 100-115.
- Нигмедзянов М.Н. Татарская народная музыка. Казань: Изд-во «Магариф», 2003. 255 с.
- Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям России. СПб: Импер. Акад. наук, 1773. Ч. 1. 657 с.
- Салитова Ф.Ш. Музикалнопедагогическата култура на Волжска Бьлгария IХ-ХIII век. Изследване//Електронното списание i Продьлжаващо образование. Брой 27. 2012. Януари -Март (София, Бьлгария). URL: http://www.diuu.bg/ispisanie/(дата обращения: 31.01.2012).
- Салитова Ф.Ш., Калимуллина Р.Р. Музыка в архаических ритуалах и обрядах чувашского народа//Педагогика и психология, культура и искусство: проблемы общего и специального гуманитарного образования: м-лы VII междунар. науч. -практ. конф./отв. ред. -сост. Ф.Ш. Салитова. Климовск; Минск; Казань: Росс. нов. ун-т (Климовск. ф-л), Белорус. гос. ун-т культуры и иск-в; изд-во «Отечество», 2014. Вып. VII. С. 268-270.
- Симокатта Феофилакт. История. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1957. 224 с.
- Филиппов Г.А. Татаро-чувашские девичьи хороводы в Тетюшском и Цивильском уездах Казанской губернии. Инородческое обозрение (Казань). 1915. Кн. 10. С. 752-760.
- Фукс К. Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях (репринт. изд. 1844 г.). Казань: Изд-во «Фонд ТЯК», 1991. 210 с.