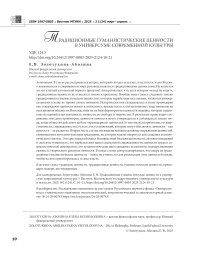Традиционные гуманистические ценности в универсуме современной культуры
Автор: Золотухина-Аболина Е.В.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 2 (124), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос, который сегодня актуален, в частности, и для России: о возможности в современном мире руководствоваться традиционными ценностями. Не является ли это утопией и попыткой вернуть прошлое? Автор полагает, что, хотя история «назад не ходит», традиционные ценности не относятся только к прошлому. Вообще имеет смысл следовать только традиционным гуманистическим ценностям, которые нарабатывались веками, являются универсальными и ныне не теряют своего значения. Исторически они складывались в эпоху премодерна как утверждение ценности жизни и относились, прежде всего, к коллективному существованию на всех уровнях общности. Впоследствии на их базе формируются ценности модерна, которые выдвигают на первый план значимость личности, ее свободы и творчества. В результате происходит соединение этих двух ориентиров: ценности личности могут утверждаться и соблюдаться только тогда, когда общество действует на базе «премодерных» ценностей (в том числе, патриотизма, государственности, справедливости), то есть, тех установлений, которые могут обеспечить личности – как ценности – ее развитие. Вторая часть статьи посвящена концептуальному выражению ценностей, сложившимся интеллектуальным традициям, на которые можно опереться для создания аксиологического синтеза. Это христианский идеал бескорыстной благожелательности, активно вошедший в светскую гуманность; это марксистский идеал социальной справедливости, ценности труда и социалистической демократии; это гуманистические идеи западных психологов, подчеркивающих важность творческого развития личности. В конце статьи автор подчеркивает, что опора на традиционные гуманистические ценности – вовсе не утопия, но для реализации этих ценностей важно, чтобы на них ориентировалась и сама власть.
Традиция, ценности, традиционные ценности, гуманистические ценности, премодерн, модерн, постмодернизм
Короткий адрес: https://sciup.org/144163436
IDR: 144163436 | УДК: 124.5 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-2124-10-21
Текст научной статьи Традиционные гуманистические ценности в универсуме современной культуры
Acknowledgements: The study was supported by a grant from the Russian Science Foundation «Universality of Utopian Thinking: Epistemological, Anthropological and Sociocultural Aspects» No. 24-28-00743,
Все последние годы, когда Россия, тридцать лет следовавшая в фарватере западных либерально-экономических и идейнополитических конструкций, наконец повернулась к вопросу об автономии и самостоянии, обсуждается вопрос о возвращении нашего народа к традиционным ценностям. О традиционных ценностях говорит глава государства [22], в Законе об образовании появляются изменения: в часть 1 Закона вносится дополнение – «формировать в процессе осуществления педагогической деятельности у обучающихся чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимное уважение, бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации» [19]. И с поворотом, и с внесением изменений в Закон трудно не согласиться, ибо потребность в них давно назрела, но профессионалы-гуманитарии все же не могут не задаваться вопросом: а что же такое эти «традиционные ценности», кроме самопонятных ценностей «мужского и женского», подвергнутых особой либеральной агрессии? В чем их суть и почему они «традиционны»? Каким именно идеям и целям мы желаем следовать? И не является ли утопией попытка возрождения «традиционности» в эпоху не- вероятной социальной динамики, глобализма и универсализма, размывания самых разных культурных границ и идентичностей. Журнал «Вестник МГУКИ» уже обратился к этой сложной тематике в статье Е. В. Мареевой и В. А. Тихоновой «Системное единство традиционных российских ценностей в конкретноисторическом контексте» [15]. Попытаемся продолжить обсуждение темы и дать ответы на поставленные вопросы. Это и есть задача предлагаемой читателям статьи.
В данном случае под понятием ценностей мы имеем в виду: 1. Высоко значимые реалии (человек, Бог, мир и т. д.); 2. Блага, позволяющие существовать и развиваться всему, что ценно; 3. Образцы поведения, мышления и переживания, а также те феномены социокультурной жизни, которые выступают в качестве эталонов , вдохновляют людей на свершения, придают смысл их жизни. Тема ценностей, как известно, разрабатывалась, начиная с конца XIX века целым рядом европейских и русских мыслителей (Г. Риккер-том [23], М. Шелером [26], Н. Гартманом [5], Ф. Ницше [18], Н. Лосским [13], Н. Бердяевым [3]), а в России в более поздний советский и постсоветский период О. Г. Дробницким [6], М. С. Каганом [10], Д. А. Леонтьевым [12], С. Ф. Анисимовым [1], Е. В. Золотухиной-Аболиной [9] и др.
Само понятие ценности, взятой в смысле образца, несет в себе некоторое противоречие, также как понятие идеала. Оно, с одной стороны, указывает на то, что уже есть в жизни и высоко значимо для нас, а с другой – на то желаемое, до чего мы еще не дотянулись, чего жаждем и к чему стремимся. Отношение «образец – реальность» всегда отношение несовпадения, частичного пересечения, оно включает зазор между высоко ценным и тем, что есть в наличии. Поэтому в стремлении воплотить ценности больше или меньше присутствует момент утопичности в смысле возможной несбыточности прекраснодушных устремлений. Что касается понятия традиции, то под ней мы будем иметь в виду следование новых поколений тем эталонам и образцам культуры, которые возникли в более ранние периоды времени (годы, века, эпохи) – естественно сложились или были введены и стали неотъемлемым элементом жизни. Исходя из этих представлений, бросим взгляд на те «традиционные ценности», которые нам, как обществу и государству, хочется восстановить в сознании людей в 20-е годы XXI века, и на то, что может помешать сделать это реальностью. И будем, обращаясь к дальнейшему размышлению, помнить, что сама проблема «возвращения к традиционным ценностям» порождена тем ценностным развалом, нигилизмом и негативизмом, которые произвел в жизни человечества условно называемый «период постмодернизма».
«Традиционные ценности» как гуманистические ценности
Если мы употребляемом слово «традиция» не в смысле философии традиционализма, где к Традиции с большой буквы относят сакральную тайну, передаваемую через посвященных, то с чистым сердцем можем сказать, что традиция традиции – рознь. У народов мира есть очень скверные традиции, сложившиеся еще в архаике. Например, традиция съедать сердце врага, чтобы набраться от него силы. Или традиция побивать камнями неверную жену. Или же традиция кровной мести, когда род противника вырезают до седьмого колена, вовсе не считаясь с невиновностью последующих поколений. Возможно, в свое время эти традиции помогали сохранению социокультурных субъектов – семей, родов, племен, но они полны жестокости и вряд ли нам следует возрождать, к примеру, принцип «да убоится жена мужа своего». При всех перипетиях развития европейской культуры, которая ныне переживает свой кризис, эта культура породила гуманизм и принцип гуманности, даже если сегодня она его предаёт. Собственно, гуманизм – это представление о самом человеке как о ценности – и в лице человечества, и в лице составляющих его индивидов. Кантовский категорический императив, являющийся нововременным переосмыслением «золотого правила морали», говорит нам: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого также как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству» [11]. И вот это признание ценности и каждого человека, и человечества, и составляющих его культурных субъектов, пожелание им жизни и развития и есть замечательная традиция, к которой следует вернуться на новом этапе нашей истории, выйдя из нынешнего западного социал- дарвинизма, когда в худших традициях варварства можно эгоистически погубить кого угодно, и никого не жалко.
Взглянем на фундаментальные экзистенциальные ценности, которые по сути своей являются и традиционными, и гуманистическими и которые оказались отвергнуты постмодернистским рыночным обществом – обществом высоких технологий, но в то же время потребительства, космополитизма и культа развлечений. Экзистенциальными мы называем те ценности, что будут рассмотрены далее, потому, что без них невозможно жить и они в разных вариантах утверждают человеческое благо .
Я условно разделила бы традиционные (в смысле уже долгой традиции, за плечами которой столетия) гуманистические ценности на два уровня. Первый уровень – уровень, который рождается в «обществе премодерна» – преимущественно аграрном и сословном-иерархическом, в обществе локальных сообществ, медленных изменений, ориентированном как раз на традицию («как делали отцы и деды») и на религию, на сакральное начало мира. Второй уровень ценностей – это ценности «модерна». Переход к «обществу модерна» означал разрушение и прежних относительно замкнутых этнокультурных миров, и их неторопливой жизни, и традиционных отношений, и все пронизывающей сакральности. «Стоит только забыть о том фундаментальном, парадигмальном сдвиге, который произошел в Новое время при переходе от премодерна к модерну, – отмечает А. Дугин, – мы начнем воспринимать модерн как абсолютное, естественное и универсальное состояние “нашего вещества”, а то, что было до наступления этой парадигмы, начнем трактовать, исходя именно из этой парадигмы. Мы как носители модерна экстраполируем понятие и методы философии на другие эпохи, на эпохи предшествующей парадигмы, исказив ее смысл и проблематику» [7]. А следует, конечно, не экстраполировать, а различать и в то же время усматривать преемственность.
«Мир модерна» – это мир, где машинное производство и бурно растущий рынок, с одной стороны, делают мерилом всего деньги, разрывая все связи, которые прежде виделись как сакральные, а с другой – выдвигают на первый план принципы демократии, провозглашают ценности «свободы, равенства и братства», насаждают во всем индивидуалистический принцип соревнования. Но все же он – дитя «мира премодерна», и даже если прогрессистски считать его «высшим», то «высшее не стоит без низшего» [14, c. 214]. Итак, «премодерные» ценности – это ценности в первую очередь общинноколлективистские и иерархически- священные , а «модерные» – это ценности утверждения свободы и личного начала, где в условном смысле «все равны».
Премодерные ценности
-
1. Ценность жизни семьи, рода, народа . Инстинкт жизни, Эрос (вспомним З. Фрейда [25], писавшего об этом очень ярко) как природно-культурное начало практически устанавливает важность воспроизводства человека, и отсюда огромная значимость мужчины и женщины , мужского и женского начал, результатом соития которых выступают дети – новые люди, продолжение рода человеческого. Семья, где дети рождаются и растут, выступает вплоть до середины ХХ века (уже в эпоху модерна) как непререкаемая ценность, и отсюда же – почитание старших поколений и забота о младших. Не менее важной
-
2. Другая важная ценность, родившаяся в премодерне, это ценность труда . Народная мудрость нам сообщает, что «без труда не вытащишь и рыбку из пруда», постоянные трудовые усилия – безальтернативная судьба человека, живущего в мире культуры. Здесь никогда нельзя опускать руки, потому что, как верно заметил когда-то Х. Ортега-и-Гассет, не успеете оглянуться, останетесь без культуры. Глубочайшая ценность труда, вполне осознанная уже в отдаленные эпохи, расположила исследователя повседневного сознания А. Шюца говорить о повседневности как «мире работы» и «мире трудовых ритмов» [27]. Ни пропитаться, ни прожить человек без труда не может.
-
3. Все в том же премодерне, даже если следить лишь с письменных времен античности [2], рождаются все коммуникативные ценности , все то, что регулирует взаимоотношения людей, представления о благе человека и государства (причем, благо государства предпочтительно), о счастье как добродетельной деятельности души, о сознательном выборе, о мужестве и благоразумии и т. д. А в Большой этике речь идет о щедрости, о дружбе, о справедливости и прочих моральнодуховных узах, связывающих людей. То есть общинность, государственная организация, общность, ее законы, пусть даже в условиях наличного тогда рабовладения, выходят на первый план и обсуждаются как важные и достойные внимания. В социальном плане особенно значимой оказывается ценность справедливости.
-
4. И, конечно, ценность высшего начала, трансцендентного, богов, а позже, в монотеизме, единого Бога за редким исключением
ценностью, чем семья (кровно-родственный союз), выступает этно-национальная, а впоследствии – государственная общность, выраженная в ценности патриотизма. Для человека совершенно естественно рождать детей, растить детей, любить свой народ, свою культуру, свой язык и защищать эту «первичную коллективность», с которой каждый глубоко связан.
утверждается именно в премодерной культуре. Так, средневековая мысль, будучи теоцен-трической, все же не отвергает человека, она ставит его, как это выглядит у того же Фомы Аквинского, между природой и высшими планами бытия, наделяет его даром Бога – свободой, которой не обладают даже ангелы. Но человек при этом оказывается не «сам по себе», а под неусыпным надзором Отца Небесного – присмотрен.
Вот эти, кратко перечисленные «премо-дерные» (традиционные) ценности, во многом перечеркнутые и отброшенные современным миром, его финансово-информационной постмодернистской частью, на самом деле стали и остаются фундаментом второго уровня – ценностей модерна , которые просто не могут существовать без них. Вновь вспомним мудрого Хосе Ортегу-и-Гассета: «С прошлым не сходятся врукопашную. Новое побеждает, лишь поглотив его. А подавившись, гибнет» [20, c. 351]. Модерные ценности воздвигались на базе премодерных и, в известном смысле, уже тоже стали «традиционными»; они просто из другой, а именно – нововременной традиции . И, что важно, они экзистенциальные и гуманистические, потому что тоже утверждают жизнь человека. Только вектор их несколько меняется. Точнее, образуются два вектора: один ведет к «общечеловеческим ценностям», а другой – к ценностям личности.
Что же это за «традиционные ценности второго уровня»?
-
1. Ценность личностного развития . Эпоха Просвещения прославляет разум человека и человеческую личность, высокая значимость которой была обнаружена еще с возникновением христианства. Личность – не застывшее начало, она динамична, открыта для самосовершенствования, духовного роста и самораскрытия. Личность – ответственный и активный человек – всегда стоит за ту самую справедливость, которая переживалась как значимая на любой стадии премодерна. И ценность личности связывается с ценностью свободы.
-
2. Свобода оказывается знаменем целого ряда поколений и политиков, и мыслителей, высшей гуманистической ценностью, которую способна реализовать именно личность – индивидуальный целостный человек. Будучи понята как «выбор в обстоятельствах», она трактовалась разными авторами весьма по-разному, в атеистическом варианте или с отсылкой к Божественному первоначалу, иногда весьма радикально, но она без сомнения – ведущая ценность эпохи модерна. «Свобода личности состоит в том, – пишет Э. Мунье, – чтобы самой обретать свое призвание и свободно находить средства для его реализации. Это не свобода уклонения от действия, а свобода вовлечения в действие» [17, c. 310]. Понятно, что ценность свободы до определенной степени противостоит и ценности традиции, и ценности сообщества с его порой жесткими нормами, однако свобода, как и личность, невозможны вне человеческой коллективности с ее воспроизводством поколений, трудом и моральными нормами. Законы социума и культуры выступают неустранимой рамкой, в которую помещается мятущаяся человеческая свобода, к тому же «быть свободным» можно лишь при высоком уровне производства, достигнутого коллективным трудом, при наличии порядка и закона.
-
3. Еще одна «ценность модерна» – это ценность творчества. Творческие люди существовали всегда, но общим ориентиром для масс творчество («креативность») становится в ХХ веке. Становятся высоко привлекательными творческие профессии. А. Маслоу описывает «креативную личность» как личность, обладающую многими добродетелями: позитивной установкой, силой и мужеством, само-забвенностью и детской наивностью, высокой чувствительностью и способностью полного самоосуществления [16].
-
4. Еще одной ценностью, касающейся уже не личных качеств, а времяпровождения людей, оказывается досуг , опять-таки тесно связанный со свободным временем. Впрочем, обратим внимание на то, что и творчество, и досуг становятся возможными и ценными
для многих, когда в жизни воплощены, пусть даже не в полной мере, «базовые ценности», существовавшие в премодерне: когда воспроизводятся поколения, мужчины и женщины любят друг друга и растят детей, когда труд миллионов обеспечивает творческим группам «креаторов» свободное время и т. д. «Высшее не стоит без низшего»: ценности личности и индивидуальной жизни смогли расцвести на фундаменте крепких обществ, сильных государств, мощных экономик, здравого следования правилам уважения и благожелательности между людьми.
Вот поэтому, говоря об укреплении традиционных ценностей и ориентации на них, мы можем смело говорить о синтезе гуманистических идей премодерна и модерна , воплощение которых способно помочь жизни и процветанию как индивидов, так и стран и народов, складывающихся в род человеческий. И воплощение этих ценностей, стремление реализовать их как можно более полно, не противопоставляя их друг другу и следуя конкретным ситуациям, вовсе не является утопическим проектом . Следование синтезу ценностных подходов вполне выполнимо, потому что они и так реально, пусть не всегда явно, направляют нашу жизнь и деятельность. В одних ситуациях мы заняты развитием своих талантов, а в других мысленно себе велим: «Раньше думай о родине, а потом о себе», до какого-то момента наслаждаемся большой личной свободой и выбором друга жизни, а с какого-то – с радостью заботимся о семье, детях и внуках. Здесь нет никаких вопиющих противоречий. Только так и может жить человечество, не только жить, но и разворачивать свой позитивный жизнеутверждающий потенциал.
И в этом случае мы должны безальтернативно отвергнуть те ценностные искажения, которые накапливались и накапливались в европейской культуре в ходе всего ХХ века и объективировались в первые десятилетия XXI столетия – сначала в гуманитарной мысли, потом «в теле культуры» – в практике, политике, повседневности, юридических установлениях. Одной из ценностей модерна, тесно спаянного с буржуазным общественным строем, выступают деньги. Деньги – средство обмена и мера труда; в каком-то смысле они – символ веера возможностей, «живая потенциальность», в наличной культуре без них жить нельзя. Но в «постмодернистскую» эпоху господства финансового капитала они становятся сверхценностью. Тогда «возможное» попирает действительное, «виртуальная экономика» разрушает реальную, и в человеческих отношениях, когда все монетизируется и «коммодифицируется», не остается ничего человеческого. «Европейские ценности эпохи постмодерна» обманны и фальшивы, потому что они не служат жизни и развитию, а истребляют их. На прекращение жизни направлены и гомосексуальные браки, и операции по смене пола, рекомендуемые даже детям, и установка на «чайлд-фри» – на бездетность. Размывание границ пола, начиная от стиля «унисекс» и до игры мужчин-трансгендеров в женских командах, тоже служат прекращению человеческого рода, работают не на регуляцию популяции, а на ее деградацию. Соответственно отпадает вопрос о «старших» и «младших» поколениях. Их просто не будет. Негативный вектор усугубляется откровенным воспеванием смерти и ничто, рекомендациями эвтаназии даже там, где в ней нет никакой необходимости. Ценность труда тоже оказалась под ударом на просторах Интернета, где господствует развлекательный контент и жизнь прочитывается исключительно как приключение, причем даже не свое собственное, а созерцаемое на экране. Выработанные человечеством правила общения и мораль тоже попираются, потому что, с одной стороны, «одиночество в сети» становится нормой жизни, а с другой – массовая культура поощряет ту самую разнузданность влечений, с которой боролась вся человеческая культура – и мировые религии, и светские гуманистические теории. «Индивидуалистический каприз» ставится постмодернистской эпохой во главу угла, хотя не надо быть конспирологом, чтобы понимать, что процесс не случаен, что он управляется и финансируется транснациональными элитными группами [20], о которых теперь не говорит только ленивый, но которых никто не называет поименно. Вопрос в другом: в том, что живя в глобальном и «всесвязном» мире, нам, России, надо сохранять и развивать свою ценностную автономию, продолжая воплощать в новых экономических, геополитических и культурных условиях традиционные гуманистические ценности, сложившиеся на прошлых этапах истории. Они вполне универсальны, и их не могут подорвать никакие новые качественные изменения динамического социума.
На что можно опираться и что мешает воплощению гуманистических ценностей?
Чтобы российский ценностный проект не был сугубо утопическим, а ценности, на которые ориентируется население, являлись понятными, власть со своими интеллектуальными и идеологическими структурами (а идеологию на самом деле никто не отменял) должна иметь опорные концепции . Это такие концепции, где традиционные гуманистические установки, работающие «на дело жизни», выражены достаточно прозрачно и по своему характеру близки населению. Но поскольку эти концепции так или иначе рекрутируются из разных пластов истории, то они не могут получить прямого синтеза, слиться воедино и в любом случае оставляют некоторые «зазоры», позволяющие, с одной стороны, давать им интерпретации, а с другой, – выдвигать ту или иную концепцию вперед в зависимости от того, к какой группе населения она обращена. На мой взгляд, есть как минимум три ценностных подхода , каждый из которых способен внести свою лепту в мировоззренческие и аксиологические ориентации людей.
Первый подход, самый древний, религиозный – это христианство, для России, прежде всего православие, с его опорой на Священное писание и, главное, со сводом моральных ориентиров, имеющих непреходящее значение. И благоволение к ближнему, и ценность труда, и простые коммуникативные правила – здесь можно найти многое. В ключе идей христианства написаны горы книг, как собственно церковных, так и нецерковных, педагогически-поучительных и философских. Христианство, размышляя о Богочеловечестве, противостоит Человеко-божеству, то есть, выступает за умеренность человеческих амбиций, призывает считаться с созданной Богом природой (в том числе, и природой человека), не пытаться навязать действительности свою ограниченную людскую волю. Идея Бога как первоисточника всего и промыслителя, как Небесного Отца, ориентирует верующих на подражание Христу – на способность великодушия, жертвы и святости. Идеи христианства в европейской и русской культуре можно найти в глубине самых, казалось бы, далеких от церковности мировоззренческих проектах. Христианские ценности по сути трансформировались в идеал милосердия и доброжелательства, что мы видим уже в кантовском категорическом императиве. «Христианами» по мировосприятию и образу поведения можно считать и многих людей, достаточно нейтральных в отношении церкви как организации, но действующих по-христиански, то есть человечно. Христианским пафосом проникнута в немалой степени и светская гуманность, и теософские взгляды, и, к примеру, секулярные теологии в духе Дитриха Бонхеффера.
Второй подход, откуда можно непосредственно черпать ценностные ориентиры, это марксизм, в глубине которого Н. А. Бердяев [4] усмотрел те же христианские стремления Царства Божьего – только на земле. Марксизм, как в своей оригинальной исторической версии, так и в советских интерпретациях, содержал вполне понятные ценности, на которые легко отзывается человек. При этом ценности совершенно гуманистические, хотя первоначальным путем к их реализации предполагалась революция – «экспроприация экспроприаторов», вооруженная борьба. Несмотря на многочисленные трудности и печальный итог советского опыта, сами идеи социальной справедливости, социального государства, братства между народами, социалистической демократии, всестороннего развития личности и воздаяния сначала по труду, а в перспективе – по потребности – остаются вполне привлекательными. И это – тоже традиция. Традиция, имеющая историю. Ценности коммунизма с социализмом вполне хороши, они менялись и разрабатывались в течение более, чем столетия. И если у К. Маркса и В. И. Ленина мы, конечно, не находим идею патриотизма, там господствует пролетарский интернационализм, то уже в практических деяниях И. В. Сталина и у последующих «плохих-хороших» руководителей советской компартии, как и у теоретиков советского прочтения Маркса, тема патриотизма слышна вполне отчетливо. То есть старый добрый премодерн пробивается в конкретных исторических обстоятельствах через вполне модерновое учение. Потому что стоять за свою страну, народ и государство – это первейшее дело ради сохранения жизни и семьи. Конечно, в марксизме есть одно принципиальное ценностное расхождение с христианством: марксизм – сугубо светское учение, оно рассчитано, в первую очередь, на неверующих. И, несмотря на это, синтез идей все же происходит, например, в латиноамериканской теологии освобождения [8] или порой даже на просторах сегодняшнего российского Интернета [24]. Социализм объединяется с христианством, потому что вполне можно трудиться для справедливого мира с одновременной надеждой на Царствие Небесное. Впрочем, если патриот и хороший семьянин придерживается позиции скептицизма, «подвешивая» для себя тему трансцендентного как эмпирически непроверяемую, или даже вне православной традиции склонен видеть Бога как безличный Абсолют, но при этом он остается и патриотом, и семьянином, то можно сказать, что, по существу, он следует вполне традиционным гуманистическим ценностям. То есть, это «наш человек», а вера – дело интимное и свобода совести – одно из значимых завоеваний человечества.
Третий (хотя, возможно, не последний) источник уже достаточно традиционных гуманистических идей, это экзистенциальногуманистические учения ХХ века, где знаменитые психологи и философы выступают проповедниками достойных жизненных ориентиров. Речь идет об Э. Фромме, А. Маслоу и В. Франкле, о Х. Ортеге-и-Гассете, об Э. Му-нье. Обратим внимание, что и Э. Фромм, и Э. Мунье тесно связаны с марксизмом. Я не включаю в этот замечательный список Ж.-П. Сартра, потому что Сартр, на мой взгляд, не гуманист. Он ригорист и человек крайних позиций, даже если и состоял в компартии Франции. Его призывы во многом хороши, кроме того, что он отказывает человеку в праве на желание жить, и в праве на веру в высшее начало. С осуждением ближних у него гораздо лучше обстоят дела, чем с одобрением.
Всех указанных гуманистов можно отчасти упрекнуть в избыточном акцентировании темы индивида, личной жизни и личного развития, но на то они и «модерные» авторы: их пафос – пафос свободы личности от социального манипулирования; они стоят за ответственный выбор судьбы, славят любовь как следование добродетельному поведению, опасаются за судьбы высокой культуры и утверждают возможность создать такое общество, где не будет препятствий для реализации лучших сторон человеческой природы. Их пафос – смысл, а не влечение, жизнь, а не самоубийство, общение, а не одиночество.
То есть каждый источник «традиционных гуманистических ценностей», в том числе, в концепциях недавнего ХХ века, дает ценностному ориентированию России свои возможности , которые не так уж сложно совмещаются друг с другом. Не ограничиваясь отмеченными идеями, наверное, можно назвать и другие; главное, чтобы в них присутствовали и поддерживали друг друга лучшие достижения «премодерна» и «модерна».
Размышляя, мы к данному моменту приходим к выводу, что и возрождение традиционных ценностей в XXI веке, и их дальнейшее развитие и обогащение – вовсе не утопия. Конечно, история не может возвращаться к пройденному. Обстоятельства и события не повторяются в том виде, как оно было десятилетия и века назад (и, возможно, это хорошо), но в тех моментах, которые выступают как родовые, универсальные, важное ценностное содержание вновь воспроизводится, лишь отчасти скорректированное временем. Сам человек, род человеческий, жизнь, развитие, труд, творчество, благоволение, любовь, справедливость – всегда и традиционны, и новационны; они, как звезды, светят в любой век всем людям, живущим на нашей планете.
Есть, однако, самый трудный и самый главный вопрос, который касается практического следования тем ценностям, которые приняты как ориентир культурой, обществом, государством. Имеется в виду, что эти ценности должны быть глубоко усвоены основной массой населения и каждым индивидом, каждой личностью, которая делает их реальными регуляторами своей жизни. Вот где пролегает граница между утопическим и реалистическим : смогут ли принятые на вооружение традиционные ценности быть действенными мотивами поведения людей?
Наши современники и соотечественники весьма различны и далеко не все из них согласны с тем ценностным началом, когда надо укрощать собственные аппетиты, считаться с другими, служить сообществу, а, возможно, и жертвовать собой. Традиционные гуманистические ценности не могут понравиться эгоцентрикам, тем, кто «себе на уме», адептам «нетривиальных сексуальных отношений», персонам, жаждущим безраздельного доминирования или неограниченного богатства. Гуманистические ценности раздражают агрессивных и самовлюбленных, самодеятельных «ницшеанцев» и поборников «элитарности», которых немало в современном мире и которых массовая культура активно плодила все последнее столетие. И все же, думается, бóль-шая часть наших граждан естественным об- разом склонна разделять традиционные гуманистические ценности, корни которых уходят в глубину тысячелетий. Существует здоровый «культурно-биологический инстинкт», позволяющий даже просто интуитивно чувствовать абсолютную важность общего блага, без которого индивидуальное благо оказывается невозможным. Те, кто не испорчен фетишем денег, власти и символического потребления, легко откликается на призыв укреплять сообщество, воплощать справедливые решения и любить ближнего.
Впрочем, здесь возникает вторая сложность: а насколько власть, провозгласив ценности, сама способна им следовать? Власть и социум, социум и власть – две стороны одной медали, но все же одна сторона руководит другой. Именно власть определяет правила экономической, политической и идейной игры (если можно назвать перипетии социальной жизни игрой). И на многих примерах истории мы видим, как прекрасные гуманистические ценности фальсифицировались и подменялись, служили лишь приманкой для наивных душ, что, конечно, вызывало разочарование и отторжение. Так, те же марксистско-российские ценности всестороннего развития человека и социальной справедливости были заменены в Советском Союзе на ценности «вхождения в Западный мир» и оголтелое потребительство. А прекрасная просвещенческая демократия было откровенно фальсифицирована в Соединенных Штатах Америки и превратилась в борьбу денег и кланов. В том-то и беда, что вдохновляющие идеалы, которыми очарованы массы, нередко из корыстных соображений предаются самой властью, теми ее ведущими представителями, которые, образно выражаясь, «заказывают музыку» для всего общества. Власть, которая реально руководствуется традиционными гуманистическими ценностями – вот самая острая проблема, которую необходимо решать России на всех уровнях. Решать ее трудно, но нужно, и хочется верить, что постепенно эти ценности станут главными и определяющими во всех стратах и слоях общества, прежде всего – в руководящих структурах. Но для этого, думается, таким ценностям надо учить и в детском саду, и в школе, и в вузе, причем не только в курсах истории или в рамках «Основ российской государственности», но и при преподавании философии, культурологии, этики. Новые, будущие руководители страны должны быть гуманитарно образованы и вырасти с твердым убеждением, что традиционные гуманистические ценности – это то, ради чего стоит жить и за что бороться.
Краткие выводы
В рамках этой небольшой статьи мы рассмотрели вопрос о том, не является ли утопией следование в современном мире традиционным ценностям. Ответ, который получился: нет, не является. При всех постиндустриальноинформационных чертах сегодняшнего мира российское государство и культура могут ориентироваться на традиционные ценности. Другой вопрос, как именно их понимать. А понимать вполне возможно так.
– Традиционные ценности, которым стоит следовать, – это гуманистические ценности, откристаллизовавшиеся в прошлые эпохи. Это такие ценности, которые утверждают жизнь – рода, народа, человечества, каждого отдельного человека. И речь идет не просто о выживании, а о развитии и совершенствовании.
– Ценности эпохи премодерна – коллективистски и общинно направленные, делающие акцент на семье, сообществе, народе, государстве – становятся базой и фундаментом более поздних ценностей эпохи модерна, особо выделяющих личность с ее интересами. Даже если считать их в силу древнего происхождения «архаическими» (что, конечно, неверно, они не архаические, а «оснóвные»), то исторически они сливаются и спаиваются, дают синтез с ценностями свободы, творчества, личностного самостояния. Традици- онные гуманистические ценности – это единство социально-коллективного и индивидуального вектора; и на том, и на другом уровне звучат темы важности справедливости, любви, добра, творчества и т. д.
Сама проблема «возвращения к традиционным ценностям» возникла из того сокрушения пирамиды ценностей, которое, начавшись в конце XIX века, в начале XXI-го развернулось в полную силу, в результате чего в качестве ориентиров для людей стали пропагандироваться и вменяться ценности (или точнее «антиценности»), ведущие и к гибели человеческого рода, и к деградации и смерти индивидов.
Идейными источниками для создания позитивной ценностной базы на основе традиции могут, на наш взгляд, служить впитанные современным миром христианские идеи милосердия и добра, идеи марксизма и концепции, из- ложенные в работах гуманистических философов и психологов ХХ века. Эти три разные духовно-интеллектуальные традиции не пересекаются лишь на первый взгляд, они несут в себе много общего и могут быть успешно использованы для дальнейшей разработки арсенала гуманистических ориентиров.
Важнейшим фактором избегания утопизма при реализации ценностной политики является глубокое принятие ценностей людьми, их интериориза-ция. Только она и позволяет практически руководствоваться заявленными ценностями, а не просто о них рассуждать. И речь идет не только о сознании масс, но в немалой степени – о сознании представителей власти, о руководстве всех уровней. Когда власть практически руководствуется традиционными гуманистическими ценностями, у страны есть будущее.