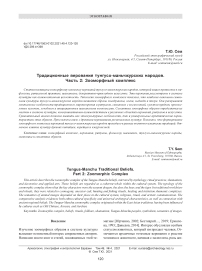Традиционные верования тунгусо-маньчжурских народов. Часть 2: зооморфный комплекс
Автор: Сем Т.Ю.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 4 т.49, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена зооморфному комплексу верований тунгусо-маньчжурских народов, который нашел проявление в мифологии, ритуальной практике, шаманизме, декоративно-прикладном искусстве. Эти верования рассмотрены в системе культуры как взаимосвязанная целостность. Типология зооморфного комплекса показала, что наиболее важными символами культуры тунгусо-маньчжурских народов являются образы змеедракона, оленя, медведя и тигра. Они раскрывают ментальные особенности традиционного мировоззрения и ритуалов, связанные с космогонией, культом предков, промысловым культом, лечебным и инициационным шаманскими комплексами. Семантика зооморфных образов определяется их местом в системе культуры, коммуникативным взаимодействием в различных областях верований, ритуалов и искусства. Сравнительный анализ позволил выявить как этнокультурные особенности, так и универсальные архетипические характеристики этих образов. Прослежена связь с древними верованиями региональных культур. Показано, что формирование зооморфного комплекса верований тунгусо-маньчжурских народов проходило в рамках восточно-азиатских традиций. Отмечено влияние культур древних китайцев, корейцев и чжурчжэней.
Зооморфный комплекс, верования, ритуалы, фольклор, шаманизм, тунгусо-маньчжурские народы, символика и семантика образов
Короткий адрес: https://sciup.org/145146492
IDR: 145146492 | УДК: 299.4+398 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.4.120-126
Текст научной статьи Традиционные верования тунгусо-маньчжурских народов. Часть 2: зооморфный комплекс
Изучение зооморфных образов в системе культуры вызывает неизменный интерес современных авторов. Написано много книг и статей, посвященных этой те- матике [Юрченко, 2002; Бестиарий…, 2019; Ермолова, 1993; Давыдов, 2014]. Интерес обусловлен особым статусом животных, который им придает человек. Отмечаются архаичные тотемные верования о родстве человека и животного, начиная с палеолита, роль жи-
Археология, этнография и антропология Евразии Том 49, № 4, 2021 © Сем Т.Ю., 2021
вотных в шаманизме, развитие культа животных и связанных с ним культов предков и промыслового, зоо-морфность образов богов [Токарев, 1964, с. 236–251; Соколова, 1972, с. 43–120]. В последние десятилетия в социологии и этнографии произошел «онтологический поворот», в результате которого было предложено рассматривать все объекты мира как равнозначные (человек, животные, мифологические существа, духи, предметы, священные места и пр.) [Соколовский, 2016, с. 105]. В связи с этим представляется важным и актуальным изучение семантики зооморфных образов у разных народов с целью выявления их типологии и общемировых ценностей.
Целью настоящей работы является исследование типологии зооморфного комплекса верований тунгусо-маньчжурских этносов в фольклоре, ритуалах, шаманизме и искусстве для выявления символики и семантики зооморфных образов в системе культуры, а также этнокультурных влияний в этом комплексе. Концептуальными подходами послужили системный (анализ материала, рассматривающий явление культуры в целостности взаимосвязанных элементов), комплексный (анализ фольклора, верований, ритуальной практики, шаманизма, искусства), герменевтический (исследование образов как текстов культуры) и семантический (выявление символики и значения образов). Использованы сравнительно-исторический, системный, типологический, семантический, иконографический методы.
Материалы
В системе культуры тунгусо-маньчжурских народов наиболее важное значение среди зооморфных образов имели змеедракон, олень, тигр и медведь. Они встречаются как в верованиях и ритуалах, так и в декоративно-прикладном искусстве. В литературе рассматривались образы тигра и медведя у народов Амура, преимущественно удэгейцев [Старцев, 2017, с. 84– 120], эвенков и эвенов, как культовые [Василевич, 1971; Попова, 1967]. Остальные аспекты их анализа (в искусстве, шаманизме) не затрагивались, либо их касались кратко. Образ оленя рассматривался в культуре эвенков, но в сравнительном плане в фольклоре, шаманстве всех тунгусо-маньчжурских народов не изучался [Ермолова, 1993; Давыдов, 2014]. В настоящей работе зооморфные образы исследуются в едином комплексе представлений этих народов на материале фольклора, в т.ч. мифологии, а также верований, ритуалов, шаманства, искусства.
Образ змеедракона и его символика. Согласно древней традиции тунгусо-маньчжурских народов, змеедракон ассоциировался с космосом и воплощал хозяина вселенной, творца мира – солнечного змея.
Эти представления сохранились у эвенков, нанайцев, нивхов, а также в мифологии айнов. Изображения змея, свернувшегося в спираль либо в виде S-образного знака, были широко распространены на берестяных изделиях нанайцев, удэгейцев и нивхов [Шренк, 1899, ил. 26].
У эвенков Забайкалья и верхнего Амура сохранился космогонический миф о доставании лягушкой земли со дна мирового океана по просьбе змеи. Оба эти существа обитали в воде в начале творения мира [Мазин, 1984, с. 19–20]. У маньчжурских эвенков имеется мифологический сюжет о двух змеях, поддерживающих землю [Shirokogoroff, 1935, р. 125]. В мифологии айнов два первопредка – верховные божества неба, солнца или грома (мужское начало) и огня, родового древа (женское начало) – спустились в образе змей с неба на землю и сотворили рельеф местности [Munro, 1963, р. 17].
В нанайской мифологии богиня-прародительница Мамельди творила землю из девяти змей-речек, скручивая их, как бы сбивая воду [Сем Т.Ю., 2015, с. 321]. Интересно, что на одном из сакральных камней Сакачи-Аляна имеются изображения девяти змей. А.П. Окладников предполагал, что древние памятники служили нанайцам моделью для их мифов и верований [1971, с. 150]. Нанайцы считали воплощением образа космического змеедракона реальную гору Девятку. Согласно мифологии нанайского рода Самаров, живущих в низовьях Амура на его притоке р. Кондон, космический змеедракон Мудур являлся хозяином мира и неба, совместно с хозяйкой земли и горы черепахой Кайласу владел родовыми горами и считался их олицетворением [Кубанова, 1992, с. 3; Переверзева, 2005]. Отметим, что близкую символику имели восточно-азиатские образы (древних китайцев и корейцев) небесного змея и черепахи (воплощение земли-горы) [Джарылгасинова, 1972, с. 141, 147; Юань Кэ, 1965, с. 110–111].
У удэгейцев сохранился фольклорный сюжет с инициационным мотивом о прохождении героя сквозь тело змеи с целью перерождения в новом качестве или нового рождения после мнимой смерти [Фольклор…, 1998, с. 325]. Очевидно, это был шаманский ритуал обретения героем новых качеств, способности общения с миром духов.
В шаманизме забайкальских эвенков-орочонов изображение космического змея в виде шнура из синей ткани, набитого оленьим волосом, с тремя головами на одном конце использовалось во время лечебных ритуалов (РЭМ, кол. 8761-19327). На шаманском бубне орочонов Маньчжурии изображены три змеи желтого, красного и черного цвета – символы трех миров [Жонггуо шаша…, 2016, с. 6]. У удэгейцев, также как у эвенков, с образом змеедракона были связаны представления о земле. Среди шаманских атри- бутов у них имелся пояс с подвесками в виде сдвоенных змей (РЭМ, кол. 1995-2) [На грани миров…, 2006, с. 237; Фольклор…, 1998, с. 295]. На спинке шаманского халата нанайской большой шаманки Нэнэ Оненко XIX в. был изображен красный круг с лучами и чешуей змеедракона – символ космического солярного змея, внутри круга – две утки, олицетворяющие миф о творении мира, и тигр – главный дух-покровитель шаманов, хозяин душ зверей и людей (РЭМ, кол.11406-1) [На грани миров…, 2006, с. 46–47].
В изобразительном искусстве тунгусо-маньчжурских народов (нанайцев, негидальцев и ульчей) сохранились представления о драконе, который обязательно изображался на свадебных халатах сикэ . Считалось, что это послужит оберегом от злых духов, обеспечит женщине благополучие, рождение детей [Сем Ю.А., 1973, с. 221; Титорева, 2016, с. 217]. У удэгейцев и нанайцев этот образ повторялся на берестяных коробках. На утвари часто изображалась пара драконов – вероятно, первопредков, что было связано с древнекитайскими образами антропоморфных полубогов, имевших змееподобные тела и конечности (РЭМ, кол. 1870-66, 1995-14) [Сем Т.Ю., 2020, с. 60–63, 67].
Образ змеедракона в представлениях тунгусоманьчжурских народов связан с таежными персонажами – медведем и тигром. Детьми верховного божества в образе змеедракона Мудур Кайласу были близнецы Адо-сэвэни – таежный и водный медведи На Дуэнтэ-ни и Муэ Дуэнтэни [Кубанова, 1992, с. 3; Переверзева, 2005]. В шаманском лечебном комплексе нанайцев-са-магиров имелась фигура дугообразного змея с головами медведей или тигров (РЭМ, кол. 4795-363). Эти представления отражают древний пласт восточноазиатских верований. Характерно, что образ небесного змея-радуги был известен древним китайцам [Васильев и др., 2015, с. 459].
Интересно, что шаманы орочей и удэгейцев изготавливали ритуальные маски, украшенные рисунком в виде спиралей – символов змей. Удэгейский большой шаман надевал такую маску во время ритуала больших поминок или обряда уунди (обновления шаманской силы и привлечения сил плодородия природы). Ее называли хамбаба – «хозяин вселенной» [Сем Ю.А., 1993] и посвящали шаманскому предку Тэунки, имевшему также облик тигра (РЭМ, кол. 1870-38) [На грани миров…, 2006, с. 181–182]. Это имя восходит к общетунгусскому шаманскому понятию тай/тэу/туй . У эвенков так называется шаманский дар или начинающий шаман, обретший способность видеть духов [Рычков, 1923, с. 115].
Образ оленя с ветвистыми рогами. Он был широко известен в верованиях тунгусо-маньчжурских народов. У эвенков олень с ветвистыми рогами ассоциировался с космосом и сюжетом космической охоты в мифологии. Образ имел солярную символику [Анисимов, 1958, с. 69–71; Мазин, 1984, с. 9; Сем Л.И., Сем Ю.А., 2020, с. 203–207]. Герой эвенкийского мифа, стреляющий в солнечную оленуху, которая уносит на своих рогах солнце [Мазин, 1984, с. 9], вписывается в образ великого стрелка монголотюркской мифологии. Миф о погоне за солнцем восходит, по мнению некоторых исследователей, к восточно-азиатской традиции и связан с идеей умирающего и воскресающего божества [Яншина, 1984, с. 96]. В мифологии народов Восточной Азии мотив о великом стрелке также широко распространен, но в сюжете о множественности солнц [Шаньшина, 2000, с. 43, 47].
Данный сюжет сохранился в орнаменте периферийного тунгусо-маньчжурского этноса уильта Сахалина. На костяной луке седла, надеваемого на священного оленя для перевозки сакральных предметов, из фотоколлекции Ю.А. Сем и Л.И. Сем имеется изображение оленя с ветвистыми рогами, выполненное в криволинейном скифском зверином стиле, рядом с козленком [Сем Т.Ю., 2015, с. 202]. Животные символизировали ход солнца и обновление природы, смену старого солнца (олень) новым (козленок). Этот сюжет согласуется с представлениями эвенов о крылатом олене как старом солнце и птице-стерхе как новом солнце, на которых шаман во время новогоднего ритуала совершает полет на небо к богине солнечного дерева и обратно [Алексеев, 1993, с. 25–34].
У народов Амура образ оленя с ветвистыми рогами сохранился в фольклоре с элементами героического эпоса. В нанайской легенде рассказывается о том, как мерген (меткий стрелок и мудрый человек-шаман) путешествует на небо за своей женой – дочерью солнца. По пути он встречает в первозданном болоте оленя с рогами до небес, кабана, вросшего клыками в землю, рыбу, освобождает их от соединения со стихиями неба и земли, которые расходятся, и таким образом совершается акт творения мира [Сем Л.И., Сем Ю.А., 2020, с. 148–152, 203–208]. Аналогичный сюжет был известен и удэгейцам [Фольклор…, 1998, с. 466–469].
В шаманской легенде маньчжуров говорится о прародителе по имени Букури Йонгсон, что означает «богатырь гора-олень» [Гимм, 1992, с. 107]. В предании о Нишанской шаманке предок женится на богине по имени Бям Буке – лунной оленухе [Книга…, 1992, с. 126]. То есть оба первопредка людей связаны с образами оленей. Интересно, что у нанайцев под родовым деревом душ изображены два оленя, хозяева дерева. В фольклоре забайкальских эвенков образ горы-оленя ассоциируется с первопредком Куладаем [Садко, 1971, с. 9–13]. У енисейских эвенков первопредок, первый шаман Гуривуль, имеет своего двойника – духа-помощника в образе оленя [Василевич, 1936, с. 136–138].
В эвенкийском шаманизме образы лося и оленя широко распространены. Костюм шамана символизировал космос и птицеоленя. Среди амулетов шаманов забайкальских эвенков имеются изображения крылатых оленей и птиц, наряду с фигуркой двойника – предка шамана (РЭМ, кол. 8761-8707/1-3, 8608/1-5) [Сем Т.Ю., 2017, с. 191].
Образ оленя запечатлен на предметах со средневековых памятников чжурчжэней Приморья. Его изображения с повернутой назад головой встречаются на бронзовых и железных поясных пряжках из Лазовского городища, каменном тигле из Ананьевского городища. Этот образ связан с шаманством как символ прохода в иной мир. Изображение оленя с ветвистыми рогами, вытянутой вперед головой имеется на овальной металлической бляшке из Шайгинского городища [Шавкунов, 1990, с. 259, 262, 264]. Образы оленя с ветвистыми рогами и солярного оленя с солнцем на рогах, запечатленные на керамике и петроглифах, восходят к эпохе неолита Маньчжурии [Алкин, 2007, с. 102, 107].
Образы медведя и тигра. Эти образы играли важную роль в мифологии и культовой практике нанайцев и ульчей. В нанайском и ульчском фольклоре медведь имеет статус родового тотемного предка. Были распространены мифы о браке медведицы и охотника или девушки и медведя [Бурыкин , 1996, с. 66-67]. Медвежий культ у тунгусо-маньчжурских народов восходит к эпохе неолита. Уже тогда, вероятно, существовал миф о сожительстве женщины и медведя-предка, имевший тотемические основания. Об этом свидетельствуют фигурки женщин и медведей, найденные археологами в культовых местах на нижнем Амуре [Медведев, 2005].
Медведь в верованиях тунгусо-маньчжурских народов являлся космическим персонажем трех миров вселенной. В нанайской мифологии его образ был связан с одним из трех солнц, одновременно появившихся на небе [Трусов, 1884, с. 448-449]. Также медведь считался хозяином среднего мира, тайги, животных. Во время поминок нанайский род Киле отправлялся в мифический путь в мир мертвых були верхом на медведе [Золотарев, 1939, с. 161]. В шаманском лечебном комплексе уссурийских нанайцев медведь Аями был связан со стихией огня. Он считался мужем богини плодородия женщины-ло сихи Майдя-мама (РЭМ, кол. 11429-7, 8). Согласно мифологии нанайцев, уль-чей и амурских эвенков, хозяйкой земли и подземелья являлась медведица, она была шаманским божеством [Кубанова, 1992, с. 3–19; Варламова, 1994]. Чаще всего в нанайских и ульчских верованиях образ медведя олицетворял хозяина тайги и дерева жизни [Липская, 1932; Сем Т.Ю., 2003, с. 163].
В лечебной магии ульчей и нанайцев представлены два медведя – таежный На Дуэнтэни и речной
Муэ Дуэнтэни. Первый изображался горизонтально в обычной позе таежного зверя, а второй – вертикально, сидящим на задних лапах [Кубанова, 1992, с. 4, 13]. В комплексе ульчей, связанном с медвежьим праздником, хозяйкой тайги является медведица ду-энтэ, а воду маркируют два медвежонка муэ дуэн-тэни . В шаманской лечебной практике образы барса ярга , тигра амба и медведя дуэнтэ считались самыми сильными, помогающими от всех болезней [Шимке-вич, 1896, с. 40-46; Кубанова, 1992, с. 13]. В шаманстве нанайцев, ульчей, орочей важную роль играли два духа-помощника шамана, имевшие зооморфный облик, – Манги в образе медведя и Бучу в образе пти-цезмея или кабарги [Сем Т.Ю., 2015, с. 357].
Представления о тигре на верхнем и нижнем Амуре также имеют неолитические истоки. Стилизованный рисунок тигриной морды выбит на священном камне, где изображена личина с растительно-антропоморфной моделью мира [Окладников, 1971, с. 170; Сем Т.Ю. , 2003, с. 163]. В фольклоре нанайцев имеется осмысление этого сюжета. Н.А. Липская записала нанайский миф о первопредках Джули и Маси , которые, спасаясь от потопа-дождя, проходят в иной мир через тело камня-тигра, входя в пасть животного и выходя через круп [Липские А.Н. и Н.А., 1936–1937, л. 23–24].
Тигр, как и медведь, связан в представлениях нанайцев с тремя мирами вселенной. В мифе о трех солнцах светила имели облик животных – тигра, медведя и змея. Первопредок Гуранта стреляет в лишние светила, оставляя одно в облике тигра [Трусов , 1884, с. 448–449]. В ульчской мифологии первопредок Кон-долику в образе лося становится хозяином леса дэрки дуса в облике тигра, а младшая сестра превращается в солнечного тигра дуса сиула и уходит на небо [Золотарев , 1939, с. 170].
У нанайцев и ульчей тигр Дусэ считался хозяином гор и леса [Кубанова, 1992, с. 23–30]. На шаманском халате Нэнэ Оненко в круге, символизирующем солнечного змея – хозяина вселенной, нарисован тигр, связанный с горами [Сем Т.Ю. , 2003, с. 164-165]. Изображенный на магическом кольце охотника тигр с телом, прорастающим листьями деревьев, ассоциировался с хозяином тайги [Сем Ю.А., 1992]. Кроме того, в нанайском фольклоре тигр выступает в роли предка рода, помощника хозяина подземелья Эждэн-хана. Он имеет антропо-зооморфный облик тигра с лицом бородатого старика [Сем Т.Ю., 2015, с. 532].
У амурских эвенков тигр считался покровителем шамана, и изображение шкуры зверя помещали на спину шаманского костюма [Мазин, 1984, с. 174]. Маньчжурские шаманы вели свою родо словную от предков в образе тигра и исполняли специальные ритуалы, связанные с ним [Bulgakova, 2018].
Мнения о происхождении культ а тигра у народов Амура разделились. А.Ф. Старцев считает, что он сформировался под влиянием восточно-азиатских традиций [2017, с. 102]. По мнению С.В. Березницкого, культ имеет местное происхождение, поскольку тигр водился в этих местах [2003, с. 215]. Известно, что у членов императорской династии чжурчжэней были печати с золотым изображением тигра, дающие им право на наследственное владение землей и имуществом [Сем Т.Ю., 2013, с. 141].
Результаты и обсуждение
Основные зооморфные персонажи верований тунгусо-маньчжурских народов - змеедракон, олень, медведь и тигр - нашли отражение в мифологии и фольклоре, ритуальной практике, шаманизме, искусстве (ритуальной пластике, орнаменте на одежде и бересте). Представления о них занимают определенное, только им присущее место в системе сакральной культуры этих народов.
Образ змеедракона был широко распространен в шаманизме эвенков, нанайцев, удэгейцев, маньчжуров. В эвенкийской и нанайской традициях он ассоциировался с космосом, солярной символикой, творцом земли. Этот образ представлен в декоративно-прикладном искусстве. Нанайцы и ульчи вышивали изображение змеедракона на спинке свадебных халатов. Оно воспринималось как оберег, доброжелательный знак. Считалось также, что это обеспечит рождение детей. На берестяных сосудах удэгейцев, нанайцев, уильта змеедракон часто изображался в виде спирали или S-образного знака. Образ змее-дракона в верованиях тунгусо-маньчжурских народов Амура был связан с образами медведя и тигра. Это нашло отражение в шаманских масках удэгейцев, лечебной скульптуре нанайцев и негидальцев, представлении о сакральном ландшафте нанайцев рода Самар. Образ змеедракона широко распространен в восточно-азиатской традиции. Он запечатлен в скульптуре и малой пластике чжурчжэней. В мифологии древних китайцев и корейцев змеедракон связан с культом первопредков. Он ассоциировался с небом и водой, являлся символом доброго начала.
Образ оленя с ветвистыми рогами у эвенков и уильта ассоциировался с космосом, солярной символикой, землей и подземельем, его рога считались лестницей на небо. В мифологии и фольклоре маньчжуров первопредки имели облик человека и оленя, маралухи. Эти же представления сохранились у нанайцев и ульчей в изобразительном искусстве (олени под родовым деревом). В эвенкийском мифе о космической охоте олень связан со сменой дня и ночи, приходом нового года. В фольклоре нанайцев и удэгейцев мифический образ космического оленя с ветвистыми рогами до небес вошел в эпическое сказание и вол- шебные сказки. У эвенков широко распространены амулеты в виде оленя/лося. У уильта на луке седла сакрального оленя есть изображение космического оленя в скифском зверином стиле рядом с козленком, которые символизировали старое и молодое солнце. Эти образы сопоставимы с персонажами шаманского полета на небо во время новогоднего ритуала эвенов. Следует отметить аналогии изображения оленя в чжурчжэньской металлической пластике.
Образы медведя и тигра занимают важное место в системе верований и культов тунгусо-маньчжурских народов, нередко переплетаясь. Они маркируют три мира вселенной: медведь - солнце, тайгу и воду, огонь и подземелье; тигр - солнце и небо, тайгу-гору, огонь и подземелье. Медведь являлся тотемическим предком рода, племени. Известны мифы о его браке с девой. Аналогичные представления были о тигре как предке. Образ медведя занимал особое место в лечебной магии, ритуальной скульптуре. Медведь и тигр считались сильными шаманскими духами-покровителями у всех тунгусо-маньчжурских народов.
Рассмотренные зооморфные образы известны на нижнем Амуре (медведь, тигр, олень, змеедракон) и в Маньчжурии (змеедракон, олень, тигр) с древности. Частично они формировались в рамках восточноазиатского ареала, о чем свидетельствуют материалы по чжурчжэням (образ оленя, тигра, змеедракона), древним китайцам и древним корейцам (образ змее-дракона, тигра).
Выводы
Результаты исследования основных персонажей зооморфного комплекса верований в системе культуры тунгусо-маньчжурских народов характеризуют их как космогонические образы, имеющие высокий семиотический статус. Восприятие каждого из этих персонажей как универсальных символов культуры отражает их особенности в мифологии, шаманстве, искусстве, верованиях и ритуалах. Если образы змеедракона и оленя в большей степени космогоничны, то образы медведя и тигра сохранили связь с промысловым культом и культом предков, средним миром, хотя и они ассоциировались с тремя мирами вселенной, особенно в шаманизме. На формирование этих зооморфных образов в системе культуры тунгусо-маньчжурских народов оказали влияние традиции древних китайцев и корейцев, чжурчжэней.
Рассмотренный зооморфный комплекс раскрывает специфику религиозных представлений о мире. Несмотря на общность верований тунгусо-маньчжурских народов, у каждого из них оформились этнокультурные особенности. Так, у маньчжуров преобладали культы тигра и змеедракона, образ оленя в фольклоре был связан с культом предков; у народов Амура (нанайцев, ульчей, удэгейцев, негидальцев, уильта, орочей) наиболее почитаемыми являлись медведь и тигр, образ оленя представлен в фольклоре нанайцев и уль-чей, искусстве уильта, образ змеедракона сохранился у нанайцев и нивхов; у эвенков и эвенов наибольшее значение имели культы оленя и медведя, образы тигра и змея нашли отражение в фольклоре, шаманизме и искусстве. Наряду с этим в верованиях, связанных с зооморфным комплексом, отмечаются универсальные архетипические символы (космический олень с ветвистыми рогами, солярный змей, медведь и тигр), восходящие к эпохе неолита, встречающиеся на петроглифах и в ритуальной скульптуре на нижнем Амуре и в Маньчжурии.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Национального центра научных исследований Франции в рамках проекта № 21-59-15002.
Список литературы Традиционные верования тунгусо-маньчжурских народов. Часть 2: зооморфный комплекс
- Алексеев А.А. Забытый мир предков: (Очерки традиционного мировоззрения эвенов Северо-Западного Верхоянья). – Якутск: Ситим, 1993. – 94 с.
- Алкин С.В. Древние культуры Северо-Восточного Китая: Неолит Южной Маньчжурии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. – 167 с.
- Анисимов А.Ф. Религия эвенков в историко-генетическом изучении и проблема происхождения первобытных верований. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. – 235 с.
- Березницкий С.В. Этнические компоненты верований и ритуалов коренных народов Амуро-Сахалинского региона. – Владивосток: Дальнаука, 2003. – 486 с.
- Бестиарий V: Рядом с людьми / отв. ред. М.А. Родионов, О.М. Меренкова. – СПб.: МАЭ РАН, 2019. – 187 с.
- Бурыкин А.А. Мифологические рассказы о медведе у народов Северо-Восточной Азии и Северной Америки // Системные исследования взаимосвязи древних культур Сибири и Северной Америки: Духовная культура / отв. ред. Е.А. Окладникова. – СПб.: МАЭ РАН, 1996. – Вып. 4. – С. 60–89.
- Варламова (Кэптуке) Г.И. Новые фольклорные материалы по эвенкийскому шаманизму // Гуманитарные науки в Сибири. – 1994. – № 4. – С. 48–53.
- Василевич Г.М. Сборник материалов по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору. – Л.: Ин-т народов Севера ЦИК СССР, 1936. – 290 с.
- Василевич Г.М. Культ медведя у эвенков // Религиозные представления и обряды народов Сибири в XIX – начале XX века. – Л.: Наука, 1971. – С. 150–169. – (Сб. МАЭ; т. XXVII).
- Васильев С.А., Березкин Ю.Е., Козинцев А.Г., Пейрос И.И., Слободина С.Б., Табарев А.В. Заселение человеком Нового Света: Опыт комплексного исследования. – СПб.: Нестор-История, 2015. – 680 с.
- Гимм М. Маньчжурская мифология // Мифы народов мира: энцикл. – М.: Сов. энцикл., 1992. – Т. 2. – С. 107–109.
- Давыдов В.Н. Исследование отношений человека и оленя в Южной Якутии // Материалы полевых исследований МАЭ РАН / отв. ред. Е.Г. Федорова. – СПб.: МАЭ РАН, 2014. – Вып. 14. – С. 95–117.
- Джарылгасинова Р.Ш. Древние когуресцы: (К этнической истории корейцев). – М.: Наука, 1972. – 202 с.
- Ермолова Н.В. Олень в традиционных представлениях эвенков // Традиционные верования в современной культуре этносов. – СПб.: Рос. этногр. музей, 1993. – С. 152–166.
- Жонггуо шаша минзу венву тудян: Жонггуо минус бовугуан донгбейя хунлу минзу венхуанюан (Иллюстрированный словарь памятников материальной культуры китайских малых народов: Музей национальностей оленеводов Северо-Восточной Азии). – Шэньянь: Ляонин миньцзу чубаньшэ, 2016. – 221 с. (на кит.яз.).
- Золотарев А.М. Родовой строй и религия ульчей. – Хабаровск: Дальгиз, 1939. – 206 с.
- Книга о шаманке Нисань / факс. рукописи, изд. текста, транслитерация, пер. на рус. яз., предисл., примеч. К.С. Яхонтова. – СПб.: Петербург. Востоковедение; Водолей, 1992. – 147 с.
- Кубанова Т.А. Ритуальная скульптура нанайцев (из собрания Музея советского изобразительного искусства): каталог. – Комсомольск-на-Амуре: [б. и.], 1992. – 178 с.
- Липская А.Н. О загробном мире. 1932. 34 л. // Архив МАЭ РАН. Ф. 5. Оп. 5. Д. 6.
- Липские А.Н. и Н.А. Материалы экспедиции: Полевые записи по теме Большие Поминки, 1936–1937. 155 л. // Архив МАЭ РАН. Ф. 5. Оп. 2. Д. 62.
- Мазин А.И. Традиционные верования и обряды эвенков-орочонов (конец XIX – начало ХХ века). – Новосибирск: Наука, 1984. – 200 с.
- Медведев В.Е. Неолитические культовые центры в долине Амура // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2005. – № 4. – С. 40–67.
- На грани миров: Шаманизм народов Сибири (из собрания Российского этнографического музея. СПб.). – М.: Художник и книга, 2006. – 296 с.
- Окладников А.П. Петроглифы Нижнего Амура. – Л.: Наука, 1971. – 336 с.
- Переверзева О.В. Мифопоэтическое пространство нанайцев долины реки Девятки в XIX–XX веках // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2005. – № 1. – С. 97–111.
- Попова У.Г. О пережитках культа медведя (уркаак) среди эвенов Магаданской области // Тр. Сев.-Вост. комплекс. науч.-исслед. ин-та СО АН СССР. – 1967. – Вып. 17. – С. 174–181.
- Рычков К.М. Енисейские тунгусы // Землеведение. – 1923. – Т. XXV, кн. 3/4. – С. 107–149.
- Садко С.А. Эвенкийские сказки. – Новосибирск: Зап.- Сиб. кн. изд-во, 1971. – 134 с.
- Сем Л.И., Сем Ю.А. Мифы, сказки, легенды нанайцев. – СПб.: Рос. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена, 2020. – 667 с.
- Сем Т.Ю. Модель мира // История и культура нанайцев: ист.-этногр. очерки. – СПб.: Наука, 2003. – С. 162–167.
- Сем Т.Ю. Отражение присваивающей и производящей экономики в культах и обрядах народов Приамурья и Приморья XI–XIV вв. // Россия и АТР. – 2013. – № 2. – С. 140–148.
- Сем Т.Ю. Картина мира тунгусов: пантеон (семантика образов и этнокультурные связи): ист.-этногр. очерки. – СПб.: С.-Петербург. гос. ун-т, 2015. – 640 с.
- Сем Т.Ю. Шаманизм эвенков по материалам Российского этнографического музея. – 2-е изд. – СПб.: Гуманитарная академия, 2017. – 302 с.
- Сем Т.Ю. Коммуникация с природой в удэгейском орнаменте на берестяных коробках из коллекции Российского этнографического музея: символика образов // Homo Eurasicus в системах социальных и культурных коммуникаций: коллективная монография по материалам Х Международной научной конференции 24 октября 2019 г. – СПб.: Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена, 2020. – С. 56–70.
- Сем Ю.А. Нанайцы: Материальная культура. Вторая половина XIX – середина XX в. – Владивосток: Дальневост. фил. СО АН СССР, 1973. – 314 с.
- Сем Ю.А. Пэрхи // Северные просторы. – 1992. – № 2/3. – С. 35–36.
- Сем Ю.А. Голос хозяина Вселенной // Северные просторы. – 1993. – № 5/6. – С. 17–18.
- Соколова З.П. Культ животных в религиях. – М.: Наука, 1972. – 214 с.
- Соколовский С.В. Материальная семиотика и этнография материальной культуры // Этногр. обозрение. – 2016. – № 5. – С. 103–115.
- Старцев А.Ф. Этнические представления тунгусо-маньчжуров о природе и обществе. – Владивосток: Дальнаука, 2017. – 231 с.
- Титорева Г.Т. Орнаментика свадебного костюма нанайцев // Орнаментика в артефактах традиционных культур: мат-лы XV Междунар. С.-Петербург. этногр. чтений. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. гос. ун-та пром. технологий и дизайна, 2016. – С. 217–220.
- Токарев С.А. Ранние формы религии и их развитие. – М.: Наука, 1964. – 399 с.
- Трусов Д. Отчет о состоянии камчатской миссииза 1883 г. // Иркут. епарх. ведомости. – 1884. – № 40. – С. 438–468.
- Фольклор удэгейцев: ниманку, тэлунгу, ехэ / сост. М.Д. Симонов, В.Т. Кялундзюга, М.М. Хасанова. – Новосибирск: Наука, 1998. – 560 с. – (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; т. 18).
- Шавкунов Э.В. Культура чжурчжэней-удигэ XII–XIII вв. и проблема происхождения тунгусских народов Дальнего Востока. – М.: Наука, 1990. – 282 с.
- Шаньшина Е.В. Мифология первотворения у тунгусоязычных народов Дальнего Востока России (опыт мифологической реконструкции и общего анализа). – Владивосток: Дальнаука, 2000. – 156 с.
- Шимкевич П.П. Материалы для изучения шаманства у гольдов. – Хабаровск: [Тип. Канцелярии Приамур. генерал-губернаторства], 1896. – 133 с. – (Зап. Приамур. отд. ИРГО; т. 2, вып. 1).
- Шренк Л.И. Об инородцах Амурского края. – СПб.: [Тип. Имп. Акад. наук], 1899. – Т. 2. – 314 с.
- Юань Кэ. Мифы Древнего Китая. – М.: Наука, 1965. – 496 с.
- Юрченко А.Г. Тигрица и грифон: Сакральные символы животного мира. – СПб.: Азбука-классика; Петербург. Востоковедение, 2002. – 400 с.
- Яншина Э.М. Формирование и развитие древнекитайской мифологии. – М.: Наука, 1984. – 248 с.
- Bulgakova T. Tiger rituals and beliefs in shamanic Tungus-Manchu cultures // Human-Environment Relationships in Siberia and Northeast China: Skills, Rituals, Mobility and Politics among the Tungus Peoples / eds. A. Lavrillier, A. Dumont, D. Brandišauskas. – P.: Centre dʹ Études Mongoles et Sibériennes, 2018. – Р. 1–22. – (Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines; vol. 49).
- Munro N.G. Ainu creed and cult. – N. Y.: Columbia University press; L.: Routledge and Kegan Paul, 1963. – 171 p.
- Shirokogoroff S.M. Psychomental complex of the Tungus. – Peking: Catholic University Press, 1935. – 469 p.