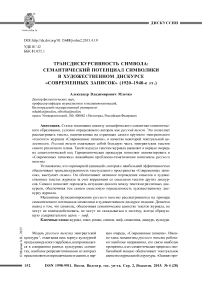Трансдискурсивность символа: семантический потенциал символики в художественном дискурсе «Современных записок» (1920-1940-е гг.)
Автор: Млечко Александр Владимирович
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 4 (28), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу специфического семантико-семиотического образования, условно определяемого автором как русский текст. Это позволяет рассматривать тексты, напечатанные на страницах самого крупного эмигрантского «толстого» журнала «Современные записки», в качестве некоторой текстуальной целостности. Русский текст охватывает собой большую часть эмигрантских текстов самого различного плана. Такой подход к текстам журнала выявляет в первую очередь их социологический код. Герменевтическая процедура позволяет активизировать в «Современных записках» важнейшие проблемно-тематические комплексы русского текста. Установлено, что «примарной единицей», которая с наибольшей эффективностью обеспечивает трансдискурсивность текстуального пространства «Современных записок», выступает символ. Он обеспечивает активное порождение смыслов в художественных текстах журнала за счет корреляции со смыслами текстов других дискурсов. Символ позволяет порождать ситуацию диалога между текстами различных дискурсов, обеспечивая тем самым смысловую определенность художественному дискурсу журнала. Механизмы функционирования русского текста рассматриваются на примере семантического потенциала символики в художественном дискурсе издания. Делается вывод о том, что символы, обеспечивая семантическое единство текстов журнала, не могут не взаимодействовать, не могут не складываться в систему, всегда образующую содержательное целое - миф.
Журнал, текст, роман, символ, миф, семантика, дискурс, культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14970266
IDR: 14970266 | УДК: 81’42 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2015.4.19
Текст научной статьи Трансдискурсивность символа: семантический потенциал символики в художественном дискурсе «Современных записок» (1920-1940-е гг.)
DOI:
Модель русского текста эмигрантской культуры 1, охватывая весь корпус культурной продукции русского зарубежья, воспроизводится в совершенно разных культурных сегментах, наиболее репрезентативными из которых представляются периодические издания, в пер- вую очередь, «Современные записки». Именно здесь механизмы русского текста работают наиболее напряженно, его связи наиболее прозрачны, а его семантическая природа с необычайной мощью обеспечивает текстуальное единство журнальной структуры. «Осевая» про- блематика русского текста возникает в границах философско-публицистического дискурса «Современных записок», но в силу нескольких причин искомого единства эти границы не обеспечивают.
Во-первых, нет единства внутри самих границ – идеологические позиции ведущих публицистов и философов журнала по поводу «русского вопроса», мягко говоря, не отличались единством, а иногда, как, например, в большом цикле статей Ф.А. Степуна «Мысли о России», были и внутренне противоречивы. Во-вторых, первая причина делает невозможным перенос четко артикулированных смыслов философско-публицистического дискурса (за их отсутствием аморфный «антибольшевизм» или же еще более туманные «демократические идеалы»2 лишь латентно проявлялись в подавляющем большинстве текстов других дискурсов, прежде всего художественного) на семантическое поле дискурсов соседних, но это не значит, что корреляций между дискурсами не существует, что уровень смысловой энтропии в «Современных записках» слишком высок, чтобы можно было бы говорить лишь о случайных, обрывочных, точечных совпадениях между антибольшевистским пафосом какой-нибудь статьи и резким пассажем того же характера в первом или последнем разделе очередной книжки журнала 3.
И здесь перед нами возникают два вопроса. Прежде всего, каков механизм обеспечения этого единства, которое не только может быть улавливаемо, но которое единственное и придает журналу удивительную цельность и никем не оспариваемую ценность, лишь одно способно óргану печати, с его кажущимися обрывочными, разрозненными, случайно, «по злобе дня» попавшими на его страницы многочисленными и такими различными, разноприродными текстами, вдруг зазвучать – мощно и тяжело – подобно соборному оргáну, на котором невидимый мастер исполняет почему-то столь знакомый и трагический русский шедевр. Ставится «осевая проблема» русского текста – «Россия и революция» – именно в рамках философско-публицистического дискурса, «по определению» откликающегося на самые насущные, животрепещущие, «свежие» социальные проблемы и события, но, как правило, не способного (в случае с философско-публицистическом дискурсом «Современных записок», лишенном стройных и харизматичных построений Белого движения, претендующих на статус мифа), построить четкие и недвусмысленные комплексы социальных представлений, репрезентирующие характерные ментальные особенности эмигрантов, их мировоззренческие установки, неразделимо связанные, в свою очередь, с совсем недавним (то есть дающим «информационный повод» для публицистики) событием – потерей России в результате революции. Но – и на примере «Современных записок» это блестяще демонстрируется – публицистический дискурс накладывает свой – социологический – код прочтения на тексты соседних дискурсов – собственно философский 4, критический, мемуарный, но в первую очередь на самый сложный и «продуктивный» из них – художественный.
Именно прочтение текстов художественного дискурса с помощью социологического кода рождает те эффекты, которые легли в основу русского текста «Современных записок», гарантирующего искомое нами семантическое единство всех текстов, попадающих на его «территорию». И это междискурсивное единство, еще не пройдя стадию анализа, прекрасно ощущалось отечественными исследователями: «Таким образом, отчетливо видно, что литературная и “общественная” часть журнала были теснейшим образом между собой связаны, и тот синтез общих устремлений Серебряного века, который так или иначе просматривался в творчестве большинства его заметных представителей, на страницах “Современных записок” возникал если не вполне осознанно, то, во всяком случае, с точки зрения внешнего наблюдателя виден чрезвычайно отчетливо. Отчасти такая особенность определялась еще и тем, что многие постоянные авторы “Современных записок” были склонны не просто к литературному творчеству, но обладали также дарованиями публицистов, историков, критиков, философов» [3, с. 445].
Симптоматическими в этом отрывке нам представляются несколько замечаний. Главное – «синтез общих устремлений... возникал... не вполне осознанно», то есть утвер- ждение неконтролируемости русского текста извне и отрицание его искусственности и преднамеренности. Это утверждение, в свою очередь, апологизирует и нашу позицию – «точку зрения внешнего наблюдателя», для которого является принципиальным игнорирование случайных элементов «текста журнала» и фокусирование внимания на элементах структурно значимых, позволяющих говорить о внутренне непротиворечивой семантической упорядоченности не только текстуального пространства «Современных записок», но и, возможно, «текста культуры» русского рассеяния в целом. Наконец при всей кажущейся загадочности характера «устремлений Серебряного века» Н.А. Богомолов дает удивительно точную аллюзию на одно из его течений, обильно представленного в «Современных записках» (Вяч. Иванов, К. Бальмонт, Д. Мережковский и др.), – символизм.
И сейчас настало время задать второй вопрос, важность и насущность которого незримо, но настойчиво ощущались до сих пор. Настало время спросить – а как осуществляется механизм этого переноса, этого движения смыслов русского текста между столь различными дискурсами журнала? Что обеспечивает это движение, что представляет собой та «примарная единица» (В. Пропп), которая берет на себя функцию некоего флуктуан-та, переносящего смыслы одних текстов на другие, создающего почву для их гомогенности в общем текстуальном пространстве журнала? Несомненно, единственной кандидатурой на эту роль будет символ .
Поиск и обнаружение этой «атомарной» единицы нашего анализа – символа – напрямую и самым тесным образом связан с методологической стороной исследования, солидаризуясь на данном его этапе с Ж. Делезом, считавшим, что «структура определяется природой некоторых атомарных элементов, которым предназначено учесть одновременно формирование целостностей и вариацию их частей» [6, с. 138]. Необходимо экстраполировать такую единицу, которая обеспечила бы стабильное протекание совершенно особых герменевтических процедур, принципиально отличающихся от тех подходов, к которым мы прибегаем при сугубо «имманентном» анализе каких-либо текстов. Но даже при таком анализе обязательным условием будет принципиальная «поливалентность» (Ц. Тодоров) и «открытость» (У. Эко) текста, его готовность быть истолкованным различными способами. «Знаменитый “герменевтический круг”, предполагающий одновременное присутствие целого и всех его частей, но тем самым и исключающий наличие у текста абсолютного начала, сам по себе уже свидетельствует в пользу принципиальной множественности интерпретаций» [24, с. 40]. Бесспорно и то, что множественность интерпретаций напрямую связана с проблемами рецепции текста, привнесения в него (или игнорировании) каких-то – «личных» или «культурных» – смыслов, в чем заключается кажущаяся парадоксальной единовременная стабильность и динамичность текстовых структур 5. «Итак, произведение искусства, предстающее как форма, завершенная и замкнутая в своем строго выверенном совершенстве, также является открытым, предоставляя возможным толковать себя на тысячи ладов и не утрачивая при этом своего неповторимого своеобразия. Таким образом, всякое художественное восприятие произведения является его истолкованием и исполнением, так как во всяком таком восприятии оно оживает в своей неповторимой перспективе» [28, с. 28].
Другими словами, смысл даже имманентно изучаемого текста всегда контекстуален , зависит от условий его прочтения , что справедливо, впрочем, и по отношению ко всякой, даже элементарной, структуре: «Смысл – это отношение знака к понимающему сознанию, способному распознавать не только отдельные знаки языка, но и упорядоченные конфигурации знаков. Так, слово в словаре обладает значением, но лишено смысла. Смысл оно обретает лишь в контексте некоторого высказывания – в сопряжении с другими знаками языка. Иначе говоря, смысл всегда контекстуален» [25, с. 5]. Эти утверждения обретают максимальную интенсивность тогда, когда контекст жестко задан , когда тексты вступают друг с другом в «непосредственный» контакт, будучи ограниченными каким-либо формальным пространством – в нашем случае журнальной обложкой 6.
Прибегая к одному из основных структуралистских понятий – понятию кода 7 – можно утверждать, что в условиях журнального контекста (русского текста в нашем случае) произведения, потенциально «кодируемые» автором на «прочтение» одних смыслов, читателем «раскодируются» с привнесением смыслов иных, «диктуемых» соседними текстами, – как журнала, так и культуры. Надо ли говорить, что господствующее положение в этих условиях будет занимать социологический код (главная «несущая конструкция» русского текста), нейтрализующий (во всяком случае, «здесь и сейчас») тот неизбежный «конфликт интерпретаций», о котором писал П. Рикер 8.
Таким образом, прочтение произведений, казалось бы, весьма далеких от российской проблематики (например, «Мессии» Д.С. Мережковского или «Приглашения на казнь» В.В. Набокова) с помощью социологического кода русского текста на лишь кажущемся дискретным текстуальном пространстве «Современных записок», где тесное «соседство» текстов самых разных дискурсов (художественного, философско-публицистического, мемуарного и критического) обеспечивает перенос «русского смысла» на тексты «нейтрального» характера, трансформирует их (вернее, активизирует в них определенные смыслы) в тексты о «революционном насилии», в кризисные тексты – с особой символикой, образностью и генетическим родством.
И наоборот, прочтение того же «Приглашения на казнь» вне журнального контекста или вне культурной ситуации русского зарубежья, или – шире – вне русского культурного пространства (то есть там, где коды русского текста не инкорпорированы в «язык культуры»9), например, в рамках антологии русской литературы для студентов вузов Индии, лишит роман Набокова «русской ауры» и превратит его в одну из фантастических притч, которыми так богата (анти)утопичес-кая литература.
Именно символу уготована особая роль «синтезатора» – и одновременно «генератора» – смыслов на пространстве русского текста «Современных записок», уготована благодаря, пожалуй, самой главной своей особенности – стремлению к целостности, сведению воедино казавшихся автономными элементов. Поэтому современное употребление этого термина сохранило генетически заложенную в нем идею аналогии между обозначающим и обозначаемым: греческий термин буквально значил «сводить», «сравнивать», «сопоставлять». Не случайно такой авторитетный французский медиевист, как Жак Ле Гофф, рассуждая о специфике ментальности западного человека (от себя добавим, что это распространяется и на ментальность «человека вообще»), обращался к символизму как к ее истоку и парадигме: «Достаточно задуматься об этимологии слова “символ”, чтобы понять, какое большое место занимало мышление символами не только в теологии, в литературе и в искусстве средневекового Запада, но и во всем его ментальном оснащении. У греков “цимболон” означало знак благодарности, представлявший собой две половинки предмета, разделенного между двумя людьми. Итак, символ – это знак договора. Он был намеком на утраченное единство; он напоминал и взывал к высшей и скрытой реальности» [14, с. 400]. И здесь же Ле Гофф указывает на относительное тождество процесса символизации и мышления как такового, тождества, основания которого остались, как мы убедимся, статичными и по сей день: «Символизм был универсален, мыслить означало вечно открывать скрытые значения, непрерывно “священнодействовать”» [14, с. 400].
Наше акцентирование именно этой проблемы символического образа – соположен-ности части и целого – позволяет не останавливаться подробно на вопрос определения символа как термина и ограничиться констатацией того неоспоримого факта, что о символе можно говорить всякой раз, когда «некое явление выражает собою что-то совсем иное, но при этом требует внимания и к себе как к явлению самостоятельному, за которым стоит собственное значение» [26, с. 205] 10. Оговорив этот обязательный план репрезентативности символа, вернемся к потенциально заложенной во всяком символе интенции к генерации целостности путем соединения разрозненных – или казавшихся разрозненными – элементов. Элементы этого потенциального целого выступают как части общего, определяемого как смысл, постижение которого представляется главной целью всякой герменевтической процедуры. «Именно по- этому на первый план выступает проблема символа, основу которого и составляет подобный смысл – динамичная структура целостного феномена...» [13, с. 11].
Более того, «благодаря» символу эти процедуры вообще становятся возможными , его двойственная природа 11 обеспечивает необходимую смыслопроводимость в рамках целостностей совершенно различных порядков, потенциально допускающих, в свою очередь, всю совокупность методик («гер-меневтик») их анализа, но в то же время – и опять, как это ни парадоксально, символ играет при этом ведущую роль – происходит селекция этих методик и остановка на тех из них, которые обеспечивают конгруэнтность какой-то конкретной «сетке прочтения». «Проблемы, поставленные символизмом, отражаются, следовательно, в методологии интерпретации. Весьма примечательно, что интерпретация дает место довольно различным, порой прямо противоположным методам. <...> Они противостоят друг другу так радикально, как только возможно. И здесь нет ничего удивительного: интерпретация исходит из многосложного определения символов – из их сверхопределения, как говорит психоанализ; но всякая интерпретация, по определению, обедняет это богатство, эту многозначность и “переводит” символ в соответствии с сеткой прочтения, которая ей свойственна. Задача критериологии как раз и состоит в том, чтобы показать, что форма интерпретации соотносится с теоретической структурой той или иной герменевтической системы» [23, с. 45–46] 12.
Перед нами, таким образом, предстает достаточно парадоксальная ситуация. С одной стороны, как мы видим, возможность сообщать целостность смыслу, (ре)генериро-вать его, придает такое уникальное свойство символа, как принципиальная полисемия. Это позволило именно символ полагать за одну из базовых категорий смыслоположения текстов самых различных уровней – от сакральных (место которых заняли художественные и медиатексты) до Текста культуры в целом 13. Как известно, самой авторитетной и богатой обобщениями из существующих концепций является «философия символических форм» Э. Кассирера, в основу которой немецкий фи- лософ кладет совершенно новый горизонт антропологии: «Человек живет отныне не только в физическом, но и в символическом универсуме. Язык, миф, искусство, религия – части этого универсума, те разные нити, из которых сплетается символическая сеть, запутанная ткань человеческого опыта. <...> Так обстоит дело не только в теоретической, но и в практической сфере. Даже здесь человек не может жить в мире строгих фактов или сообразно со своими непосредственными желаниями и потребностями. Он живет, скорее, среди воображаемых эмоций, в надеждах и страхах, среди иллюзий и их утрат, среди собственных фантазий и грез. <...> Разум – очень неадекватный термин для всеохватывающего обозначения форм человеческой культурной жизни во всем ее богатстве и разнообразии. Но все эти формы суть символической формы. Вместо того чтобы определять его как animalrationale, мы должны, следовательно, определить его как animalsimbolicum. Именно так мы сможем обозначить его специфическое отличие, а тем самым и понять новый путь, открытый человеку, – путь цивилизации» [9, с. 471–472]. Детальной сегментации этот горизонт подвергся в капитальном труде «Философия символических форм», где Кассирер последовательно представляет лингвистический, научный и мифологический дискурсы как символические формы, придавая им не только философско-методологический, но и онтологический статус: «Если культура выражается в творении идеальных образных миров, определенных символических форм, то цель философии заключается не в возвращении к тому, что было до них, а в том, чтобы понять и осмыслить их фундаментальный формообразующий принцип. Лишь в этом сознании содержание жизни впервые обретает свою истинную форму [10, с. 47].
«Система смысловых отсылок» символа позволяет представить в виде целостности то, что при иных условиях анализа представало бы в виде разрозненных смысловых конвергенций, автономных квазисемотических образований. Поэтому, как совершенно верно отмечает отечественный исследователь, «проблема символа увязывается именно с эффектами системности, что открывает возможность проследить их проявления на раз- ных уровнях социокультурной целостности, то есть выявить таксономию образов (в том числе и смыслами. – А. М.). При этом главной задачей остается понимание того, что социокультурная целостность являет себя через посредство эффектов системности и как различные способы явленности целого обусловливают соответствующие механизмы символизации в различных областях культуры» [22, с. 32] 14.
С другой стороны, как мы уже отмечали, эта полисемия символа, позволяющая стягивать воедино представляющемся дискретными сегменты смысловой целостности в конкретной «точке» символического образа, не смогла бы достичь этого эффекта без соблюдения одного важного условия – своего самоограничения . Оно связано с артикуляцией одних значений и латентным выражением других в условиях совершенно определенной коммуникативной ситуации – опреде ленной тем естественным «ограничителем», который неизбежно диктует свои условия протекания процесса означивания и который уже попадал в поле нашего зрения, – контекстом 15 .
Эту функцию контекст выполняет в условиях любой коммуникативной ситуации, неизбежно предполагающей включение механизма смыслообразования. Как отмечает Д.А. Леонтьев, «в условиях хотя бы частичного единства группового контекста коммуникации соответствующие групповые контекстуальные смыслы функционируют как значения, что обеспечивает относительную полноту и адекватность понимания. То же происходит и в ситуации текстовой коммуникации: для адекватного понимания текста необходим “смысловой контакт”, условием которого является совпадение “смысловых фокусов” коммуникатора и реципиента; при несовпадении же “смысловых фокусов” наблюдаются различные “эффекты смысловых ножниц”, обусловливающие неадекватное понимание текста» [15, с. 383].
Эта неизбежность относится и к самой природе символа как такового, отсутствие или потеря обобщающего «фона» ведет к исходной смысловой дискретности, ее «разбросанности» в рамках максимально широкой семантической амплитуды. Поэтому «проблема “общего знаменателя” неизбежна, если пола- гать, что взятый отдельно символ не имеет смысла, или, точнее, он имеет слишком широкий смысл и его закон – полисемия <...>. Именно в совокупной “экономии” выделяются отдельные ценности и полисемия сокращается» [23, с. 97]. Таким образом, контекст («фон», «общий знаменатель») выступает как обязательный фильтр, не позволяющий множественности смыслов занять такое положение, в котором эти смыслы находились бы в «равноценных» позициях, положение, исключающее доминантные условия для развития какого-то определенного спектра значений, призванного стать основой «смыслового узора» прежде всего – вслед за Дерридой – текстуальных целостностей. Действие этого механизма прекрасно показывал Рикер, взяв для примера языковую картину мира: «...контекст играет роль фильтра. <...> Таким образом, благодаря выборочному, или просеивающему действию контекста мы из многозначных слов составляем однозначные фразы» [23, с. 111].
Претендующий на аксиомность лосевский тезис о том, что «всякий знак получает полноценную значимость только в контексте других знаков» [16, с. 98] получает всеобъемлющую конкретизацию, когда русский философ говорит о символе как условии постановки любых (кон)текстуальных проблем: «Если мы станем вникать в проблемы соотношения текста и контекста, то мы тотчас же сталкиваемся с проблемой символа» [16, с. 20]. Но, говоря о проблемах текста, мы одновременно говорим о проблемах его структуры, то есть характере и принципах отношений между его элементами. Эти проблемы усложняются и даже обретают подчас трудноуловимый характер, когда речь идет о структуре текста журнала, подразумевающего инкорпорацию в единое текстуальное пространство множества иных потенциально самостоятельных текстовых целостностей, относящихся к самым различным дискурсам. Первой же и, возможно, приоритетной задачей здесь выступает необходимость ответа на вопрос, который мы уже задавали, но сейчас ответ на него будем искать на ином уровне обобщений. Он заключается в поиске «необходимой единицы» (или даже «измерения» единиц), позволяющей обеспечить смысловую коммуникацию на уровне как структуры журнального текста, так и на уровне структуры инкорпорированных в него текстов различной дискурсивной принадлежности.
В статье «По каким критериям узнают структурализм?» Ж. Делез в качестве первого критерия называет «символическое»: «Первый же критерий структурализма – это открытие и признание третьего порядка, третьего царства, царства символического. Именно отказ от смешения символического с воображением и реальным является первым измерением структурализма» [6, с. 135] 16. «Символическое» как посредник между «воображаемым» и «реальным», между ментальным и «вещным», между «идеальным» и «материальным» мыслится Делезом в качестве необходимого условия всякого процесса структурации. Символ делает возможным процесс перехода (или более точно – их синхронного движения) от смысла отношений между элементами структуры к смыслу самих элементов и наоборот. В этом случае структурность одновременно выступает как семан-тичность , а структурализм как интерпретация, о корреляции которых и о роли символа в этом процессе писал П. Рикер: «Но то, что истинно относительно знака в его первичном смысле, не менее истинно и по отношению к двойному смыслу символу. Постижение этого двойного смысла, которое по существу своему является герменевтическим, всегда предваряется постижением “обмена взаимодопол-нительными ценностями”. Тщательный анализ “Первобытного мышления” (книга К. Ле-ви-Строса – А. М. ) подтверждает, что мы, опираясь на гомологию структуры, всегда можем искать семантические аналогии, которые делают сравнимыми различные уровни реальности, чей “код” обеспечивает их взаимную обратимость. “Код” предполагает соответствие, родство содержаний, то есть известный шифр. <...> Вот почему структурное постижение никогда не осуществляется без участия герменевтического постижения. <...> Одновременно с этим я утверждал и обратное: не может быть осознания смысла без хотя бы минимального понимания структур» [23, с. 94–96] 17.
Философская герменевтика Гадамера и герменевтика Бытия Хайдеггера предполага- ет настолько онтологический статус символического, насколько таковым он выступает и в близкой нам герменевтике текстов Рикера. Рикер совершает поступательные движения: отталкиваясь от языка и текста, он приходит к Истории и онтологии, а сквозь них, как на палимпсесте, проступает эсхатологические контуры профетической экзистенции: «Так радикально противоположные герменевтики, каждая по-своему, продвигаются в направлении онтологических корней понимания. Каждая по-своему говорит о зависимости “я” от существования. Психоанализ демонстрирует эту зависимость в археологии субъекта, феноменология духа – в телеологии образов, феноменология религии – в значках священного. Таковы онтологические следствия интерпретации. <...> Таким образом, онтология является землей обетованной для философии, которая начинает с языка и рефлексии; но, подобно Моисею, говорящий и рефлексирующий субъект может узреть ее только перед лицом смерти» [23, с. 56–57].
От чего же отталкиваемся и в какую сторону обращаем взгляд мы? Разумеется, дальнейший анализ будет посвящен главной нашей цели – демонстрации смысловой корреляции разнодискурсивных (и в первую очередь художественного дискурса) текстов, функционирующих на одном текстуальном пространстве – журнала «Современные записки». Для этого мы выделили единое проблемно-тематическое и смысловое поле этого пространства – русский текст «Современных записок» – и выделили основную единицу анализа – символ, выступающий в рамках интересующего нас художественного дискурса журнала прежде всего в форме художественного образа-символа (или символического образа); именно он, на наш взгляд, способен осуществлять перенос смыслов с одной текстовой целостности на другую, обеспечивая, таким образом, искомую трансдискурсивность – смысловую осцилляцию между текстами «Современных записок», принадлежащих различным дискурсам. В первую очередь этот «семантический обмен» происходит между художественными и философско-публицистическими текстами, напечатанными в журнале. Последние словно «заражают» первые своими смыслами, их близость заставляет активизироваться в поливалентных по своей природе художественных текстах совершенно особые коды, заставляет их прочесть с помощью кодов русского текста, прочесть как тексты о России, как тексты со своей специфической символической структурой, призванной не только помочь структурализа-ции «текста» журнала, но и, как мы увидим, представить медиатекст (в нашем случае журнальный текст) как текст-носитель мифологических смыслов (эмигрантской) культуры.
Но стремлением достичь этой цели мы не ограничиваемся. Структурацию как текстуального пространства, так и русского текста «Современных записок» можно экстраполировать на Текст культуры – в данном случае эмигрантской – в целом. Эта потенциальная экстраполяция будет в поле нашего зрения постоянно, она будет тем горизонтом, широта амплитуды которого заслуживает быть если не полностью – что проблематично – охваченной анализом, то хотя бы намеченной, как у нас.
Пантекстуальность культуры и даже реальности как таковой, как известно, была одним из топосов (пост)структуралистской научной парадигмы, а лапидарное заявление Ж. Дерридой «нет никакого внетекста» давно стало своеобразным «девизом» не одного поколения исследователей 18. Для нас же важно подчеркнуть по крайней мере внутренний параллелизм, непрямую филиацию механизмов смыслопорождения и соотношения текстов журнала и текстов Культуры, так же, как на журнальном текстовом пространстве, коррелирующих между собой в рамках определенных «смысловых полей»19. Полифонический Текст культуры проникнут разноприродными и неисчислимыми текстами самых разных дискурсов, «голоса культуры» многообразны, но лишь кажутся хаотичными, некоторые темы их «разговоров» звучат громче и повторяются чаще, порождая в точке экстремы такие феномены, как взгляд Большого Брата или закадровый смех комедийных сериалов. Но подобно тому, как с помощью символических образов происходят смысловые переходы от одних журнальных текстов к другим, так и определенное смысловое единство в Тексте культуры обеспечивается с помощью символов, что давно стало претендующим на абсолютность социо-гуманитарным положением.
Так, Ю.М. Лотман в работе «Текст как смыслопорождающее устройство» отводит очень много места именно этой роли символа и в параграфе «Символ в системе культуры» пишет: «Символы представляют собой один из наиболее устойчивых элементов культурного континуума. Являясь важным механизмом памяти культуры, символы переносят тексты, сюжетные схемы и др. семантические образования из одного ее пласта в другой. Пронизывающее диахронию культуры константные наборы символов в значительной мере берут на себя функцию механизмов единства: осуществляя память культуры о себе, они не дают ей распасться на изолированные хронологические пласты» [17, с. 148]. Этот тезис словно бы развивается в монографии другого отечественного исследователя, посвященной структуре пространственно-временного континуума, где смысловой сфере так же придается пространственно-протяженная форма, а символы понимаются как основные «переносчики смыслов» через текстовые границы смысловых единств: «Пространство смыслов в культуре – это необъятное и расширяющееся поле, в котором пересекаются текстовые пространства самых разных эпох и значений. Здесь существуют как устойчивые “вечные” тексты (мифы, религиозные священные тексты, такие как Веды, Библия, Коран), так и менее устойчивые, значимые лишь для того или иного народа или конкретного периода времени. Следовательно, смысловые пространства не равнозначны, что выражается, прежде всего, через временную форму континуума: чем больше смысл способен выразить “вечность” самой культуры, структурировать условия относительной завершенности ее бытия, тем в большей степени он имеет характер абсолютной нормы, регулирующей смену культурных эпох. Причем единицами текста культуры, в котором формируется смысл, становятся не знаки и слова, но символы , хотя и выраженные во внешне обычном тексте. В любом случае пространство должно быть представлено такими символическими формами, между которыми всегда открывается смысл» (курсив наш. – А. М. ) [2, с. 189–190].
Двигаясь в общем – но не становящимся от этого менее верным – направлении,
В. Меликов кладет в основу своей работы о текстологии традиционных культур тезис о том, что «действительный мир культуры имеет структуру текста, что он текстуален» [18, с. 11]. При этом текстовый характер культуры исследователь напрямую связывает с процессом символизации, не только проводя между ними параллели, но даже ставя знак тождества: «Обобщая, мы можем сказать, что вербально-знаковая символизация культуры, то есть текст, есть момент соединения предметной и непредметной сторон человеческого мира. <...> Я хочу сказать, что это свойство символизации представляет собой объективнейшее качество, одно из самых главных качеств человеческого мира, которое, конечно же, не зависит ни от аберрации сознания, ни от рациональности или нерациональности текста. Мир человеческой культуры в основе своей текстологичен в буквальном смысле этого слова, то есть имеет текстовую структуру» [18, с. 96]. Этот процесс, в свою очередь, представляет собой «разгадывание символов записи действительности» и проходит в рамках как традиционных – «священных» – текстов, так и современных текстовых образований (прежде всего медиатекстов ), занявших, как мы увидим, «вакантное» место первых: «В мифометафорических текстах проще увидеть символическую “ирреальность”, так как сам текст соткан из точечных единств языка и мифа, в рационально-логических текстах – теоретическую модель, так как наша система образования ориентирована на такие модели. С точки же зрения положения текста в культуре мы видим здесь одну и ту же символическую процедуру раскрытия знака сообщения блага» [18, с. 97].
Таким образом, если Текст культуры структурирован как потенциальное единство многочисленных полиприродных текстов самых разных уровней и дискурсов, то некоторые из них играют роль смысловых и коммуникативных индикаторов данной культуры, местом сосредоточения ее символических форм: «Текст в виртуальном событии выступил в одной из главных своих ролей – место-держателя культуры. Своими коммуникативными тактиками, своей формой текст удерживает общение и благо вместе, букваль- но “в месте культуры”, в рамках разумнодуховной целостности. И совершенно закономерно, что приходит столкновение текстов, в котором побеждает тот, кто в состоянии “удерживать” культурную целостность или предложить такие коммуникативные тактики и такие принципы благополучия, то есть получения блага, которые представляются субъекту адекватными данной культурной целостности» [18, с. 60–61] 20.
В традиционных культурах эту роль ме-сто-держателей выполняли, разумеется, сакральные (мифологические) тексты, а сегодня, как справедливо указывает В.В. Меликов, на «архетипический, изначальный для культуры» вопрос «о бытии блага и должного» отвечают медиатексты, тексты СМИ, своеобразным паттерном, «матрицей» которых выступает текст газеты: «Техническое обслуживание также не может избавить человека от ответа на этот вопрос и предлагает ему свои тексты, аналогичные традиционному тексту как формально, так и функционально. Самый важнейший из этих текстов – газета. Газета – это конкретный и идеальный текст, то есть это и конкретная газета, и одновременно форма, модель, по которой конкретная газета делается. Газета-модель создается как текст знания обо всем и для всех максимально полного знания о мире. В то же время газета-модель отчасти эзотерична. Газеты печатают слухи, разоблачения, признания, создают мифометафорическую ауру событий, накапливают различную информацию, хотят проникнуть во все тайны, все выведать, сотрудничают со спецслужбами и т. д. Внешне это объясняется коммерческими интересами, законами газетного жанра, престижем, требованиями свободного распространения информации и пр. Внутренне же это отвечает требованию традиционного текста или его аналога быть и знанием более тайным, чем сама тайна, и одновременно таким знанием, от которого “даже ужаснейший грешник ... достигнет умиротворенья”, если вспомнить нашу “Гиту”. С функциональной точки зрения, с точки зрения места и времени своего прочтения газета также имеет черты сходства с традиционным текстом. Газета – это текст, объединяющий различные области современной культуры. Ее читают все или по- чти все. Субъекты культуры, представляющие различные ее сферы, общаются между собой при помощи различных средств массовой информации, в том числе газеты как базовой модели всех средств массовой информации. Понятно, что при всех технических, эстетических и содержательных отличиях все средства массовой информации – газеты, журналы, радио, телевидение, компьютерные сети – имеют единую конструктивную матрицу, то есть газету» (курсив наш. – А. М.) [18, с. 89].
Бесспорно, что роль такого «сакрального» и даже мифометафорического текста, содержащего информацию о «благе и должном» конкретной культуры не могли не сыграть «Современные записки» – самый крупный журнал русской эмиграции, на страницах которого были опубликованы почти все самые известные (прецедентные) художественные тексты русского зарубежья.
Адекватному раскодированию этой «осевой» информации способствуют символические образы, трансдискурсивность которых обеспечивает смысловое единство русского текста журнала (как и эмигрантской культуры вообще). Но что представляет собой это единство? Каково содержательное наполнение русского текста, какова его архитектоника? Разумеется, что символы, обеспечивая это семантическое единство, не могут не взаимодействовать, не могут не складываться в систему, всегда образующую искомое нами содержательное целое – миф .
Список литературы Трансдискурсивность символа: семантический потенциал символики в художественном дискурсе «Современных записок» (1920-1940-е гг.)
- Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека/Н. Д. Арутюнова. -М.: Языки русской культуры, 1999. -896 с.
- Баркова, Э. В. Пространственно-временной континуум в онтологии культуры/Э. В. Баркова. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. -300 с.
- Богомолов, Н. А. «Современные записки»/Н. А. Богомолов//Литературная энциклопедия русского зарубежья: 1918-1940. Т. 2. Периодика и литературные центры. -М.: РОССПЭН, 2000. -С. 443-451.
- Булгаков, С. Апокалипсис Иоанна (Опыт догматического истолкования)/С. Булгаков. -М.: Православное Братство Трезвости «Отрада и Утешение», 1991. -351 с.
- Бурдье, П. О телевидении и журналистике/П. Бурдье. -М.: «Прагматика культуры», 2002. -160 с.
- Делез, Ж. По каким критериям узнают структурализм?/Ж. Делез//Делез, Ж. Марсель Пруст и знаки. -СПб.: Алетейя, 1999. -С. 133-175.
- Ильин, И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм/И. П. Ильин. -М.: Интрада, 1996. -256 с.
- Кармадонов, О. А. Социология символа/О. А. Кармадонов. -М.: Academia, 2004. -352 с.
- Кассирер, Э. Избранное. Опыт о человеке/Э. Кассирер. -М.: Гардарика, 1998. -784 с.
- Кассирер, Э. Философия символических форм/Э. Кассирер. Т. 1. Язык. -М.; СПб.: Университетская книга, 2002. -272 с.
- Красных, В. В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность?/В. В. Красных. -М.: ТОГК «Гнозис», 2003. -375 с.
- Курганов, Е. Лолита и Ада/Е. Курганов. -СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2001. -176 с.
- Лагутина, И. Символическая реальность Гете. Поэтика художественной прозы/И. Лагутина. -М.: Наследие, 2000. -280 с.
- Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового Запада/Ж. Ле Гофф. -Екатеринбург: У. Фактория, 2005. -568 с.
- Леонтьев, Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности/Д. А. Леонтьев. -М.: СМЫСЛ, 2003. -486 с.
- Лосев, А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство/А. Ф. Лосев. -М.: Искусство, 1995. -320 с.
- Лотман, Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек -текст-семиосфера -история/Ю. М. Лотман. -М.: Языки русской культуры, 1999. -464 с.
- Меликов, В. В. Введение в текстологию традиционных культур (на примере «Бхагавадгиты» и других индийских текстов)/В. В. Меликов. -М.: РГГУ, 1999. -304 с.
- Млечко, А. В. Мифологема Возвращение и ее символические корреляты в семантическом пространстве русского текста «Современных записок»/А. В. Млечко//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. -2013. -№ 3 (19). -С. 48-53.
- Млечко, А. В. «Приглашение на казнь» В.В. Набокова и русский текст «Современных записок»: Другой, трикстер и символы «проклятых королей» (Статья вторая)/А. В. Млечко//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 8, Литературоведение. Журналистика. -2014. -№ 1 (13). -С. 38-52.
- Парсонс, Т. О социальных системах/Т. Парсонс. -М.: Академический проект, 2002. -832 с.
- Пигалев, А. И. Культура как целостность: (Методологические аспекты)/А. И. Пигалев. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. -464 с.
- Рикер, П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике/П. Рикер. -М.: КАНОН-пресс-Ц: Кучково поле, 2002. -624 с.
- Тодоров, Ц. Теории символа/Ц. Тодоров. -М.: Дом интеллектуальной книги. Русское феноменологическое общество, 1999. -384 с.
- Тюпа, В. И. Художественный дискурс: (Введение в теорию литературы)/В. И. Тюпа. -Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 2002. -80 с.
- Уэллек, Р. Теория литературы/Р. Уэллек, О. Уоррен. -М.: Прогресс, 1978. -326 с.
- Эко, У. Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике/У. Эко. -СПб.: Академический проект, 2004. -384 с.
- Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию/У. Эко. -СПб.: Петрополис, 1998. -431 с.
- Blumer, H. Simbolic Interactionism. Perspective and Method/H. Blumer. -Berkeley: University of California Press, 1969. -340 p.
- Bourdieu, P. Language and Simbolic Power/Р. Bourdieu. -Cambridge: Cambridge University Press, 1991. -238 p.
- De Wit, G. A. Simbolism of Masculinity and Femininity/G. A. De Wit. -New York: Springer Publishing Company, 1963. -280 p.
- Duncan, H. D. Simbols and Social Theory/H. D. Duncan. -New York: Oxford University Press, 1969. -436 p.
- Elias, N. The Simbol Theory/N. Elias. -London: SAGE Publications, 1991. -398 p.
- Rossi, I. From the Sociology of Simbols to the Sociology of Signs: Toward a Dialectical Sociology/I. Rossi. -New York: Columbia University Press, 1983. -298 p.
- Shutz, A. Collected papers/А. Shutz. Vol. 1. The problem of Social Reality. -Dordrecht: Kluwer Publishers, 1962. -348 p.
- Zarubavel, E. Social Mindscape: An Invitation to Cognitive Sociology/Е. Zarubavel. -Cambridge: Harvard University Press, 1997. -376 p.