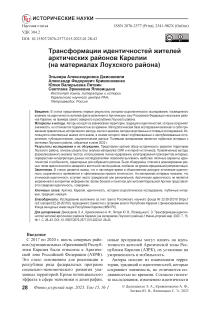Трансформации идентичностей жителей арктических районов Карелии (на материалах Лоухского района)
Автор: Джиошвили Э. А., Кривоноженко А. Ф., Литвин Ю. В., Яловицына С. Э.
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 1 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье представлены первые результаты историко-социологического исследования, посвященного влиянию на идентичности жителей факта включения в Арктическую зону Российской Федерации нескольких районов Карелии, на примере самого северного в республике Лоухского района. Материалы и методы. Авторы исходят из взаимосвязи территории, традиций и идентичностей, которые сохраняют значимость, но отличаются подвижностью во времени. Методологическая база исследования включает в себя применение сравнительно-исторического метода, контент-анализа, метода качественных и полевых исследований. Используется комплексный анализ источников, в основе которого лежат опубликованные и неопубликованные исторические, публицистические, социологические данные. Полевыми материалами являются глубинные интервью с жителями Лоухского района, собранные в июле 2022 г. Результаты исследования и их обсуждение. Представлен краткий обзор исторического развития территории Лоухского района, описаны результаты анализа материалов СМИ и интернет-источников. Привлеченные методы формализованного анализа текстов, использование техник кодирования, категорирования транскриптов интервью, перекрестная интерпретация данных исследователями позволили вычленить наиболее типичные варианты идентичностей и особенности, характерные для избранного региона. Были обнаружены отличия в доминировании разных типов идентичностей в западной и восточной частях района, особенно на уровне официальной репрезентации. Заключение. В статье делается вывод, что в настоящее время в общественном дискурсе этническая идентичность сохраняется и проявляется в «фестивальном проекте этничности». На материалах интервью показано, что этническая идентичность уступает место гражданской или региональной. Арктическая идентичность не является укорененной в восприятии информантов. Более близкой и понятной для жителей Карельской Арктики представляется северная идентичность, «северяне».
Арктика, карелия, идентичность, историко-социологическое исследование, глубинные интервью, традиция, новация
Короткий адрес: https://sciup.org/147240187
IDR: 147240187 | УДК: 304.2 | DOI: 10.15507/2076-2577.015.2023.01.28-43
Текст научной статьи Трансформации идентичностей жителей арктических районов Карелии (на материалах Лоухского района)
С 2017 по 2020 г. шесть северных районов (муниципальных образований) Республики Карелия были отнесены к Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ). Это стало основанием для реализации в республике ряда федеральных программ социально-экономического развития указанных территорий. Кроме потенциального эффекта в сфере экономики и демографии, новые программы могут влиять на идентичности жителей Арктической зоны Республики Карелия (АЗРК), их установки на укорененность и мобильность.
Авторы исходят из взаимосвязи территории, традиций и идентичностей, которые сохраняют значимость, но отличаются подвижностью во времени. Согласно гипотезе исследования, изменению идентичности
под влиянием нового арктического статуса подвержены все жители края (автохтонное население, переселенцы). Этот вызов влияет на соотношение традиции и новации в идентичности жителей арктических районов Карелии и требует исследования. Хотя в рамках статьи и существует территориальная привязка – к Лоухскому району, авторы понимают всю условность данных границ для изучения идентичности.
Современные исследователи отмечают ошибочность подхода, когда идентичность изучается только в контексте конкретного места, на котором оказались те или иные группы населения. В дискуссиях они всё чаще используют понятия «гибридной», составной, иерархической идентичности, возникающей в результате смешения двух или большего количества культур. Это наблюдение выводит на проблемы соотношения локального и более широкого регионального (в рамках АЗРК) материала.
Интервью с жителями АЗРК как главный метод качественного исследования позволят сделать «моментальный снимок» идентичностей населения Лоухского района. Он может получиться весьма пестрым в силу разных исторических традиций, сложившихся на избранных территориях к настоящему времени, состава населения, социально-экономического развития, установок на будущее. Но при всем многообразии нарратива существующие методы формализованного анализа текстов, использование кодирования, категорирования транскриптов, перекрестная интерпретация данных исследователями дадут возможность вычленить наиболее типичные варианты идентичностей, а возможно, и особенности, характерные для частей региона.
Изучение обозначенных процессов стало целью проекта «Традиции и новации в региональной идентичности жителей современных арктических районов Карелии: историко-социологическое исследование», осуществляемого авторами статьи. В данной работе представлены первые результаты исследования на материалах Лоухского района, который одним из первых вошел в АЗРК. Кроме того, рассматриваемый район имеет природно-географическую и этнокультурную специфику – его протяженность с запада на восток от границы с Финляндией до Белого моря влияла на тип хозяйствования, уклад жизни и, вероятно, идентичности жителей. Во время поездки в Лоухский район в июле 2022 г. авторами были собраны полуструктурированные глубинные интервью, которые наряду с анализом комплекса исторических, статистических данных, материалов СМИ и социальных сетей составили разнообразный, дополняющий друг друга круг источников.
В статье используется комплексный подход. В рамках нескольких гуманитарных дисциплин (истории, этнологии, социологии) с помощью разных методов предлагается исследовать исторический контекст и современную идентичность жителей одного из арктических районов Карелии.
Обзор литературы
Статья включает в себя несколько блоков, каждый из которых имеет свою историографическую традицию.
-
1. Наиболее исследованным в общетеоретическом плане является феномен «идентичность» в его различных измерениях. В центре нашего внимания находится территория Арктики и Севера. Северная идентичность концептуализирована в работах А. В. Головнева, Ю. П. Шабаева и др. [4; 27]. Ученые приходят к выводу о связи «се-верности» с региональной и общегражданской идентичностью.
-
2. Такое направление, как киберэтнография (веб-этнография, онлайн-этнография), получившее развитие в 1980-е и, особенно, в 2000-е гг. (см., например: [31]), в настоящее время активно осваивается российскими учеными4. Веб-этнография не замыкается на работе с компьютером и гаджетом, а предполагает физическое наблюдение за тем, как виртуальная жизнь встраивается в повседневную реальность [5]. Социальные сети становятся площадкой для реализации форм солидарности, в том числе в определении и поиске идентичности – этнической, региональной, локальной. На территории Российской Арктики вопросами киберэт-ничности занимаются, в частности, исследователи из Кольского научного центра РАН [22]. Изучение СМИ и социальных сетей является своеобразной проекцией традиционной тематики и методологии на новую виртуальную «территорию».
-
3. В поле зрения авторов статьи находится самый северный из арктических райо-
нов Карелии – Лоухский. Одним из первых край, который в то время входил в состав Кемского уезда Архангельской губернии, в 1830-х гг. посетил Э. Лённрот5. 1872 г. путешествие сюда совершил А. А. Боре-ниус, в 1879 г. – А. В. Эрвасти, в 1894 г. – И. К. Инха6. Социально-экономическое и этнокультурное развитие территории интересовало российских дореволюционных этнографов. При описании быта жителей края они обращали внимание на этнически специфические черты в укладе жизни поморов и карел, хозяйственные занятия, обычное право7.
Обзор работ, посвященных арктической идентичности, представлен у ряда исследователей1. При этом само понятие во многом определяется исследовательским фокусом [23; 30]. Если в поле зрения оказываются природные ресурсы, то первичной является ресурсная база [19], а концепты «Север», «Крайний Север» и «Арктика» могут сливаться при описании экономических моделей развития («северо-арктические территории»). На геополитическом уровне само понятие и границы
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Арктики могут «пересобираться»2. Если в поле зрения находятся человеческий капитал, вопросы устойчивого развития, этнической специфичности и традиционного хозяйствования, то на первый план выходят темы жизненных стратегий миграции/ укоренения, качества жизни и преференций. Подобный антропологический подход к изучению Севера и Арктики развивают ведущие исследовательские центры: Отдел этнографии Сибири Кунсткамеры, Центр социальных исследований Севера Европейского университета в Санкт-Петербурге, «Томская школа» и ряд других региональных центров в России, а также Институт полярных исследований имени Скотта (Scott Polar Research Institute) в Англии, Арктический центр Университета Лапландии (Arktinen keskus on Lapin yliopiston), Университет Арктики (The University of the Arctic, UArctic), включающий в себя более 200 вузов и научно-исследовательских организаций, расположенных в Арктике или ею занимающихся3.
Таким образом, где находится Арктика и что значит быть «Арктикой», остается открытым вопросом, полем для разных дискурсов. Мы согласны с исследователями, которые подчеркивают, что «первоосновой и основополагающим смыслом особости данного региона выступает географический маркер», но не в пределах административных границ, а шире – на уровне макрорегио-нальной идентичности (как и Русский Север, Центральная Россия и др.) [23, 5, 203 ].
Еще одно значимое понятие в рамках нашей статьи – «региональная идентичность», которая трактуется как представления человека о себе в сопоставлении с общностью, локализованной в части социально освоенного пространства [7, 77]. Для региональной идентичности место проживания служит ключевым признаком. Исследования отечественных социологов доказывают, что государственные, адми- нистративные и этнические границы играют существенную роль в формировании и последующей динамике региональной идентичности [8]. Элементами «сборки» региона в сознании людей являются институционально-политический контроль, экономическое развитие, культурная стандартизация и общность исторического прошлого региона [6, 121].
Северная, арктическая, региональная идентичность, как и иные ее виды, опираются на социальные мифы, в частности об особенностях территории проживания [24]. В числе проекций региональной идентичности – символическое освоение и репрезентация пространства. Результатом подобного процесса может стать появление новых этнических и/или культурных доминант, приписываемых определенной территории. Одним из пространств презентации идентичности выступают средства массовой информации и Интернет.
Внимание советских историков фокусировалось на изучении рабочего класса, промышленного освоения края и культурного строительства8 [18; 20; 21]. Трансформации традиционного уклада в послевоенный период на материалах Карелии, в частности северной, посвящены работы этнолога Ю. Ю. Сурхаско [26] и этносоциологов Е. И. Клементьева и А. А. Кожанова и др. [15; 29].
Отдельно отметим сборник статей «Исторические судьбы Беломорской Карелии», изданный Карельским научным центром РАН [12]. Он содержит в себе ряд публикаций обобщающего характера по истории края (авторы А. Ю. Жуков, М. В. Пулькин, В. А. Гущина, Н. А. Кораблев9, О. П. Илюха), периоду Великой Отечественной войны (В. Г. Макуров, Д. А. Шкляев), а также социально-экономическому развитию в период коллективизации (О. А. Захарова) и послевоенного восстановления экономики (Л. И. Вавулинская).
Изучение того, как разные социальные институты повлияли на самовосприятие жителей приграничных «карельских» во- лостей Кемского уезда в начале XX в., представлено в работах М. А. Витухновской, О. П. Илюхи, Ю. Г. Шикалова [2; 11; 28].
Включение Карелии в состав Арктической зоны привлекло внимание современных исследователей. До настоящего времени территория изучалась преимущественно экономистами [3; 14].
Таким образом, создана обширная историографическая база по истории края, включая необходимый материал по изучению идентичности, в том числе в Российской Арктике. В то же время Арктическая Карелия как относительно новый феномен до сих пор практически не попадала в поле зрения гуманитарной науки.
Материалы и методы
Методологическая база исследования включает в себя применение сравнительно-исторического метода, контент-анализа, метода качественных и полевых исследований.
С помощью контент-анализа были проанализированы материалы муниципальных СМИ, сайтов администраций районов и различных сообществ в социальной сети «ВКонтакте». Наряду с официальными аккаунтами общественных и культурных организаций есть примеры персональных инициатив. Среди первых – официальные группы домов культуры, музеев, общественных и некоммерческих организаций; среди вторых – поселенческие сообщества, например «Наша Чупа», «Лоухи», «Чупинград» и т. д. Методика анализа состояла из двух этапов: сбор информации о публикациях по теме проекта и их типах с июня 2020 по май 2022 г. с указанием даты
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ публикации и типа материалов (Анонс / Репортаж / Очерк); анализ содержания публикаций по ключевым темам в соответствии с обозначенной целью исследования. Отбор групп «ВКонтакте» осуществлялся по следующим принципам: группа связана с районом, группа пополняется новыми постами по крайней мере раз в две недели; в ней есть возможность комментирования (чтобы отслеживать обратную связь). Всего было отобрано 13 источников, 78 записей.
Анализ спектра идентичностей жителей Лоухского района в современных условиях построен на материалах глубинных интервью, собранных в июле 2022 г. в населенных пунктах района: Чупа, Нижняя Пулон-га, Лоухи, Кестеньга. Вопросы интервью были распределены по четырем основным блокам: «Традиции», «Арктика», «Мобильность», «Идентичность». Сформулированные в гайде варианты вопросов служили для интервьюера лишь ориентиром при проведении беседы. Основное внимание уделялось тому, как информанты выстраивают личную иерархию идентичностей, как интерпретируют понятие «традиция», какие значимые культурные доминанты определяют, как оценивают возможные изменения в связи с включением территории в АЗРФ, какие складываются установки относительно мобильности и проживания в районе.
Интервью были проанализированы в программе для анализа информации качественного порядка ATLAS.ti с применением техники кодирования и категоризации текста. Осмысление материала происходило путем анализа текста на нескольких уровнях. Высказывания информантов делились на смысловые единицы – коды, или понятия. Связанные по смыслу коды объединялись в категории. Указанные процедуры проводились с использованием инструментов программы, которые позволяют находить, кодировать и аннотировать понятия (коды) в расшифровках интервью, группировать по смыслу в категории, оценивать частоту упоминаний, значимость, выстраивать логические связи. Основная цель инструментария – выявить важные для ин-форманта/информантов явления, скрытые в объеме неструктурированных первичных данных. Генерация кодов и категорий шла индуктивным путем: фрагменты нарратива сжимались до уровня смыслового кода; из близких по смыслу кодов формировались категории.
В приведенных ниже в качестве примера высказываниях из разных интервью нашли отражение моменты утраченной традиции и построение нового с учетом (или без) традиции, которые были безусловно важны для оценок, связанных с целями исследования.
№ 1: «Погоду по ветру определяем, по приметам. Лодка, которая потерялась, мы знаем, где ее найти, на какой берег ее вынесло, в какой губе она находится» .
№ 2. «Мне, например, интересно всегда что-то новенькое, поэтому я на рыбалке навигатор всегда использую» .
Кодами первого этапа кодирования высказывания № 1 стали: лодка , погода , ветер , морская губа , морской берег , приметы . При вторичном кодировании состав кодов был уточнен и свернут до двух: рыбалка , приметы . Поскольку в контексте нашего исследования важен именно аспект, связанный с сохранением традиций, то в качестве категории первого порядка было избрано словосочетание «сохранение традиций».
Кодами первого этапа кодирования высказывания № 2 стали: рыбалка , навигатор , новое . При вторичном кодировании состав кодов был уточнен и свернут до двух: рыбалка , новое . В качестве категории первого порядка была избрана следующая конструкция: «традиция – новация: соотношение». Для ее выбора был важен и смысловой контекст, в котором это высказывание прозвучало.
В конечном счете оба высказывания вошли в категорию второго порядка «традиции». В мемосе, описывающем каждую сконструированную категорию, участники исследования подробно описывали смысловые основания, по которым те или иные коды уместно приписать к данной категории. Иногда между интерпретаторами возникали разногласия, которые необходимо было согласовать, либо, в случае размытости смысла, не включать данный фрагмент в логические построения.
В результате такой работы транскрипты по Лоухскому району были свернуты до нескольких категорий, что позволило строже, с опорой на коллективную интерпретацию, делать оценки, сверять их и избавляться от единичных, не имеющих типичных признаков, мнений.
Результаты исследования и их обсуждение
Сложившаяся в Лоухском районе этнокультурная и социально-экономическая ситуация обусловлена логикой многовекового исторического развития этих территорий. В XIII в. они попали в зависимость от Новгородского государства, а в 1478 г. вошли в состав централизованного Российского государства [13, 81, 98 ].
В XV в. продолжался процесс колонизации севера Лопских погостов и побережья Белого моря как карельским, так и русским населением [9, 7 ]. Во второй половине XVI в. карелы стали осваивать север Карелии и приграничные территории. Русские переселенцы тяготели к морскому побережью, основывая селения в устьях крупных рек. Географическая обособленность, сформировавшийся собственный говор и культура, огромная роль морских промыслов в локальной экономике – эти и другие факторы способствовали складыванию на западном берегу Белого моря особой этнолокальной группы – поморов. К середине XVI в. возникло ставшее затем традиционным этническое разделение населения территории современного Лоухского района: на побережье моря находились поселения поморов, а к западу, вплоть до границы со Швецией (с 1809 г. – с Великим княжеством Финляндским), проживали карелы [13, 143, 146, 147 ].
В конце XIX в. территория современного Лоухского района в административно-территориальном отношении входила в Кемский уезд Архангельской губернии, где составляла семь волостей. Две из них в конце XIX – начале ХХ в. были преимущественно с поморским населением, а все остальные – с карельским10. Общая площадь «карельских» волостей на изучаемой территории была намного больше площади «поморских».
Экономический уклад населения «карельских» и «поморских» волостей был основан на разных принципах хозяйственной активности. Карельское население значительную часть бюджета своего рабочего времени тратило на земледелие и скотоводство. Ввиду ряда факторов сельское хозяйство, несмотря на огромные трудозатраты, было малопродуктивным. Недостаточное количество выращенного хлеба, а также существование других хозяйственных потребностей заставляло карельских крестьян искать возможности внеземледель-ческих заработков. Традиционно местное население занималось охотой, рыбной ловлей и разносной торговлей в Финляндии, а также лесными заработками.
Специфичным для части «карельских» Олангской, Кестеньгской и Тихтозерской волостей было оленеводство. Олени составляли до 80 % всего поголовья домашнего скота в 1900 г.11
Таким образом, можно констатировать многоукладность экономики крестьянского двора «карельских» волостей, существовавших на территории современного Лоух-ского района в начале ХХ в. На их фоне крестьянские хозяйства «поморских» волостей имели более четко выраженную экономическую детерминацию, основанную на морских промыслах. Сельское хозяйство, особенно полеводство, не получило здесь широкого распространения [17, 52 ]. Если на многие сферы жизни населения «карельских» волостей влияли близость Финляндии и фактическое отсутствие ограничений на пересечение границы, то в отношении поморов (а также карел Белого моря от Кеми до Кандалакши) сходное влияние оказывали постоянные морские торговые контакты.
К началу ХХ в. на территории современного Лоухского района проживали только две крупные этнические группы – поморы
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ (русские) и карелы. Их территориальное, экономическое и культурно-языковое обособление (с некоторыми элементами взаимопроникновения) сформировалось и существовало к тому времени уже в течение нескольких веков.
ХХ в. значительно изменил сложившиеся культурно-языковые и экономические модели на территории современного Лоух-ского района. Одним из главных факторов изменений в этнической картине района стала нехватка местных трудовых ресурсов для промышленного освоения изучаемой территории. Строительство Мурманской железной дороги привело к большому притоку трудовых ресурсов из других районов страны. В 1920-е гг., с утверждением советской власти и восстановлением экономики Карелии после Первой мировой, Гражданской войн и интервенции, началось активное освоение природных ресурсов территории края. Например, в Чупе была налажена промышленная эксплуатация месторождений слюды. Это требовало усиления трудовой миграции на территорию района.
На традиционный уклад жизни местного населения отрицательное влияние оказала форсированная коллективизация в 1930-х гг. Она оторвала крестьян от земли в пользу работы в лесу. Коллективизация и сопровождавшее ее раскулачивание породили значительное изменение социальной структуры карельской деревни [10, 104 ].
Еще одним негативным фактором стала Великая Отечественная война. Если до войны на территории современного Ло-ухского района проживало 23,7 тыс. чел., то в 1950 г. эта цифра сократилась до 13,4 тыс. чел. Особенно серьезное сокращение населения произошло в существовавшем тогда Кестеньгском районе, значительная часть которого была оккупирована [1, 130 ]. Многие деревни во время войны были или уничтожены, или значительно пострадали и утратили свой исторический облик, как, например, Кестеньга.
Послевоенное восстановление экономики севера Карелии происходило за счет массового привлечения сюда в 1950-х гг. трудовых ресурсов из Белоруссии, Украины и различных областей РСФСР. В последующие годы это привело к еще большему размыванию местной культуры и традиционного уклада жизни, постепенному снижению роли карельского языка.
Для понимания того, какие аспекты прошлого востребованы сегодня, а также для оценки присутствия «арктической» тематики в информационных ресурсах муниципальных районов мы проанализировали ряд официальных СМИ и групп социальной сети «ВКонтакте».
Официальное представление района передает историческую преемственность c Поморьем и Архангельской губернией по административному подчинению, а также с промыслами, распространенными в прошлом, – солеварением, добычей жемчуга и слюды. Информация о хозяйственных занятиях населения XVIII в. отсылает к промышленному освоению края в советский период12.
Культурное наполнение жизни района связывается исключительно с фольклорными традициями. Можно выделить две значимые составляющие: фольклорные коллективы, созданные в советский период, и фигура «русского сказочника, нашего земляка Матвея Михайловича Коргуева». Подчеркивается, хотя и не совсем справедливо, что эти традиции актуальны и сегодня. Действительно, в 1990 г. на берегу Чупин-ской губы Белого моря в д. Нижняя Пулон-га был построен парусник под названием «Сказочный корабль Матвея Коргуева». Несколько лет подряд праздник ежегодно собирал жителей деревни и округи. Однако в последние годы праздник не отмечался, о чем с сожалением говорили наши собеседники из Чупы.
Районная газета «Наше Приполярье» (один из соучредителей – Администрация
Лоухского района) публикует материалы, расширяющие представление о культурной жизни района. За период с июня 2020 по май 2022 г. освещались мероприятия, связанные с фольклорным наследием края (отчасти они были обусловлены тем, что 2021 г. был объявлен в республике Годом карельских рун). Некоторые материалы были посвящены событийным мероприятиям, например фестивалям «Хозяйка Севера», «Сияние Севера»13. На страницах издания появлялись публикации о Варлааме Керет-ском14, участниках Великой Отечественной и Афганской войн, местных активистах и т. д. Обращение к конкретным личностям выполняет несколько функций: просветительскую (в случае с историческими персонажами), связующего звена общемировых событий с локальными сюжетами, ценностного и поведенческого ориентира для местного сообщества. Таким образом «конструируются» коллективная память и идентичность.
При анализе официальных средств информации мы обратили внимание на некоторую фрагментарность представления саамского прошлого. Про УСЛОН (лагпункт Чупа – Пристань) вскользь рассказано на сайте Чупинского городского поселения15.
Виртуальная реальность представляет собой пространство, где формируются и воспроизводятся разнообразные типы идентичностей. Одним из измерений этого пространства с преимущественно горизонтальными связями и более широкими (в отличие от официальных сайтов и традиционных СМИ) возможностями для коммуникации являются социальные сети. «ВКонтакте» – одна из популярных социальных сетей в русскоязычном пространстве. Мы обратились к анализу контента некоторых отобранных групп, посвященных Лоухскому району. Частично инфор- мация из групп дублирует официальную презентацию района. В то же время, например, саамское прошлое в группах проявляется более рельефно, о чем свидетельствуют записи, новости археологии, но чаще репосты из сообществ туристической направленности. Такое внимание к саамскому наследию на территории района можно считать традиционным. Путешественники, посещавшие во второй половине XIX в. деревни Кемского уезда, фиксировали присутствие саамского фактора в коллективной исторической памяти местных крестьян16.
Исследователи причисляют виртуальную идентичность к разряду конструктивистских явлений, а в активизации этнических групп в Сети видят подтверждение концепции «воображаемых сообществ», поскольку пользователи «конструируют онлайн-пространства, изображая их как сообщества» [5]. Примером смешения разных типов идентичности и событием, которое находит отклик у участников групп, служит праздник «Хозяйка Севера», который проводится с 2014 г. Это своего рода местный бренд, он актуален, о нем часто пишут и в официальных источниках, и в неформальных группах «ВКонтакте». Сам праздник и компетенции, требующиеся от хозяйки Севера, открывают гендерное измерение этничности. «Хозяйка Севера» должна знать состав «зеленой аптеки» (т. е. обладать навыками лечения народными средствами), быть мастерицей в отгадывании карельских загадок, рукодельницей, отличаться меткой стрельбой из лука, а также уметь готовить карельские национальные блюда. Победительница получает почетное звание и право открывать все значимые мероприятия в Лоухском районе до нового конкурса. Мы обратили на этот сюжет отдельное внимание, поскольку дискурс об этничности нередко вписывается
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ в гендерную картину мира, представляя ожидаемые ролевые модели.
Еще более ярким примером взаимопроникновения разных культурных традиций можно назвать День поселка в п. Софпорог в 2022 г. На афише были изображены русалка и Нептун. Тем не менее организаторы мероприятия предлагали этнически специфическую программу: уху по-Софпорогски, игру Mölkky17, спектакль «Картинки из карельской глубинки» (на афише было указано: на русском языке) калевальского театра “Uhtuan Kapsakki” («Ухтинский чемодан»).
В целом тема «карельскости» чаще проявляется в направлении Кестеньга – Софпо-рог – Пяозерский, т. е. локализована в западной части района. Тематика таких групп прежде всего связана с карельским фольклором и танцевальными коллективами.
В Чупе, расположенной в восточной части района, активно отмечаются общегосударственные праздники: 8 Марта, 23 Февраля, День матери, поддерживаются локальные инициативы (проведение регаты или Чупинского полумарафона).
Значимой для идентичности жителей района является память о Великой Отечественной войне, особенно для уроженцев и жителей Кестеньги, территория которой была оккупирована. Записи об участниках военных действий, родственниках, о местах боев пользуются откликом среди читателей. Есть и критические комментарии, связанные с отсутствием надлежащего ухода за памятниками истории.
Итак, отдельные элементы прошлого, в том числе этнического, остаются востребованными как в официальном дискурсе, так и на уровне общественных организаций. Чаще это происходит в виде событийных мероприятий, является частью сценического образа (например, образ хозяйки Севера в Лоухах или фольклорное наполнение культурной жизни в Кестеньге). В этом обрамлении «фестивальный проект этнично-сти» выглядит более востребованным. Унификация в экономической, политической, социальной и культурной сферах приводит к тому, что общим, объединяющим началом для всех жителей становится историческая память о Великой Отечественной войне, а также общегосударственные праздники.
Для того чтобы понять, какие идентичности актуальны сегодня на микроуровне, на уровне самосознания конкретных людей, какое место занимает (и занимает ли) арктический статус в структуре идентичности населения Лоухского района, мы провели интервью с жителями района. С помощью полученных данных можно соотнести два измерения идентичностей: официальное, или «внешнее», и «внутреннее», звучащее в нарративах информантов.
Вопросы, касающиеся самоидентификации человека, обычно задавались в начале интервью после краткого рассказа о месте рождения, семье, образовании и месте работы. Чтобы проследить соотношение гражданской, региональной, этнической, северной и арктической идентичностей, информантам предлагалось выбрать наиболее значимые категории из облака идентичностей, куда мы включили возможные варианты: гражданин РФ; представитель своей национальности; житель Карелии; житель своего района; житель своего поселения; северянин; житель Арктики. Темы Севера и Арктики более подробно раскрывались в последующих вопросах о ценности арктических территорий, ассоциациях с Арктикой, связи Карелии с Арктикой, ожиданиях от арктических программ.
Наиболее значимыми для информантов оказались гражданская, локальная и северная идентичности. Собеседники, ставившие гражданскую идентичность на первое место в личной иерархии идентичностей, как правило, далее выбирали региональную (житель Карелии) и локальную идентичности, выстраивая территориальную «воронку» от большего к меньшему – от государства к территории района/ поселения. В нескольких интервью выделяется модель локально-северной идентичности, где в иерархии идентичностей лидируют «житель Карелии», «житель своего района» и «северянин».
Локальная идентичность интерпретируется в интервью в прямой связи с историей и традициями района, составляя ее культурную доминанту. При этом существует несколько интересных преломлений указанной локальности. Одно из них, климато-географическое, проходит по линии восток – запад района. Морское побережье на востоке района, морские промыслы, развитые когда-то горные разработки и вызванный ими приток высокообразованных кадров, близость федеральной трассы – все это формирует несколько иной набор трактовок традиционного, нежели в западной части района, которая примыкает к границе с Финляндией, имеет в значительной мере карельский состав населения и сферы занятости, заданные лесным и озерно-речным ландшафтом.
Второе преломление локальности определяется составом населения. Информанты отмечают как смешение и взаимопроникновение традиций, так и разницу в культурном наследии, «карельском» и «поморском»: « Чупа [восток района] всегда традиционно была немножко другая. Я думаю, это еще с советских времен – там очень много было горняков. Ехали с высшим, со специальным средним образованием люди. <…> Сторона Кестеньгская, Софпорогская [запад района] – там больше лес заготавливали, более такие люди физического труда. И разница есть. <…> В Кестеньге, например, покупают рыбу морскую, а в Чупе нет. (Смеется). <…> А чупинцы покупают хорошо наши [лоухские] полуфабрикаты, что делает столовая. Наши пельмени, всякие бифштексы. Они, наверное, более городские. Купил – приготовил. Кестеньга нет. Они лучше купят сырое и сами сделают » (ж., 1960 г. р., Лоухи).
Третье преломление – отношение к традиции и степени ее адаптации к новым жизненным реалиям. В обеих частях района традиция сопряжена с природой, которая трактуется как главное богатство края. В рассказах респондентов заметны отличия в формах адаптации традиции к современной жизни. В восточных частях района, примыкающих к морю, традиция несколько быстрее адаптируется к новому. Реальное воплощение здесь находят любопытные проекты, такие как фестиваль «Белый шум», полумарафон, обустройство пляжа на Белом море, а также районный народ- ный праздник, посвященный местному сказителю Матвею Коргуеву. Ностальгия по утраченному прошлому звучит как на востоке, так и на западе района. При этом информанты вспоминали с сожалением и в большей степени о советском прошлом, называя такие его «атрибуты», как ГОК, зверосовхоз, рыболовецкие колхозы, ОРС, райпо, государственные социальные программы. Потеря ностальгической связи с более дальними историческими временами выглядела в интервью достаточно очевидной.
Четвертое преломление – запрос на преемственность между прошлым и будущим. Данный сюжет комментируется прежде всего в контексте усвоения «традиционного» молодежью, которая « уже отучена от всего » по причине того, что « нам корни постоянно подрубаются ( то война, то рудоуправление НКВД, то 90-е годы ) и ты должен заново всё строить » (м., 1981 г. р., Чупа). Подобные интерпретации сопровождаются сожалениями (со стороны старших жителей) об отъезде молодежи в большие города; рассказами о значительно бóльших трудностях (тяжелый физический труд, рост законодательных ограничений и правовых сложностей), возникающих при обращении к традиционным морским промыслам, нежели при выборе иных занятий; опасениями о невнимании к традиционным устоям со стороны пришлых предпринимателей, желающих « прикупить деревеньку »; сомнениями, что простая презентация традиции в туристической сфере может ее сохранить.
Таким образом, локальная идентичность на территории изучаемого района отнюдь не однородна и кроме этнических черт обладает иными измерениями, связанными с географическими, климатическими, поселенческими, историческими, поколенческими нюансами, которые имеют значение при самоидентификации. Их довольно трудно ограничить географическими или социальными пределами. Они, скорее, разлиты в изучаемом социуме, актуализируясь в зависимости от ситуации.
Арктическая идентичность ожидаемо не является четкой, устойчивой в сознании информантов. Она не вполне понятна
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ для них, поскольку Арктика мыслится как что-то далекое, ассоциируется с полярной ночью, холодом, льдами, бескрайними просторами.
В то же время при разговоре о причинах включения Карелии в АЗРФ выясняется, что информанты либо считают это обоснованным не чем иным, как экономическими причинами, ощущая «искусственность» такого решения, либо находят «мостики» для связи Карелии и Арктики, которые чаще всего выражаются через природно-климатические условия и условия проживания: холодное Белое море – «ворота в Арктику». Влияние Белого моря отмечается в интервью жителями Чупы, расположенной на берегу Чупинской губы: « …мы тут на Севере живем как бы, и для нас это слово “ Арктика ” не новое, у нас и так это всё, арктическая вода у нас всегда, это так, потому что она всегда холодная, заливает, взаимодействует с Ледовитым океаном » (м., 1981 г. р., Чупа); « Белое море – одно из самых чистых морей, это тоже всё к Арктике » (ж., 1984 г. р., Чупа). Те же респонденты полагают, что могут назвать себя жителями Арктики.
Однако более близкой и понятной для жителей Карельской Арктики является северная идентичность, «северяне». Она так или иначе звучала в большинстве интервью. В ряде случаев выбор и построение иерархии персональных идентичностей сопровождался фразами: « сначала важное? Наверное, северянин для меня идёт » (ж., 1984 г. р., Чупа), « северянин точно » (ж., 1981 г. р., Лоухи), « кто я, как бы это назвал? Наверное, северянин, прежде всего » (м., 1981 г. р., Чупа), « Конечно, считаю [северянкой]» (ж., 1952 г. р., Кестеньга) . Северность нередко обсуждалась в противопоставлении с Югом: «… летом у меня дочь едет на юг. А я говорю: как ты можешь вот эту красоту променять на юг ?» (ж., 1957 г. р., Чупа). Происходило это не только в сравнении с природно-климатическими условиями, но и в контексте обсуждения черт характера, присущих северянам, – отзывчивости, готовности помочь, отсутствия зависти.
Необходимо отметить, что концепции северной и арктической идентичности в настоящее время находятся на этапе становления и обсуждения в российском научном поле.
Менее актуализирована этническая идентичность, что, как правило, является нормой в спокойной социально-политической обстановке. Апелляции к этничности возникают в различных ситуациях, например, когда это включается в план самореализации личности или когда этничность становится инструментом для создания более благоприятных условий существования. В одном из интервью в Лоухском районе карельская идентичность играла важную роль для информанта, который связывал свое приоритетное, по его мнению, право на получение желаемого земельного участка с родовыми корнями, « на промысловых участках, где сидели деды » (м., 1959 г. р., Чупа), и рассматривал получение карелами статуса коренного малочисленного народа Севера как средство решения проблемы. Также в восприятии информантов сейчас практически нивелированы различия между западной и восточной частями района в повседневной жизни. Заметны смешение и взаимопроникновение традиций.
Заключение
Итак, в связи с отсутствием сопоставимых методик измерения делать точные выводы о значимости этнической идентичности в структуре самосознания карел и поморов в XIX – первой половине XX в. не представляется возможным. Однако, судя по имеющимся источникам, культурная и языковая специфика вместе с различиями уклада жизни рельефно разграничивала «карельскую» и «поморскую» части края. События XX в. внесли существенные коррективы в сложившийся уклад жизни и повлияли на приоритеты в структуре идентичности жителей района.
В настоящее время на уровне официальной презентации района, в общественном дискурсе сохраняется значимость отдельных элементов прошлого, которые чаще представлены в линейке событийных мероприятий, фестивалей. Праздники нередко характеризуются смешением разных культурных традиций. Тем не менее карельская этническая «повестка» ярче проявляется на западе Лоухского района, в направлении Кестеньга – Софпорог – Пяозерский, тогда как в более промышленно освоенной Чупе активно отмечаются общегосударственные праздники и поддерживаются локальные инициативы. Анализ СМИ и сообществ «ВКонтакте» выявил значимость фольклорного наследия (особенно в западной части района), исторической памяти о Великой Отечественной войне.
Привлеченные методы формализованного анализа текстов, использование кодирования, категорирования транскриптов, перекрестная интерпретация данных исследователями позволили вычленить наи- более типичные варианты идентичностей и особенности, характерные для избранного региона.
В интервью отчетливо видно, что этническая идентичность уступает место гражданской или региональной. Что касается арктической идентичности, то она ожидаемо не является укорененной в восприятии информантов. Более близка и понятна для жителей Карельской Арктики северная идентичность, «северяне».
Сформулированные выводы будут дополнены результатами, полученными по другим районам Арктической зоны Республики Карелия.
Идентичность и суверенитет: новые подходы к осмыслению понятий. М., 2007. С. 81–107.
Original article
DOI: 10.15507/2076-2577.015.2023.01.28-43
ISSN 2076-2577 (Print), 2541-982X (Online)

Transformations of the identities of the inhabitants in Karelian Arctic Region
(based on the research of the Loukhsky district)
Elvira A. Dzhioshvili
Alexander F. Krivonozhenko
Yulia V. Litvin
Svetlana E. Yalovitsyna
Institute of Linguistics, Literature and History,
Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences, Petrozavodsk, Russia
Introduction. The article presents the first results of a historical and sociological study on the impact that the inclusion of several regions of Karelia in the Arctic zone of the Russian Federation has on the identity of its inhabitants, using the example of Loukhsky district, the northernmost region in the Republic.
Material and Methods. The authors proceed from the interrelatedness of the territory, traditions and identities, which never lose their significance but evolve over time. The methodology included the comparative historical method, content analysis, qualitative study and field survey methods. An integrated analysis of the sources is applied, which mostly includes published and unpublished historical, journalistic, and sociological data. The field material is in-depth interviews with the residents of Louhsky district collected in July 2022.
Results and Discussion. A brief overview of the history development of Louhsky district is provided; the results of analyzing materials from mass media and online sources are described. The methods of formalized text analysis, coding, categorization of interview transcripts, cross-interpretation of data by researchers helped distinguish the most typical variants of identities and features characteristic of the district. The differences were detected in the dominant types of identities between the western and the eastern parts of the district, especially in what concerns official representation.
Conclusion. The paper concludes that the ethnic identity is preserved and manifested in the current public discourse within a so-called “festival project of ethnicity”. The interviews show that ethnic identity is giving way to civic or regional identities. Arctic identity is not firmly rooted in the perception of the respondents. The northern identity, i.e., being “northerners”, is more congeneric and easier to comprehend for people in the Karelian Arctic.
Ural'skii istoricheskii vestnik = Ural Historical Journal. 2018;1:100–108. (In Russ.). DOI: 10.30759/1728-9718-2018-1(58)-100-108.
(In Russ.). DOI: 10.17223/22220836/29/15.
Submitted 08.12.2022; reviewing 24.12.2022; accepted 26.12.2022.
Список литературы Трансформации идентичностей жителей арктических районов Карелии (на материалах Лоухского района)
- Вавулинская Л. И. Промышленное развитие Беломорской Карелии (1946-1970) // Исторические судьбы Беломорской Карелии. Петрозаводск, 2000. С. 130-140.
- Витухновская М. А. Российская Карелия и карелы в имперской политике России, 1905-1917. СПб.: Норма, 2006. 382 с.
- Волков А. Д., Тишков С. В. Стратегические приоритеты развития региона Карельской Арктики в условиях интеграции экономического пространства Арктической зоны России // Арктика и Север. 2022. № 46. С. 5-32. DOI: 10.37482/ issn2221-2698.2022.46.5.
- Головнев А. В. Новая этнография Севера // Этнография. 2021. № 1. С. 6-24. DOI: 10.31250/2618-8600-2021-1(11)-6-24.
- Головнев А. В., Белоруссова С. Ю., Кис-сер Т. С. Веб-этнография и киберэт-ничность // Уральский исторический вестник. 2018. № 1. С. 100-108. DOI: 10.30759/1728-9718-2018-1(58)-100-108.
- Головнева Е. В. «Сборка региона»: параметры конструирования региональных общностей // Сибирский философский журнал. 2017. Т. 15, № 4. С. 114-125. DOI: 10.25205/2541-7517-2017-15-4-114-125.
- Докучаев Д. С. Региональная идентичность в Ивановской области и политика конструирования образа территории: фактор туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. Т. 9, № 3. С. 7682. DOI: 10.12737/12885.
- Еремина Е. В. Региональная идентичность в контексте социологического анализа // Регионология. 2011. № 3. С. 216-222. URL: http://regionsar.ru/node/781 (дата обращения: 20.11.2022).
- Жуков А. Ю. Северная Карелия в системе государственного управления России XV-XVI вв. // Исторические судьбы Беломорской Карелии. Петрозаводск, 2000. С. 6-25.
- Захарова (Никитина) О. А. Проведение коллективизации на севере Карелии // Исторические судьбы Беломорской Карелии. Петрозаводск, 2000. С. 98-105.
- Илюха О. П. Школа и детство в карельской деревне в конце XIX - начале XX в. СПб.: Дм. Буланин, 2007. 303 с.
- Исторические судьбы Беломорской Карелии / отв. ред. Ю. А. Савватеев. Петрозаводск: Карел. науч. центр РАН, 2000. 153 с.
- История Карелии с древнейших времен до наших дней / под общ. ред. Н. А. Кораблева [и др.]. Петрозаводск: Периодика, 2001. 943 с.
- Каргинова-Губинова В. В. Человеческий капитал и окружающая среда как факторы устойчивого развития: приоритеты предприятий Карельской Арктики // Векторы благополучия: экономика и социум. 2022. Т. 45, № 2. С. 1-20. DOI: 10.18799/26584956/2022/2/1157.
- Клементьев Е. И., Кожанов А. А. Сельская среда и население Карелии: Ист.-социол. очерки. 1945-1960. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1988. 212 с.
- Кораблев Н. А. Социально-экономическая история Карельского Поморья во второй половине XIX века. Петрозаводск: Карелия, 1980. 129 с.
- Кораблев Н. А. Экономическое развитие Беломорской Карелии в пореформенный период XIX в. // Исторические судьбы Беломорской Карелии. Петрозаводск, 2000. С. 51-63.
- Культурное строительство в Советской Карелии, 1926-1941. Народное образование и просвещение: документы и материалы. Петрозаводск: Карелия, 1986. 176 с.
- Лаженцев В. Н. Арктика и Север в контексте пространственного развития России // Экономика региона. 2021. Т. 17, № 3. С. 737754. DOI: 10.17059/екоп.ге&2021-3-2.
- Макуров В. Г. Из истории развития лесной промышленности Карелии в довоенный период // Вопросы экономического, социального и культурного развития Карелии (1920-1940). Петрозаводск, 1976. С. 79-94.
- Пятовский В. П. Преображенный Север: Ленинская программа производит. сил Европ. Севера СССР в действии. Мурманск: Кн. изд-во, 1974. 416 с.
- Разумова И. А., Сулейманова О. А. Саамские сетевые сообщества в «этническом интернете» России // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2019. № 2. С. 114-122. DOI: 10.15393/и^.аИ2019.299.
- Российская Арктика в поисках интегральной идентичности: коллектив. моногр. / отв. ред. О. Б. Подвинцев. М.: Новый хронограф, 2016. 207 с.
- Смирнягин Л. В. О региональной идентичности // Пространство и время в мировой политике и международных отношениях: материалы 4 Конвента РАМИ. В 10 т. Т. 2: Идентичность и суверенитет: новые подходы к осмыслению понятий. М., 2007. С. 81-107.
- Соколовский С. В. Киборги в кибер-пространстве: современные исследования в области кибер- и цифровой антропологии // Этнографическое обозрение. 2020. № 1. С. 5-22. DOI: 10.31857/ S086954150008752-7.
- Сурхаско Ю. Ю. Карельская свадебная обрядность: (Конец XIX - нач. XX в.). Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1977. 237 с.
- Шабаев Ю. П. Народы Европейского Севера России: положение, специфика идентичности // Социологические исследования. 2011. № 2. С. 54-63.
- Шикалов Ю. Карельские хиххулиты - ле-стадианство в Беломорской Карелии в конце XIX - начале XX века // Православие в Карелии: материалы 2-й Междунар. науч. конф., посвящ. 775-летию крещения карелов. Петрозаводск, 2003. С. 137-149.
- Этнокультурные процессы в Карелии: сб. ст. / науч. ред.: Е. И. Клементьев, Р. Ф. Никольская. Петрозаводск: КФАН, 1986. 133 с.
- Юркова М. В. Арктический аспект формирования региональной идентичности жителей Архангельской области // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2018. № 29. С. 163-171. DOI: 10.17223/22220836/29/15.
- Hine C. Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and Everyday. London: Bloomsbury Academic, 2015. 240 p.