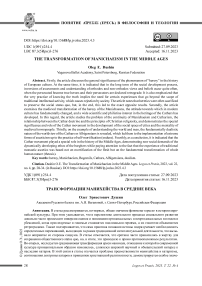Трансформации манихейства в Средние века
Автор: Душин О.Э.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Понятие αιρεσισ (ересь) в философии и теологии: от античности до современности
Статья в выпуске: 4 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается, во-первых, общее значение феномена «ереси» в истории европейской культуры. При этом указывается, что в перспективе длительного процесса социального развития довольно часто происходят инверсии оценок и понимания ортодоксальных и неортодоксальных взглядов и убеждений, когда преследуемые и гонимые становятся подлинными героями, а их гонители объявляются ретроградами. Также подчеркивается, что сама практика познания истины подразумевает необходимость определенных переживаний, выходящих за рамки традиционной интеллектуальной деятельности, что вызывало неприятие со стороны социума. В статье отмечается, что еретики часто приносились в жертву для сохранения общественного status quo, но, в итоге, это приводило к прямо противоположным результатам. Во-вторых, исследуется средневековая трансформация ереси манихеев, отношение к которой в современной культуре принципиальным образом изменилось, сложился широкий научный и обывательский интерес к наследию катаров. В этой связи в статье изучается проблема преемственности манихейства и катаризма, соотношения доктрины катаров и принципов христианской религиозности, демонстрируется особое значение и роль движения катаров в развитии социального пространства городов и менталитета средневековых горожан. В-третьих, на примере понимания мира и человека раскрывается принципиально дуалистический характер мировоззрения катаров или альбигойцев, что приводило их к осуществлению крайних форм аскетизма вплоть до применения практики умерщвления себя (endura). В качестве заключения указывается, что движение катаров приобрело особую роль в истории Средневековья, продемонстрировав новые социальные запросы динамично развивающегося этоса бюргерства. При этом обращается внимание на то, что опыт традиционной монашеской аскезы строился не на умерщвлении плоти, а на принципиальном преображении всей человеческой природы (theosis).
Ересь, манихейство, богомилы, катары, альбигойцы, дуализм
Короткий адрес: https://sciup.org/149145073
IDR: 149145073 | УДК: 1(091):254.4 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2023.4.3
Текст научной статьи Трансформации манихейства в Средние века
DOI:
Обращаясь к проблематике «еретических» убеждений, тех «превратных» воззрений, которые «выходили» за рамки официальных церковных догматов, сложившихся принципов мировосприятия, господствующих идеологических доктрин, необходимо признать, что многое из того, что исторически воспринималось как «нарушение» или даже как «разрушение» основ устоявшегося мира, в перспективе развития европейской культуры приобретало характер истины, подлинного знания, тогда как преследователи этих учений и идей впоследствии подвергались обструкции и рассматривались исключительно как ретрограды. Тем самым, позиции притесняемых и гонимых и их недругов оборачивались и приобретали прямо противоположный смысл. Причем в роли ереси в XX в. стали восприниматься не только неортодоксальные религиозные верования, как это было в Средние века или инновационные научные теории, за которые преследовали ученых в Новое время, но и личные политические убеждения.
В конечном счете следует согласиться с тем, что тема стигматизации знаний в качестве «ересей» сохранила свою актуальность и необходимость философского осмысления и с точки зрения исторических практик, и в перспективе развития современности. В частности, сама экспликация истины требует некоторой формы «преодоления», своеобразного «выхода» за существующие пределы и границы. Практики познания истины предполагают определенный опыт переживаний. Сама по себе истина имеет не только интеллектуально-познавательный характер, но для того, чтобы она стала в подлинном смысле истиной, требуются соответствующие переживания, часто трагического характера. Сторонники новых идей, подобно героям древнегреческого эпоса, принимают свою судьбу как неизбежность, как Fatum, сохраняя приверженность личным воззрениям и не ведая об их будущей реабилитации и признании. По сути, истина для них несет в себе характер жертвы. Различного рода «ересиархи» довольно часто приносились в жертву для поддержания общественного status quo, но в то же время их заклание становилось истоком реализации и утверждения новых перспектив веры, научного познания и самого существования человека.
Так получилось и с еретическим учением катаров, средневековой «версии» манихейства. Разумеется, оно не может быть реабилитировано с позиций Римско-католической церкви, но в пространстве современной культуры оно приобрело новые интерпретации и принципиально иное понимание. Катаров стали воспринимать именно как сообщество преследуемых и гонимых. С 1900 г. во Франции начал выходить журнал «Пробуждение альбигойцев», основанный восемнадцатилетним Деода Роше, а в 1950 г. он создал «Общество по изучению катаров», объединившее таких ученых как Рене Нелли, Жан Дювернуа, Фернан Ниль. Все они были по-настоящему захвачены исследованиями доктрины катаров. Они активно занимались поиском источников, написали соответствующие научные работы, защитили диссертации, опубликовали многочисленные монографии. Причем даже в их научных штудиях присутствует явная толика мистических ожиданий и предчувствий, поиска особых форм знаний и осуществления эксклюзивных духовных практик, присущих приверженцам ереси катаров. В свою очередь, подобная стратегия стала основополагающей для Антонена Гадаля, президента Инициати-ческого общества, который в своей деятельности активно использовал неизбывную тягу людей к опыту мистических переживаний, выводящих их за рамки повседневности, и часто прибегал к замысловатым и искусственным интерпретациям символики катаров. Таким образом, даже современные исследования средневекового катаризма обрастали всевозможными мифами и легендами [Тарасова 2005].
В целом, движение катаров явилось неотъемлемой составной частью западноевропейского Средневековья, и хотя его влияние было полностью подавлено к концу XIV в., оно сохранилось в качестве феномена культурно-исторической памяти, сыграв свою вполне определенную роль в развитии европейского самосознания. В данном контексте символично звучат слова французского исследователя Жана Мадоля, автора монографии «Альбигойская драма и судьбы Франции»: «Через потрясения XIII в. Средние века из детства вступают в современный мир» [Мадоль 2000, 21]. Стоит напомнить, что период детства в интерпретациях известных психологов всегда воспринимался как уникальное время, в рамках которого формируется личность, происходит развитие индивидуальных задатков человека, по сути, закладывается основа его будущих успехов и поражений.
Манихейство и катаризм
Среди еретических движений первоначального христианства манихейство явилось одним из главных направлений. Сергей Сергеевич Аверинцев в данной связи отмечал, что для официальной Церкви «дух манихейства был постоянной опасностью, как бы подземным потоком, подтачивавшим основы христианского сознания» [Аверинцев 1976, 33]. В самом деле, по мере утверждения христианства в качестве господствующей религии его статус в обществе и роль в государстве кардинально изменялись, приобретая все большее значение и влияние. Но при этом набирал силу и процесс обмирщения Церкви, ее постепенного превращения из преследуемой и го- нимой в мощный институт власти. В результате, она стала крупнейшим владельцем сельскохозяйственных угодий и важнейшим атрибутом средневековой общественно-политической системы. Причем содержание самой церковной доктрины становилось все более сложным и не всегда понятным для паствы.
В свою очередь, манихейство при всей замысловатости своего учения предлагало достаточно ясную схему понимания мира и поведения человека. При этом оно не было так явно обременено земными связями и отношениями и отвечало на духовные запросы верующих, захватывая умы и простых прихожан, и людей образованных, и представителей аристократической элиты. Тем самым, оно все более и более представляло реальную угрозу для существующих институтов власти. Поэтому против него единым фронтом выступали как церковные иерархи, так и светские правители. «Едва ли какую-либо другую религию преследовали столь беспощадно и жестоко, как религию Мани», – отмечает петербургский ученый A.Л. Хосроев [Хосроев 2007, 207]. Гонения, как указывает исследователь, начались еще в языческом Риме. Так, в 297 г. император Диоклетиан издал эдикт, в котором подчеркивалось исключительно чужеродное, персидское происхождение учения Мани. Преследования продолжились и при христианских властителях. Тем не менее, вопреки всем принимаемым актам, «это религиозное движение-изгой имело невероятный успех в разных концах ойкумены и на протяжении многих лет успешно соперничало с религиями, которые, в отличие от манихейства, с ранних пор были государственными» [Хос-роев 2007, 259].
В истории Средневековья манихейство представало в разных модификациях своего развития: от болгарского богомильства до движения катаров. Причем последнее отражало противостояние и борьбу между Тулузой и Парижем за приоритет властных полномочий. И поэтому движение альбигойцев, как принято называть катаров во Франции, приобрело столь заметное общественное влияние. «Крестовый поход против альбигойцев был главным образом политическим предприятием, а не религиозным конфликтом», – подчеркивает французский исследователь Роже
Каратини [Каратини 2010, 10]. При этом возникает принципиальный вопрос о том, насколько средневековое учение катаров или альбигойцев можно считать прямым продолжением учения Мани.
Считается, что манихейство восходит к разновидности гностических доктрин Средневековья, что оно явилось вариантом инноваций, принятых в религии зороастризма в Иране при шахе Шапуре I, совместив учение зороастризма с христианством и античным культом Митры. В свою очередь, средневековые неортодоксальные христианские движения павликан, богомилов и катаров воспринимаются в качестве «манихейских» сект и признаются в роли «преемников» дела Мани. Причем специфика этих движений состояла в том, что они придавали особое значение деятельности апостолов, а также считали, что в церковь проникли греховные люди, которые привнесли в нее власть сатаны.
В данном контексте известный шведский религиовед Гео Виденгрен признает, что «Мани претендовал только на то, что он избрал (а точнее воссоздал) внутри христианства “истинную” (или “совершенную”) и “универсальную” церковь» [Виденгрен 2001, 247]. Тем самым, согласно его концепции, свое учение проповедник рассматривал в роли единственно подлинного и всеобщего носителя христианского духа, обращенного к самым разным народам. Именно так – в качестве «истинных христиан» – воспринимали себя и его последователи.
Действительно, учение катаров апеллировало к традициям раннего христианства и критиковало Папскую курию за отказ от подлинного духа Христова, что, согласно их представлениям, было обусловлено Миланским эдиктом 313 г., когда церковь приобрела официальный характер и стала частью государственной системы. Примечательно, что учение катаров первоначально распространяли клирики, а затем оно получило признание и обрело многочисленных адептов из числа простых верующих, искавших новых духовных путей и мистических практик, но не нашедших таковых ни в официальной церкви, ни в куртуазной культуре, ни в средневековой науке. В XII–XIII вв. доктрина катаров получила широкое распространение на Севере Ита- лии и Юге Франции, где было много городов с развитой системой ремесел и торговых связей. Центрами их движения явились Тулуза, Милан, Флоренция. Причем их проповедники были так популярны и чувствовали себя столь вольготно, что свободно и беспрепятственно вступали в открытые богословские дискуссии с официальными священниками и монахами. Символично, что подобные прения поддерживались и местными аристократами.
Дуализм: мир
Несмотря на все нюансы и особенности развития манихейства от учения Мани через богомильство к катарам, определяющим началом, связующим религиозные доктрины этих движений, являлся строгий мировоззренческий дуализм. Позиция прямой и однозначной преемственности между данными доктринами подвергается вполне обоснованной критике, но, в любом случае, дуалистический принцип был основой их мировосприятия. Показательно, что дуалистические воззрения катаров были изложены в труде доминиканца Райнерио Саккони «Книга о двух принципах», так как представление содержания этого еретического учения было крайне необходимо для его последующего опознания и ниспровержения. Причем, как показывает А.Л. Дунаев, отношение Церкви к ересям в период XII–XIII вв. развивалось в направлении от чисто интеллектуального опровержения к крайне жесткому преследованию [Дунаев 2008].
В свою очередь, современный французский ученый Жан Маркаль прямо заявляет, что манихейство «представляет собой наиболее совершенный пример дуалистической ереси, ставшей настоящей религией со специфическими ритуалами и догмами» [Маркаль 2008, 167]. При этом тенденция к дуализму, по его мнению, «проявлялась постоянно в истории манихейских сект и нашла завершение в знаменитой endura катаров конца XIII века» [Маркаль 2008, 176]. Следует отметить, что так называемая endura была важной составной частью практики мистической жизни «совершенных». Она представляла собой постепенное умерщвление себя, что подразумевало отказ от оков темного материального мира во имя Бога и обретение своей подлинной «ан- гельской» природы. По сути, человек переставал употреблять пищу. В учении катаров данная практика представлялась в качестве реализации особого духовного пути восхождения к Божественному Свету, к Небесному Отцу.
Известный исследователь альбигойцев Рене Нелли также утверждает, что «в философском плане катаризм – это дуализм» [Нелли 2005, 58]. При этом он признает, что «есть бесспорное сходство между учением Мани о происхождении Зла и точкой зрения катаров» [Нелли 2005, 61]. Тем не менее, немецкий ученый Арно Борст полагает, что «вечная противоположность обеих сил, понимаемых катарами как силы света и силы тьмы, объясняется, однако, не памятью о прежнем манихействе, а чтением Библии (Иак 1, 17; Кол 1, 13; Ис 45, 7)» [Нелли 2005, 345]. Причем он подчеркивает, что для катаров Библия уже в XIII в. стала «кладезем цитат», они придавали особое значение изучению текстов Священного Писания. Таким образом, понимание мира в учении катаров, как и в манихействе, предполагало наличие двух начал – Добра и Зла, за ними признается извечное существование, но Добро ассоциируется с Духом и Светом, а Зло с Материей и Тьмой. Так катары разрешали одну из важнейших проблем богословского дискурса монотеистических религий: как возможно зло в сотворенном Богом мире, если Его природа есть абсолютное благо.
Ученые отмечают, что в движении катаров сложились два направления: «умеренные» и «радикальные» дуалисты. Радикалы считали, что если Сатана смог создать этот мир, то он вполне может рассматриваться в качестве божества и восприниматься как реальный соперник подлинного Бога, тогда как «умеренные» дуалисты признавали Сатану лишь в роли падшего ангела. Также радикалы полагали, что Христос является ангелом, но в противоположность падшим ангелам он не соприкасался с грехом и не был связан с телом. По их представлениям, Ему была присуща только видимость тела, corpus phantasticum («иллюзорное тело»), которое не было связано ни с материальностью, ни с плотскими недостатками. В свою очередь, Мария также имела ангельскую природу и в этом смысле не могла быть причастна к физическому рождению Христа. Умеренные же не отвергали полностью идею воплощения Христа. Согласно их учению, Христос стал в Марии человеком, но при Вознесении Он оставил свое земное тело. Миссия Христа заключалась для них в том, чтобы спасти падших ангелов, вернуть домой потерянных овец, ангелов неба. Он осуществлял это посредством проповеди. При этом умеренные признавали чудеса, сотворенные Христом на Земле, а радикалы видели в них лишь своего рода фокусы с материальными предметами, которые создавали иллюзию и были достойны только пренебрежения.
Так или иначе, катарам было присуще глубокое недоверие ко всему земному и к его творцу, который воспринимался ими в образе дьявола, торжествующего над всем сущим. В этом плане будущность нашего мира виделась им в абсолютно превратной перспективе. Радикалы утверждали, что в нем восторжествует ад, «рай глупцов». Но и умеренные катары с таким же пессимизмом ожидали конца Света. В их представлениях в результате Страшного Суда Земля будет сожжена, она превратится в огненный ад, либо снова распадется на элементы и на ней восторжествует тотальный хаос.
Дуализм: человек
Согласно доктрине альбигойцев, изначально совершенная душа человека оказалась раздвоена между ангельской природой, которая пребывает на Небесах, и земной плотью, физическим телом. Поэтому перед людьми возникает сложная задача преодоления зла. Им следует строго исполнять волю Бога и ненавидеть данный превратный мир. Отсюда в учении катаров складывается особое понимание греха, для них грешить означало принимать этот мир, поэтому в их представлениях любой грех считался смертным. В этом смысле они были негативно настроены не только по отношению к официальной Католической церкви как носительнице искаженного духа христианства, но и к представителям светской власти, к социально-правовым институтам, к системе феодальной иерархии.
В такой перспективе Р. Нелли представляет катаризм с его отрицанием церкви и родового права наследования как некоторую оппозицию феодализму в целом. «Следует признать, что катары осуждали все основы феодализма», – утверждает французский ученый [Нелли 2005, 18]. С одной стороны, он видит в данном подходе проявление влияния городских бюргеров. С другой – в этом присутствовала стратегия тотального неприятия всего того, что определяло существующий мир, который с точки зрения катаров был абсолютно превратен и несправедлив.
Эффективность ереси катаров, как считает Рене Нелли, задавалась призывом к возвращению к подлинному христианству. Как известно, на данной основе выстраивались самые разные неортодоксальные учения не только в период Средних веков, но и в Новое время. При этом ученый подчеркивает, что катары имплицитно способствовали развитию буржуазного духа. Стремясь к строгой нравственной чистоте и к предельной простоте жизни, они, по его мнению, стали провозвестниками буржуазного накопительства и стяжания. Катаризм в его понимании «был отражением эволюции общества, которая уже уменьшила в Оксита-нии прерогативы сеньоров, противопоставив им интересы буржуа, противопоставив города замкам. Это было частично связано с наступлением денег» [Нелли 2005, 25]. Причем, согласно интерпретациям французского исследователя, «совершенные» были вполне успешными финансистами в силу их высокой моральной требовательности и пунктуальности. Более того, они даже могли оказать заемщику поддержку в случае каких-то проблем.
В свою очередь, Арно Борст также признает, что «во время расцвета своей церкви совершенные занимались оживленными финансовыми операциями» [Нелли 2005, 371]. Кроме того, как подчеркивает ученый, «катары никогда не отрицали труд» [Нелли 2005, 370]. При этом на особое отношение к труду в рамках еретических учений катаров и вальденсов как форме аскетического образа жизни и проявления подлинной христианской праведности указывает и российская исследовательница Е.Г. Кайпова [Кайпова 2016, 213]. В итоге следует обратить внимание на то, что две важнейшие составляющие будущего буржуазного мира Нового времени – культ денег и труда – нашли отражение в учении катаров. Разумеется, не стоит преувеличивать значение катаризма для формирования и утверждения стратегий капиталистического производства и денежного накопительства в Западной Европе, но, в любом случае, он имплицитно включал вполне определенные тенденции, задававшие длительную перспективу развития самосознания европейского индивида.
Заключение
В качестве вывода необходимо еще раз подчеркнуть, что движение катаров приобрело особую роль (пусть и трагическую) в сложной истории XIII в., являя собой пример крайних форм аскетизма и суровых духовных практик. Но их путь – это «умерщвление» плоти (endura), тогда как традиционный монашеский аскетизм – это «преображение» всей человеческой природы (theosis). В этом плане «совершенные» принимали на себя все противоречия и недостатки этого превратного мира, но они не могли обрести и представить другим реальную возможность примирения. Их учение отражало новые принципы и стратегии поведения складывающегося бюргерства, которое посредством крайних форм религиозного пиетизма стремилось к преодолению всех условностей и ограничений феодального общества. По сути, это было проявлением одного из сюжетов в длительной истории формирования и утверждения современной буржуазной цивилизации. Однако нельзя забывать (как показывает в своей статье А.А. Устинова [Устинова 2009]), что и сама Папская курия активно искала разнообразные формы контроля и воздействия на сознание верующих, которые должны были способствовать не только преодолению народных ересей, но и сформировать перспективу «оправдания» земной жизни людей, признания их повседневных забот и стратегий практической деятельности.
Список литературы Трансформации манихейства в Средние века
- Аверинцев 1976 – Аверинцев С.С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от Античности к Средневековью // Из истории культуры Средних веков и Возрождения. М.: Наука, 1976. С. 17–64.
- Виденгрен 2001 – Виденгрен Г. Мани и манихейство. СПб.: Евразия, 2001.
- Дунаев 2008 – Дунаев А.Л. Основные этапы идеологической борьбы с ересью в XII–XIII вв.// Вестник Московского университета. Серия 8, История. 2008. № 1. С. 76–91.
- Кайпова 2016 – Кайпова Е.Г. Отражение изменений бюргерского мировоззрения в еретических учениях катаров и вальденсов во Франции и Германии XII – начала XIV века: (по материалам католических источников) // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2016. № 5 (170). С. 210–216.
- Каратини 2010 – Каратини Р. Катары. М.: Эксмо, 2010.
- Мадоль 2000 – Мадоль Ж. Альбигойская драма и судьбы Франции. СПб.: Евразия, 2000.
- Маркаль 2008 – Маркаль Ж. Монсегюр и загадка катаров. СПб.: Евразия, 2008.
- Нелли 2005 – Нелли Р. Катары. Святые еретики. М.: Вече, 2005.
- Тарасова 2005 – Тарасова Т. Некоторые малоизвестные аспекты катаризма // Вестник Московского университета. Серия 7, Философия. 2005. № 5. С. 118–121.
- Устинова 2009 – Устинова А.А. IV Латеранский собор 1215 года и программа борьбы с альбигойской ересью // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 111. С.45–50.
- Хосроев 2007 – Хосроев A.Л. История манихейства (Prolegomena). СПб.: Филол. фак. СПбГУ, 2007.