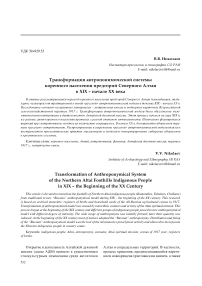Трансформация антропонимической системы коренного населения предгорий Северного Алтая в XIX - начале XX века
Автор: Николаев В.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XXII, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается переход коренного населения предгорий Северного Алтая (кумандинцев, тубаларов, челканцев) от традиционной к новой «русской» антропонимической модели в течение XIX-начала ХХв. Исследование основано на архивных материалах - метрических книгах и подворных карточках Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г. Трансформация антропонимической модели была обусловлена межэтническими контактами и деятельностью Алтайской духовной миссии. Этот процесс начался на заре XIXв. и у разных групп коренного населения протекал с разной степенью интенсивности. Изначально формировался широкий круг антропонимов ; позднее их количество сокращалось. В начале ХХ в. большинство аборигенов переняли «русскую» антропонимию. Распространение и закрепление «русской» антропонимической модели являлось инструментом прозелитических практик миссионеров и позволяло инкорпорировать сибирских аборигенов в крестьянское сословие.
Коренное население, алтай, антропонимия, фамилия, алтайская духовная миссия, перепись 1917г, метрические книги
Короткий адрес: https://sciup.org/14522438
IDR: 14522438 | УДК: 39+929.53
Текст научной статьи Трансформация антропонимической системы коренного населения предгорий Северного Алтая в XIX - начале XX века
Открытие и деятельность Алтайской духовной миссии (далее АДМ) привело к существенным этнокультурным изменениям среди автохтонов
Алтая и сопредельных территорий. В частности, процесс крещения, предвосхищавшийся наречением новокрещена христианским именем, а также нарастание этнокультурных контактов аборигенов с пришлым населением, обусловленное переселением первых в миссионерские поселения или их приселение в улусы, во многом способствовали трансформации антропонимической системы в XIX – начале ХХ в. у коренного населения предгорий Северного Алтая.
Традиционная антропонимия автохтонного населения предгорий Северного Алтая осталась за пределами интересов этнографов XIX – ХХ вв. Только в 2000 г. была опубликована работа Д.А. Функа [2000], в которой рассматривались традиционные имена и происхождение челкан-ских фамилий.
Цель данной публикации – рассмотреть процесс изменения антропонимической системы у коренного населения предгорий Северного Алтая (кумандинцев, тубаларов и челканцев) в XIX – начале XX вв. Основным источником исследования стали подворные карточки Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г. (ГААК. Ф. 233), которые содержат антропонимические данные: фамилия, имя и отчество главы хозяйства и имена членов семьи, а также метрические книги (ГААК. Ф. 164).
В культуре аборигенных жителей региона долгое время сосуществовали аутентичные и русские антропонимы. Переход к русской антропонимической модели был напрямую связан с крестьянской колонизацией и созданием сети миссионерских поселений АДМ. Переход в православие сопровождался имянаречением в соответствии с православным каноном и фиксацией в метриках отчества и фамилии, закрепление которых было во многом обусловлено престижностью «русского». Даже среди некрещенных автохтонов в XIX в., а возможно у отдельных групп ранее, распространяются адаптированные варианты христианских имен и имена, привнесенные пришлым населением: Андрюшке, Ан-тип, Аринке, Ванька, Васька, Клавдя, Петрушкэ, Петька и т.д.
На начальном этапе христианизации принятие крещения зачастую сопровождалось отрывом автохтона от родной среды, как в духовном (разрыв отношений с родственниками и др.), так и в физическом плане (переселение в миссионерское поселение). В результате складывалось синхронное существование двух систем имянаречения, традиционной и православной канонической, во многом связанное с синкретизмом традиционного и православного мировоззрения. Область применения аутентичного именника постепенно сужалась до рамок бытового общения.
Известно, что традиционная антропонимическая модель Алтая включала индивидуальное имя, имя отца и название рода. Материалы метрических книг конца XIX – начала ХХ вв. фиксируют процесс формирования новой антропонимической модели у автохтонов предгорий Северного Алтая, в которой сохранялась традиционная трехчленная структура; при этом название рода сменилось фамилией, сконструированной по русскому образцу. Также в метриках фиксировалось двучленное именование (имя-отчество) родителей новокрещенов. Лишь в редких случаях миссионерами в записях отражалась фамилия отца прозелита.
Анализ материалов метрических книг позволяет говорить о том, что в фамилии новоиспеченных христиан образовывались от отчества прозелита. Например, в метрической книге Покровской церкви с. Сузопского за 1916 г. значится, что Александр (до крещения Сандра) сын Захара Тарасова и Кыскэ Ивановой крестился в возрасте 26 лет; одновременно была крещена его дочь, а отец записан как Сандра Тарасов (ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 3060. Л. 28). Другой пример из метрической книги Макарьевской церкви с. Макарьевского за 1915 г.: Анна (до крещения Таныбас) дочь Андрея Апышаева и Тоиш Паевой крестилась в возрасте 20 лет; одновременно была крещена ее дочь, а мать зафиксирована как Анна (Таныбас) Андреева Апышаева (ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 2852. Л. 32).
В ходе процесса формирования фамилий автохтонов использовались и их имена. В частности, на это указывает зафиксированная в одной из метрических книг Кебезенского отделения АДМ фамилия «Корты», которая в одной из следующих записей уже фигурировала в ином варианте «Кортин» (ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 1381). Стоит отметить, что традиционное именование (Корты или Корту) новокрещена несколько раз встречается на страницах метрических книг.
Оценивая схемы происхождения фамилий у народов Сибири А.А. Люцидарская [1996] отмечает, что антропонимы, происходившие «от русского канонического имени», видимо, восходили к «имени крестного отца». Эта схема имела в Сибири универсальный характер – в среде коренного населения Северного Алтая присутствовали фамилии: Михайлов, Николаев, Павлов и др.
Учитывая поверхностный характер христианизации и распространенность прохождения повторного обряда крещения, необходимо признать широкие возможности для пополнения антропонимии коренного населения предгорий Северного Алтая и ее изменчивости. Не стоит также забывать о вариативности написания фамилий и неустойчивости их форм в документообороте вплоть до 1920–1930-х гг.
В ходе изучения подворных карточек Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г. нами было выявлено 565 фамилий, имеющих фонетико-орфографические варианты. Например, в д. Нарлык Тайнинской волости зафиксированы созвучные фамилии Чабыков и Чабуков, а в д. Подчайной – Чебеков. Подавляющая часть антропонимов оканчиваются на -ов/-ев, реже на -ин. Зафиксировано две фамилии (Зяблицкий и Фоминский) с окончанием на -ий, происхождение которых связано с периодом христианизации этнических групп предгорий Северного Алтая (в частности, «быстрянцев») в конце XVIII в.
Отдельно стоит упомянуть антропонимы, иллюстрирующие незавершенность процесса трансформации антропонимической системы: Биткоп, Каланчий, Кардыбай, Лабуша, Санаваш, Суен, Тандыбач, Тришиб, Шеркоп, Шоткарын. По своему генезису приведенные примеры, скорее всего, являются патронимами, еще не приобретшими в результате приставления окончания (-ов, -ев или -ин) вид фамилии по русскому образцу. Это подтверждается, в частности, имеющимися в самой переписи примерами фамилий: Лабуша – Лабышев (Урунская волость), Тандыбач (Верхне-Бийская волость) – Тундубашев (Урун-ская волость) или Яманчин – Яманчинов (Верхне-Бийская волость). Кроме того, опираясь на пример Яманчин – Яманчинов, с определенными оговорками список патронимов, используемых в качестве фамилий, можно дополнить, например, следующими: Агичин, Карускин, Кудучин, Куримчин, Сакпин, Чеужин и др.
Наиболее представительными фамилиями среди автохтонного населения были: Акпыжа-ев (290 чел.); Зяблицкий (245 чел.); Чинчикеев (229 чел.); Софроновы (205 чел.). Стоит отметить, что, например, фамилия Зяблицкий и некоторые другие были представлены и в соседних русских волостях (причем в большем количестве, чем на рассматриваемой территории), но владельцы этих фамилий в ходе переписи 1917 г. определили себя как «великороссы» или представители других не коренных народов Алтая.
В целом только 16 фамилий были широко распространены (более 100 носителей) у автохтонов предгорий Северного Алтая, еще 30 фамилий имели относительно широкое представительство (от 50 до 99 чел.). Соответственно в общей фамильной структуре доли выделенных двух групп составляли: 2,8 % и 5,3 %. Доля и количе- ство фамилий, численность носителей которых не превышала 4 чел., т.е. имевших мало шансов на закрепление в формирующейся фамильной структуре этнических групп предгорий Северного Алтая, составляла 23,4 % или 132 фамилии. В целом же половина фамилий была малочисленной (от 1 до 9 чел.) – 283 фамилии или 50,1 %. Часть данных фамилий имели южно-алтайское или шорское происхождение (напр., Штыгашев, Эдеков), другие, возможно, были искаженным вариантом более распространенных антропонимов, но большая часть, видимо, образовавшись в недалеком прошлом, исчезла в ходе ассимиляции, демографических процессов и т.д. Стоит отметить, что практически все известные в настоящее время фамилии автохтонов предгорий Северного Алтая к 1917 г. закрепились в антропонимической системе.
Можно предположить, что у автохтонов «ку-мандинских» (Нижне-Кумандинская, Озеро-Куреевская, Сузопская, Тайнинская, Троицкая, Урунская) волостей, исходя из численности самых распространенных антропонимов (Акпыжа-евы – 290 чел., Чинчикеевы – 229, Кызлаковы – 170 чел. и т.д.), первые фамилии образовались не позднее начала XIX в., и к началу ХХ в. сформировался относительно четкий набор фамилий в условиях постепенного сокращения темпов выделения новых антропонимов. Аборигены «тубаларских» (Верхне-Бийская, Паспаульская и отчасти Лебедская) волостей, видимо, включились в процесс фамилиеобразования не позднее середины XIX в. Для них характерен более широкий круг фамилий и сравнительно небольшая численность их носителей.
Можно предположить, что процесс фамили-еобразования был во многом детерминирован межэтническими контактами. Автохтоны «ку-мандинских» волостей, в отличие от южных «тубаларских», находились в более длительных этнокультурных отношениях с пришлым населением. Стоит отметить, что в пограничной зоне контактов автохтонов («быстрянцы», «тагапцы», «тогульцы» и др.) и переселенцев процесс внедрения русской антропонимической модели начался в более ранний период – в конце XVIII в.
Распространение и закрепление новой «русской» антропонимической модели среди автохтонов являлось инструментом прозелитических практик АДМ, позволяя инкорпорировать сибирских аборигенов в крестьянское сословие. Данный процесс растянулся на столетие, начавшись у этнических групп региона в разное время в течение XIX в., и протекал, видимо, во многом идентично, сопровождаясь образованием широкого круга антропонимов (в большинстве случаев от имени). Со временем происходила «фильтрация» фамильной структуры, приводившая к кристаллизации узкого круга фамилий, что прослеживается уже на материалах переписи 1917 г.
Материалы переписи 1917 г. фиксируют нивелирование традиционной и торжество новой антропонимической модели. При этом процесс становления и унификации фамилий продолжался и в последующие десятилетия, как в силу административных ошибок и разногласий при оформлении документов, так и в силу выделения из числа существующих фамилий новых антропонимов.
Список литературы Трансформация антропонимической системы коренного населения предгорий Северного Алтая в XIX - начале XX века
- Люцидарская А.А. Личное имя в системе коммуникативной культуры (Сибирь XVI -нач. XVIII в.)//Гуманитарные науки в Сибири. -1996. -№ 3. -С. 92-96.
- Функ Д.А. Традиционная антропонимическая модель челканцев//Челканцы в исследованиях и материалах XX века. -М., 2000. -С. 137-146.