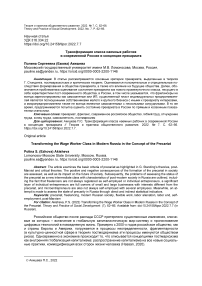Трансформация класса наемных рабочих в современной России в концепции прекариата
Автор: Акишева Полина Сергеевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 7, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные критерии прекариата, выделенные в теориях Г. Стэндинга, постмарксистских и критических теориях. Оцениваются положительные и отрицательные последствия формирования в обществе прекариата, а также его влияние на будущее общества. Далее, обозначается проблематика оценивания состояния прекариата как нового промежуточного класса, несущего в себе характеристики пост-современного общества, в России, в том числе указывается, что фрилансеры не всегда зарегистрированы как самозанятые или ИП, существенный пласт индивидуальных предпринимателей является полноценными собственниками малого и крупного бизнеса с иными к прекариату интересами, а микропредприниматели также не всегда являются самозанятыми с несколькими сотрудниками. В то же время, предпринимается попытка оценить состояние прекариата в России по прямым и косвенным показателям статистики.
Прекариат, фриланс, современное российское общество, гибкий труд, отчуждение труда, конец труда, самозанятость, постмарксизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149140301
IDR: 149140301 | УДК: 316.334.22 | DOI: 10.24158/tipor.2022.7.7
Текст научной статьи Трансформация класса наемных рабочих в современной России в концепции прекариата
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, ,
Одним из важных преобразований, следующим за включением в такое состояние «сверхсовременного» общества, стала и трансформация социальной структуры, все более усложняющаяся с позиций как стратификационных, так и классовой теорией. Обсуждаются такие феномены современности, как окончание «жизни» рабочего класса – его заменяют стремительно растущая сфера услуг и автоматизация физического труда (Бек, 2000), увеличение независимости работника в решении рабочих задач, размывание жесткого ограничения труда от других сфер (учебы, досуга и т. д.) (Макарова, 2007). Рост рисков рынка приводит к необходимости их все большего нивелирования компаниями.] Именно стремление либеральной экономики к снижению затрат и, как следствие, к повышению гибкости труда Г. Стэндинг связывает с возникновением такого промежуточного класса, как прекариат (Стэндинг, 2014). К прекариату относят как фрилансеров и неформально занятых, так и временно и сезонно занятых, имеющих самозанятость и индивидуальное предпринимательство (Тощенко, 2020). В социальной литературе прекариат в его внешнем многообразии часто приводится как пример размывания жестких границ между классами пролетариата и капиталистов.
Со стороны работника такая свободная занятость может быть рассмотрена как частичное решение проблем, порождаемых рыночной экономикой. Гибкий труд формирует отсутствие зависимости от конкретного работодателя; позволяет контролировать график работы и оставлять больше времени на отдых; дает возможность получать доход с любимого занятия даже при наличии обязательной работы; порождает возможность получать более высокую оплату труда за то же время работы за счет отсутствия территориальной ограниченности в выборе работодателя; позволяет сохранять мобильность (отсутствие привязки к месту работы); дает возможность избежать многолетнего глубокого образования для профессиональной деятельности.
Согласно марксистской методологии, такие признаки характерны для труда в рамках посткапиталистического общества1, а потому их можно расценивать, как элементы новой организации общественной жизни, зарождающейся в противоречиях текущей. Однако прекариат остается в рамках именно неолиберальной экономики и капиталистического общества и продолжает испытывать проблемы, связанные с его наемным состоянием. А. В. Бузгалин отмечает, что прекариат «становится носителем гораздо более широкого спектра отношений отчуждения, нежели классический класс наемных работников» (Бузгалин, Булавка, Колганов, 2020, с. 63). Так, помимо отчуждения труда и его продукта, прекариат является социально незащищенным (так как на него распространяется законодательство о договорных отношениях, а не трудовое законодательство), не имеет стабильности в доходе и занятости; по мнению А. Бузгалина, характеризуется отсутствием классовой солидарности (даже потенциальной), а также «адекватного политико-идеологического представительства». Г. Стэндинг также отмечает, что у прекариата нет профессиональной идентичности, корпоративного духа; прекариат ведет атомизированное существование: без полноценного досуга, с постоянным перепрограммированием личности и поведения, многозадачностью, невозможностью длительной рефлексии по поводу процесса и результатов деятельности. Прекариат «состоит из людей, пользующихся минимальными доверительными связями с капиталом или государством <...> В отличие от пролетариата он не имеет никаких отношений общественного договора, обеспечивающего гарантии труда, лежащие в основе социального государства» (Стэндинг, 2014, с. 23). Прекариат пока остается «классом в себе», несет в себе характеристики состояния пост-капиталистического общества, имея возможность стать «классом для себя».
При этом из всех видов прекариата наибольшим носителем новых тенденций будут именно фрилансеры, самозанятые и микропредприниматели. Точная оценка их роста в России крайне затруднена: фрилансеры не всегда регистрируются как самозанятые или ИП (по данным аналитики только 26 % фрилансеров оформлены2), самозанятые могут как самостоятельно заключать договоры, так и пользоваться биржами фриланса. Микропредприниматели имеют достаточно широкий разброс в масштабе (организации и ИП с сотрудниками до 15 чел, до 120 млн руб. оборота в год), а потому не всегда могут быть отнесены к прекариату, а существенный процент индивидуальных предпринимателей являются собственниками полноценного малого или среднего бизнеса, несущими риски и выгоды уже владельца бизнеса, а не носителя гибкого труда. Тем не менее постараемся дать оценку состоянию прекариата в современном российском обществе по прямым и косвенным показателям.
В настоящий момент Россия входит в первую десятку стран по росту рынка фриланса, по темпам роста – на втором месте, уступая только США3. При этом 2020 год с его кризисом и ростом безработицы стал стимулирующим для роста фрилансеров. Так, на рынке фриланса России в 2019 г. было около 5 млн чел, в 2020 г. зафиксировано 14 млн чел., а в 2021-м – уже 71 млн чел., почти 20 % от всего занятого населения. Российский рынок фриланса, утверждают эксперты PwC, составил к концу 2021 г. $41 млрд, а к 2025-му по прогнозам он должен вырасти до $102 млрд. Глобальный рынок фриланса же оценивается в $6,54 трлн, с ростом к 2025 г. до $13,84 трлн1.
При этом в России рост безработицы в кризисные периоды коррелирует со статистикой роста фриланса. Так, за 2,5 месяца пандемии в 2020 г. было официально уволено 3,5 млн чел., а на крупнейшей площадке по найму работников HeadHunter число новых вакансий упало на 26 % с одновременным численным увеличением резюме на подработку на 10 % и ростом количества регистраций на фриланс-платформах2. Так, число новых пользователей биржи фриланса Kwork показало в 2020 г. рост в 230 %. Одновременно в кризис первого полугодия 2020 г. 55 % русскоязычных фрилансеров отметили снижение доходов в апреле 2020 г., а также общее снижение спроса в районе 32 %. За март-май 2022 г. сложно оценить связь роста безработицы с ростом фрилансеров, поскольку одновременно с ростом безработицы стали закрываться зарубежные биржи фриланса и наиболее популярные для фрилансеров социальные сети, в связи с чем на оставшихся площадках произошел рост регистраций и конкуренции на запросы заказчиков.
Тем не менее можно отметить противоречивую тенденцию в поведении прекариата в России: с одной стороны, возможность поиска подработки и работы вне своего региона позволяет наемным работникам пережить кризисные периоды, а с другой стороны, такая возможность не гарантирует ни прежние уровень и стабильность дохода, ни стабильность занятости, ни наличия подходящих проектов. Кроме того, создавшееся положение ограничивает свободу выбора деятельности предложением на рынке со стороны заказчиков.
Основными направлениями фриланса в России является дизайн и графика, разработка и поддержка веб-сайтов, программирование, тексты и копирайтинг, реклама и маркетинг. Это ниши, относящиеся к цифровой экономике, доля которой в России, по оценкам экспертов, в 2 раза меньше, чем у стран-лидеров (на уровне 3,9 %)3. Доходы от фриланса распределены следующим образом: 64 % получают менее 30 тыс. руб. в месяц, 17 % – до 60 тыс. руб., 13 % – до 100 тыс. руб. И только 6 % зарабатывают ежемесячно более 100 тыс. руб.4 При этом на зарубежных биржах фриланса, до их закрытия, российские фрилансеры по совокупным заработкам занимали лидирующие позиции, хотя по объему регистраций существенно уступали другим странам (т. е. один российский фрилансер зарабатывал примерно в 2 раза больше зарубежного). Так, на международной бирже Upwork (Elance – старейшая биржа фриланса в мире, прекратившая сотрудничество с российскими фрилансерами в марте 2022г.) Россия занимала 21 место по объему регистраций, но 8 место по совокупным оплатам5. Мы видим здесь проявление следующего процесса: доступ к цифровым технологиям, а также умение адаптироваться под быстро меняющуюся ситуацию дают возможность российским фрилансерам выходить за пределы структуры занятости полупериферии, работая непосредственно на капитал центра и снижая воздействие отрицательных факторов свободной занятости (в том числе за счет более высокого дохода они имеют возможность нивелировать риски непостоянства в занятости, доходе и уровне заказов). В то же время фрилансеры в России, работающие на российских заказчиков, имеют уровень дохода, не существенно превышающий средний уровень дохода наемных рабочих (ок. 60 тыс. руб. в сфере производства товаров и услуг, ок. 70 тыс. – в сфере производства контента и СМИ, ок. 100 тыс. руб. – в сфере ИКТ)6.
Однако, как указывалось выше, более высокий уровень имеют неопределенность и риск. Отметим, что это резко контрастирует с позицией концепций неолиберальной экономики, где подчеркивается, что за принятие неопределенности и риска рыночный актор имеет более высокий, по сравнению с наемной рабочей силой, доход, что характерно как раз для предпринимателей-собственников малого, среднего и крупного бизнесов.
Количество зарегистрированных самозанятых в России с 2019 по 2022 гг. выросло до 4 млн чел., при этом чаще всего самозанятые в России работают курьерами, таксистами, сдают квартиры в аренду и оказывают маркетинговые услуги1, большая их часть – 20 % зарегистрирована в Москве, а наименьшая – в Чукотском АО. Средний доход самозанятых – от 25 тыс. до 34 тыс. руб.
Количество микропредприятий в России претерпевает незначительные колебания в связи с кризисными событиями, что может объясняться легким входом и выходом с рынка производства медиаконтента и цифровых технологий. Так, с 2018 по 2020 гг. количество микропредприятий изменилось с 5 751 тыс. до 5 675 тыс.2; к 2021 г. произошло снижение до 5 450 тыс., а к 2022 г. вновь наметился рост – до 5 636 тыс. предприятий. Малых предприятий на январь 2018 г. в России было зарегистрировано 267 тыс., в 2020 г. их количество снизилось до 224 тыс., к 2021 г. 216 тыс., к январю 2022 г. продолжилась тенденция снижения до 212 тыс. предприятий, что уже отражает сложность удержания на плаву полноценного бизнеса, а также перехода в иной класс по интересам и возможностям. Согласно опросу, средний доход микропредпринимателей составляет около 80 тыс. руб. в месяц3. Максимальный оборот наблюдается у микропредприятий в сфере торговли, строительства, а также научной и технической деятельности, деятельности по операциям с недвижимым имуществом, в обрабатывающей промышленности и в области информации и связи4.
Можно увидеть относительное сходство субъектов прекариата в России: фрилансеров, самозанятых и микропредприятий (отметим еще раз спорность отнесения микропредприятий к пре-кариату) – как по уровню дохода, так и по областям экономики, уровню риска и необходимости подстраиваться под изменяющиеся условия сверхсовременного общества. Также можно говорить о противоречивых тенденциях в социальных процессах, связанных с российским прекариатом – он является отражением и гибкой экономики, и общества риска; он несет в себе, с одной стороны, углубление отчуждения, неопределенность, меньшую стабильность на рынке труда, с другой – движение в сторону свободы труда, оплаты труда по способностям и времени, затраченному на него; снижения эксплуатации в связи с отсутствием привязки к конкретному работодателю.
Список литературы Трансформация класса наемных рабочих в современной России в концепции прекариата
- Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / Пер. с фр. М., 2000. 384 с.
- Бузгалин, А. В., Булавка Л. А., Колганов А. И. Маркс online: Будущее марксизма и марксизм будущего. М., 2020. 344 с.
- Макарова М. Н. «Конец труда»: миф и реальность постиндустриализма // Экономическая социология. 2007. Т. 8, № 1. С. 45-52.
- Прекариат: становление нового класса (опыт социологического анализа): коллективная монография / под ред. Ж. Т. Тощенко. М., 2020. 400 с.
- Стэндинг Г. Прекариат. Новый опасный класс / пер. с англ. М., 2014. 328 с.
- Hassan R. The Condition of Digitality: A Post-Modern Marxism for the Practice of Digital Life. London, 2020. https://doi.org/10.16997/book44.