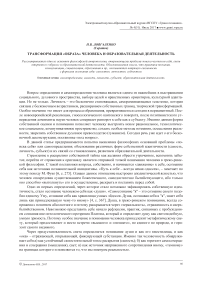Трансформация "образа" человека и образовательная деятельность
Автор: Довгаленко Наталья Владимировна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 (51), 2017 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается один из аспектов философской антропологии, открывающему проблему поиска человеком себя, связи открытого «образа» и образовательной деятельности. Обосновывается мысль, что практики познания, коммуникации, социализации, образования и пр., оказываются напрямую связанными с формами осознания себя: самостью, личностью, субъектом.
Самоопределение, самость, личность, субъект, образовательная деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/14822606
IDR: 14822606
Текст научной статьи Трансформация "образа" человека и образовательная деятельность
Вопрос определения и самоопределения человека является одним из важнейших в выстраивании социального, духовного пространства, выборе целей и нравственных ориентиров, культурной адаптации. Но не только. Личность – это бесконечно становящаяся, саморазвивающаяся «система», которая связана с бесконечным возрастанием, расширением собственных границ, творческой трансформацией. Особое значение это имеет для процесса образования, превратившегося сегодня в перманентный. После новоевропейской революции, гносеологического кантовского поворота, после позитивистского утверждения доминанты науки человек совершает разворот к себе как к субъекту. Именно данная форма собственной оценки и понимания позволяет человеку выстроить новое рациональное, технологическое социальное, коммуникативное пространство, создать особые методы познания, осмысления реальности, закрепить собственное духовное превосходство (гуманизм). Сегодня речь уже идет о его бесконечной деконструкции, постановке «под вопрос».
В данной статье предпринимается попытка выявления философских оснований проблемы «поиска себя» или самоопределения; обоснования различных форм собственной идентичности (самость, личность, субъект) и их связей со становлением, развитием образовательной деятельности.
Стремление к раскрытию собственной тайны как желания обрести утраченное, вспомнить забытое, перейти от отражения к оригиналу является отправной точкой понимания человека в греко-римской философии. С такой постановки вопроса, собственно, и начинается «движение» к себе, осознание себя как источника познавательной инициативы. «Путь к себе – всегда некая одиссея», – замечает по этому поводу М. Фуко [6, с. 275]. Однако данное отношение выстроено аподиктической ясностью, что человек опосредован существованием божественного, самодостаточно бытийствующего, ибо только оно способно «вытолкнуть» его в осуществление, раскрыть и поставить перед собой.
Одно из первых определений, через которое стало возможно зафиксировать собственную идентичность, стало осознание человеком себя как «души». «Самосознание "я" – это сознание своего подобия единому Уму, сознание себя как хранилища умных эйдосов. Душа, осознавая себя в "я", знает себя лишь как принадлежащую чему-то иному» [4, с. 367]. Душа, в греко-римском понимании, всегда сопряжена с понятием абсолютного и потому раскрывается через «зеркальность», отраженность в сверх-бытийственном. Невозможно представить себе начало рефлексии, практик, связанных с пробуждением сознания вне онтологического прозрения Платона, который и определяет душу как светоподобную, умную зримость. Поэтому особое значение в понимании человека принадлежит метафизическому свету, который предоставляет и место встречи «высшего» и «низшего», но единого по природе, и горизонт самого видимого.
Через предустановленность света определяется понимание души и как его вместилища, и как «ока» – отражающей, открывающей, фиксирующей субстанции. Именно так человечность обнаруживает себя а) как устойчивый самостоятельный топос раскрытия (самость); б) как горизонт самосозерцания и созерцания (мышления), свет; в) как источник напряженного сопротивления иному, «темному» на границах которого и появляется то, что мы именуем реальностью.
Приобретение данного знания не только открыло перед человеком существо собственной принадлежности – самость, но так же поставило предельную задачу удержания в данном антропологическом топосе, закрепило перед необходимостью заботиться о себе, о своей «ктойности». Самость сама по себе явившаяся центром «господствующей силы бытия», центром ее роста и падения постепенно приобрела формально организующий смысл. Этот центр явился так же точкой «зрения», откуда выступало ограничение и свет, то есть осуществлялась привязка к самому выставлению – «кто» и предметному мышлению – «что». Образование зафиксировалось в античной культуре как частное намерение следовать духовно-телесным практикам, открывающим перед человеком горизонт уникального созерцания собственной природы. Данные практики, как правило, носили закрытый характер и не были нацелены на социальное признание, хотя постепенно его приобрели. «Эти "искусства существования", эти "техники себя", частично, очевидно, утратили свою значимость и автономию, когда с приходом христианства они были интегрированы в практику [exercice] пасторской власти, и позднее - в практики [practiques] образовательного, медицинского и психологического типа» [7, с. 18].
Вопрос о формировании границ личности определяется уже христианским размышлением о природе человека. Открытие опыта собственного распада подвигает человека вернуться к исходному осознанию себя как целостности. Ведущими здесь становятся практики духовного, коммуникативного, культурного плана: исповедания, «выговаривания» себя, оценивания, социального выбора и пр. Если предметность человека в античный период была связана более вопросом «кто», то в христианскую эпоху возникает тяготение к практикам «как». «Как» возможно достигнуть целостности и удержаться в ней? «Кто» начинает раскрываться в способе постоянного «пересмотра себя». В этом и состоит опыт осознания личностных пределов, закрепляемый через различение в себе «темных» и «светлых» сторон, выявление абсолютных (божественных) критериев суждения о себе, прояснения роли других в понимании, суждении о собственном существовании и пр. В этом практиковании особое значение приобретает слово, т.к. посредством него достигается создание духовного пространства личности, оно же открывает возможность связи с другими людьми: социализацию, понимание, истолкование, оценивание и пр.
Личность перестает быть чем-то интимным, она требует открытого опыта и взаимодействия с собой, с подобными. Образ человека начинает напрямую связываться с публичными практиками образования. Последние подразумевают не только социальную вовлеченность, следование единой цели, регламентацию и пр. Образование изначально возникает именно как практика собственного осознания, исследования себя, «выговаривания». А затем на первый план выходят процедуры оценивания себя через других, взаимодействия. Так порождаются специфически согласованные, социальные практики совместного духовного опыта, чтения, письма, счета, ведения дискуссий, которые приобретают статус открытости. В этом отношении опыт греко-римской культуры, напротив, направлен на особый «образовательный круг», в котором в ограниченном виде осуществляется как доступность к знанию, его передаче, так и к ведению диалога, пониманию (гимнасия, ликей Аристотеля и пр.). Внутриличнос-тные подвижки, которые при этом происходят и являются своеобразной целью для образовательной деятельности. Ибо подлинное ее стремление – это постижение и творческое формирование себя. Образование раскрывается, таким образом, во взаимосвязи с собой, с другими, со знанием.
Закрепление понятия «субъекта» в культуре связано, прежде всего, с преимущественным переходом к рациональной самоосознанности. Она выражается в ясности и строгости тех познавательных процедур, которые человек производит над самим собой. Он определяет не только собственную предметность, но так же критерии, по которым производится определение. Субъект определяется как некая «сконструированная» форма, содержательно которую наполняют именно рациональные практики целеполагания, социализации, коммуникации, образования и пр. Приоритет приобретают социальные структуры, диктующие условия возможных отношений внутри самого субъекта и во взаимодействии с другими. Хотя на всех уровнях могут проявляться и неконтролируемые эффекты, меняющие смысл поведения, выбора, оценку.
В рамках познавательного процесса это можно проиллюстрировать с помощью перехода от классической рациональности с доминированием отношений «объект-субъект» к неклассической рациональности. Основой последней стали уже отношения «субъект-объект», так как возросла роль операционально-измерительных величин и эффект наблюдателя не мог быть сведен к простой погрешности. Оказалось, что устойчивость научное знание сохранит только при введении более широкой и открытой степени интерпретации поведения субъекта. Стало необходимо учитывать и детализировать отношения между субъектом и объектом, беря во внимание метод, средство измерения, язык и пр.
«Субъект» установил самодостаточную, субстанциальную природу человечности. Она обнаружила себя в проявлении радикального скептицизма новоевропейского мышления и «расколола» событие единства реальности и человека. «Человек вдруг сделался заложником собственной субъективности или скорее своей логической интерсубъективности (превратившейся в современную науку), а вселенная оказалась по ту сторону стены, непостижимая в себе самой» [1, с. 223]. Мир и человек стали существовать совершенно разрозненно и параллельно, открываясь друг другу в какой-то самоданной мысли. Разум, оставшись «при человеке» закрыл для природы разумное постижение, она превратилась в замкнутую систему, способом приближения к которой стала рациональная инструментальность. «Поскольку понятия «Общество» и «Природа» не описывают сфер реальности, – это два коллектора, придуманных в паре, главным образом по полемическим причинам, в XVII веке» [3, с. 155].
Субъект закрепил и особое отношение в ведении познавательной деятельности как источник «воли». Он определил критерии познания, методологии, инструментов и средств исследования. Кроме того, субъектом установились принципы коммуницирования, которые, прежде всего, стали связываться со знаково-символическим способом выражения себя и объектов. Выстроилось фиксируемое через концепты поле смыслов, и установилась иерархия их отношений. Весь познавательный арсенал науки определился все возрастающей точностью и укрепляющейся взаимозависимостью между собой элементов познавательного процесса.
М. Вебер указал на ряд особенностей в действиях субъекта, которые стали определяющими в аспекте формирования его рациональной стороны: аффективное, традиционное, ценностно-рациональное и целерациональное. Особое значение, безусловно, принадлежало последнему, ибо цель определила как смысл самой деятельности, так и прогнозируемость итога, заключенного в границы окружающих условий, среды, которая так же требовала рационального приспособления. «С помощью комплексного, пусть и далеко не проясненного понятия рационализации Вебер анализирует тот религиозно-исторический процесс расколдовывания, который должен создать необходимые внутренние предпосылки для возникновения западного рационализма» [8, с. 38].
Тогда, когда рационализация достигла социального уровня, установились устойчивые группы, которые выработали повторяющуюся схему осуществления деятельности для реализации определенных целей. Так сформировались социальные институты, в том числе, и институт образования. Выбор той или иной социальной группы может диктоваться как иррациональными мотивами (привычка, потребности и пр.), так и традицией, культурными ценностями, экономической выгодой и т.д. Но именно образование стало выражением, прежде всего, внутренних изменений субъекта, который осознал себя в границах рациональности, регламентируемых правил доступности знания, социальных отношений с другими, целей в изменении себя.
Но субъект не стал заменой личности, не изъял ее из культурного пространства. Он продемонстрировал особую рациональную сторону антропологического поиска себя, дал своеобразный «ответ» на запрос ясности, строгости, аподиктичности в мышлении о самости. Субъект «ответил» и на стремление следовать социальным нормам и законам, выстроить предсказуемое духовное и жизненное пространство. Тогда как личность проявилась именно через способность противостоять им, следовать собственному произволу, ничем немотивированному, уникальному выбору. «Как невозможно оценить рациональность только с точки зрения экономики, так и личность не ограничивается социальным, она всегда шире. Человек, его природа не умещаются в узкие рамки социальной системы. Поэтому мы убеждены, что подлинно человеческое рациональное существование и субъектное целеполагание невозможно без осмысления бытия как целого» [5, с. 21].
Формирование личности – целостной, творческой, деятельностной – является предельной задачей образования, высшего образования и сегодня. «Личность – это уникальность, микрокосм (ведь само понятие «лицо» предусматривает неповторимость, отличие от других), субъект истории, автономная величина, опора самой себя…» [9]. Но у нее есть и оборотная сторона: рациональная сконструирован-ность, адаптированная в систему отношений с другими, самоконтроль, коммуникативно опробованное, безопасное выстроенное пространство смыслов. Именно эта сторона определяет сегодня область образовательного и удачно сращивает его с техникой и технологией. Прежде всего, технологией производства знания, а затем и личностей, специалистов. Однако «космичность» и автономность личности настоятельно требует осознания и общения с культурными символами, вовлечение в онтологическую игру с божественным, другими, поиска собственного онтологического, социального места и много чего еще. Практики «самоконструирования себя» имеют побочные, незапланированные флуктуации. Образование как никакая система должна отражать эту сложную специфику формирования личности, субъекта. Оно должно реализовывать идею «парресиастического и, более широко, коммуникативного договора», в котором нет жесткости и строгой регулятивности. «Этот договор не обязательно формулируется эксплицитно («Вы будете делать то-то, а я – то-то»), скорее, он определяет границы приемлемого и неприемлемого, границы ситуации в целом, то есть те пределы, при выходе за которые она изменяет свой характер» [2. с. 12]. Такой договор, скорее, выстраивает поле согласия, условий творческого процесса. Сама же личность, в свою очередь, должна ответственно принимать идею следования неким правилам, которые откроют перед ней новый способ приближения к познанию, преимущественно, и как прежде, самой себя.
«Образ» человека и образовательные стратегии – вещи неразделимые и сегодня. Но обосновать данную связь становится все более проблематично. Функциональный, системный, средовый подходы, стремление к прагматике, экономической устойчивости и целесообразности нивелируют сам факт личности. Она превращается в функцию, «порождается» только в результате отношений, как эффект. Потому от образования требуется, прежде всего, научить следованию данной логике: стать нужным на «рынке труда», встроиться в систему социальных, коммуникационных, производственных отношений, на основании которых и получить доступ к реальности эффекта. Стать «эффективным» – врачом, инженером, педагогом. Звучит, по меньшей мере, странно, ибо выражает лишь стремление встроиться в системный принцип, но содержательно не брать в расчет личность как носителя знания, профессиональных навыков, идей, ценностей. Но именно личность, а не ее «след» остается единственно возможным источником образа человека сегодня. Потому образованию вообще, системному образованию, если оно еще является творческим процессом, следует удержать эту тонкую грань формирования человеческого лица или «эффекта».
Список литературы Трансформация "образа" человека и образовательная деятельность
- Бедар Ж. Неопределенность от Экхарта до Пригожина//Человек перед лицом неопределенности. Москва-Ижевск. Институт компьютерных исследований. 2003.
- Корбут А.М. Практики субъективации и образовательная коммуникация в университете//Университет в перспективе развития: Альманах Центра проблем развития образования БГУ. № 5: Политики субъективации в университетском образовании. Мн., Пропилеи. 2007.
- Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М., Изд. дом Высшей школы экономики, 2014.
- Лосев А.Ф. История античной эстетики: Поздний эллинизм. М., Искусство. 1980.
- Огородников А.Ю., Чурин В.В. Рациональность личности и ее границы в бытии//Вестник ТвГУ. Серия «Философия». 2016. № 4. С. 19-27.
- Фуко М. Герменевтика субъекта. СПб., Наука. 2007.
- Фуко М. Использование удовольствий. История сексуальности. Т.2. М., Академический проект. 2004.
- Хабермас Ю. Теория рационализации Макса Вебера//Социологическое обозрение. 2009. Т. 8. № 3. С. 37-60.
- Хуторской А. В. Современные педагогические инновации на уроке//Эйдос: Интернет-журнал. 2007. 5 июля. URL: http://eidos.ru/journal/2007/0705-4.htm (дата обращения 02.06.2017).