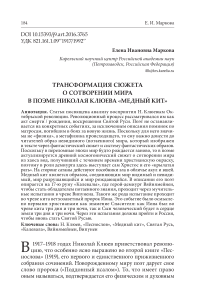Трансформация сюжета о сотворении мира в поэме Николая Клюева "Медный кит"
Автор: Маркова Елена Ивановна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.4, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу восприятия Н. Клюевым Октябрьской революции. Революционный процесс рассматривался им как акт смерти / рождения, воскрешения Святой Руси. Поэт не останавливается на конкретных событиях, за исключением описания поминок по матросам, погибшим в боях за новую жизнь. Поскольку для него значима не «физика», а метафизика происходящего, то ему важно донести до читателей образ невидимого (потаенного) мира, который изображен в тексте через фантастический сюжет и систему фантастических образов. Поскольку в переломные эпохи мир будто рождается заново, то в поэме актуализируется древний космогонический сюжет о сотворении мира из хаоса вод, получивший с течением времени христианскую окраску, поэтому в роли демиурга здесь выступает сам Христос и его «крылатая рать». На стороне сатаны действуют пособники зла в обличье акул и вшей. Медный кит является образом, соединяющим мир видимый и невидимый, мир разрушающийся и мир рождающийся. В описании его поэт опирается на 17-ю руну «Калевалы», где герой-демиург Вяйнямейнен, чтобы стать обладателем потаенного знания, проходит через мучительные испытания в чреве Випунена. Такого же рода испытание проходит во чреве кита ветхозаветный пророк Иона. Это событие было осмыслено первыми христианами как знамение Спасителя: как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Через эти испытания должна пройти и Россия, чтобы вновь стать Святой Русью.
Н. клюев, "песнослов", "медный кит", святая русь, "калевала", вяйнямейнен, випунен
Короткий адрес: https://sciup.org/14748990
IDR: 14748990 | УДК: 821.161.1.09“1917/1992” | DOI: 10.15393/j9.art.2016.3765
Текст научной статьи Трансформация сюжета о сотворении мира в поэме Николая Клюева "Медный кит"
В 1917–1918 годах Николай Клюев приветствовал революцию, что особенно ясно выражено во второй книге «Пес-нослова» (1919), его первого и единственного прижизненного собрания сочинений. Новорожденному миру поэт дарует свое слово пророка («Поддонный псалом»). То, что имеет право оным называться, подтверждается его физическим и духовным
Трансформация сюжета о сотворении мира в поэме Николая Клюева… 185 преображением, о чем свидетельствуют поэмы «Белая повесть» и «Белая Индия», а также цикл «Спас» (здесь поэт величается «мужицким Спасом»).
Физическому и духовному преображению подвергнут весь мир, о чем сказано в его маленьких поэмах «Песнь Солнце-носца» и «Медный кит», вошедших в третий (заключительный) раздел «Красный рык» второй книги «Песнослова». Идейная значимость произведений подчеркнута их местом в композиции раздела: первая поэма его открывает, вторая — завершает. Обе являются клюевской трансформацией древнейшего мирового сюжета о сотворении мира.
«Песнь Солнценосца» ранее была опубликована в альманахе «Скифы» (№ 2. 1918), издаваемом одноименной группой литераторов разных художественных направлений, придерживавшихся «почвеннических» воззрений на революцию. Здесь также были напечатаны стихи С. Есенина и еще мало кому известного А. Ганина. Если поэты с искренним восторгом встретили Октябрьскую революцию, то знаменитый прозаик А. Ремизов отреагировал на нее иначе, о чем говорит само название его сочинения — «Слово о погибели Русской Земли». В этом же номере были опубликованы две аналитические статьи, посвященные этим произведениям: «Поэты и революция» главы объединения «Скифов», видного публициста и литературного критика Иванова-Разумника (Р. В. Иванова) и «Песнь Солнценосца» известного поэта Андрея Белого. Они видели в Николае Клюеве воистину народного поэта, познавшего не только революцию политическую и социальную, но предчувствующего «революцию национальную… революцию духовную» [4, 1], соединяющего «пастушескую правду с магической мудростью, Запад с Востоком» [2, 10]. Под пастухами А. Белый разумел новозаветных вестников, которым открылась христианская истина: «Мир земле и человекам благоволенье». Клюеву же ведомо знание нового времени: на смену богочеловеку Христу идут «народы-Христы».
«Песнь Солнценосца» не раз публиковалась в России, в 1920 году была издана в Берлине на русском языке, позднее была переведена на немецкий язык. Однако сегодня произведение, вызвавшее столь сильную ответную реакцию у современников, не является популярным ни в читательской, ни в исследовательской среде. Дело не только в переоценке результатов Октябрьской революции, но и в сложности самого текста. То, что понятно Иванову-Разумнику и А. Белому, блестяще образованным представителям «петербургской» культуры Серебряного века, далеко не всегда ясно нашему современнику.
Сегодняшнего читателя можно понять. В поэме речь идет не о конкретных революционных событиях, потрясших весь мир, а о «рати солнценосцев», в задачу которой входит сотворение нового солнца:
Три огненных дуба на пупе земном, От них мы три желудя — солнце возьмем: Лазоревым — облачный хворост спалим Павлиньим — грядущую даль озарим.
А красное солнце миллионами рук Подымем над Миром печали и мук 1 .
Герои Клюева действуют, на первый взгляд, в неком фантастическом мире, никак не соотносимом с конкретной действительностью. Однако у поэта было свое представление о реальности. Он познал, что «…кроме видимого устройства жизни русского народа как государства, или вообще человеческого общества, существует тайная, скрытая от гордых взоров иерархия, церковь невидимая — Святая Русь, что везде, … есть души, связанные между собой клятвой спасения мира, клятвой участия в плане Бога. И план этот усовершенствование, раскрытие красоты лика Божия»2.
Тайна, по мнению Е. М. Неёлова, является одним из признаков фантастического мира. Солидаризируясь с Ю. Ханю-тиным в том, что «многозначность, неопределенность входят в состав фантастического» [10, 135], он убежден, что даже в научно-фантастическом романе, где значимую роль играет герой-исследователь, обязателен мотив тайны, абсолютное постижение которой на языке науки невозможно [7, 63–64]. На свой лад еще в 1918 году в поэме «Медный кит» выразил эту мысль Николай Клюев:
Корнаухий кот мудрей, чем Лемура,
И мозг Эдисона унавозил в веках поросенок ( 1999 , 392).
Открывшееся ему потаенное знание поэт выражает языком символов, созданным мировой духовной культурой. Так, в «Песни о Солнценосцах», воспевая новое сотворение мира, поэт в качестве сюжетной доминанты использует символику рун о «большом дубе», известных ему по карельским эпическим песням и «Калевале», и смело соединяет ее с символическим рядом русского фольклора и библейских текстов, с отсылками к античным мифам. Клюев насыщает поэму европейскими и азиатскими топонимами. Столь причудливая ткань повествования ему необходима, потому что он ведет речь не об одной стране, а о сотворении всей космической вертикали, в которой Руси уготовано место центра мира, его пуповины.
Сочетание многочисленных символических рядов усиливает смысловую насыщенность текста, дает ключи к его пониманию и в то же время создает ощущение его потаенности. Симбиоз видимого и потаенного и порождает клюевский фантастический мир.
В поэме «Песнь Солнценосца» калевальские мотивы (образа Большого дуба, творящего мир) сочетаются с мотивами русской былины (образ Садко) и с библейскими мотивами: калевальский сюжет о сотворении мира соотносится в подтексте с началом Новой истории, о чем свидетельствует упоминание Назарета, где жил юный Иисус, образ былинного богатыря Садко соотносится с образом ветхозаветного героя Немврода. Если говорить кратко, то Клюев рисует в центре Вселенной пылающий дуб — Россию с ее песнотворцем Садко, песню которого слушает весь мир. Поскольку мы об этом подробно писали, то отсылаем читателей к статье «Калевальские мотивы в поэме Николая Клюева “Песнь Солнценосца”» [6].
Образ «Пылающего кита» упоминается в «Песни…» и получает дальнейшее развитие в поэме «Медный кит». Он заявлен в названии и в финале произведения:
Прости, Кострома, в душегрейке шептухи! За бурей «прости», словно саван, шуршит. Нас вывезет к солнцу во Славе и Духе Наядообразный, пылающий кит ( 1999 , 395).
В мифологической картине мира многих народов кит является тем чудесным животным, на котором стоит земля. Он, собственно, и сам (согласно мифологическому закону тождества) может быть уподоблен земле (острову в море-океане), что наглядно продемонстрировано в сказке П. П. Ершова «Конёк-горбунок».
Поперек его (моря-океана. — Е. М .) лежит Чудо-юдо рыба кит.
Все бока его изрыты,
Частоколы в рёбра вбиты, На хвосте сыр-бор шумит, На спине село стоит:
Мужички по гýбе пашут,
Между глаз мальчишки пляшут, А в дубраве, меж усов, Ищут девушки грибов 3 .
По-своему интерпретирует эту мифологему в присловии к сборнику автор. Услышав «потаенный … пурговой звон народного песенного слова, — подспудного, мужицкого стиха», он решил донести до читателей «этот звон — отплески Медного Кита, на котором, по древней лопарской сказке, стоит Всемирная Песня» ( 2003 , 419).
Что касается критики того времени, то она узрела в авторе ветхозаветного пророка Иону, проведшего 3 дня и 3 ночи в брюхе кита, и нашла, что новоявленный пророк «отстал от жизни ровно на 30 столетий… и тщетно силится уберечь от всеразрушающей революции свой древний Китеж-град, свое христианское миропонимание» [3, 23].
Не разделяя взгляд рецензента на поэму, не можем не согласиться с тем, что в числе источников поэмы значимую роль играет названный библейский текст. Действительно, поэт не отказался от своего христианского миропонимания и поэтому видит в революции как всесокрушающую, так и всесозидающую силу. Не случайно в первой строфе поэмы описывается прекрасный город будущего — своеобразный аналог града Китежа. Поскольку для поэта пространство Китежа соотносится не только с границами этого легендарного града, а включает в свою зону все священные локусы Руси, то не удивительно, что здесь в этом качестве выступает Арахлин-град, известный по житию и духовному стиху «Чудо Георгия о змии».
Языческий город, жители которого не погнушались отдать прекрасную девушку в жертву Змию, обрел спасение, приняв христианство. Аналогия понятна: пройдя через очистительный огонь революции — «победив Змия», страна будет спасена — вновь станет Святой Русью.
Объявится Арахлин-град.
Украшенный ясписом и сардисом, Станет подорожник кипарисом, И кукуший лен обернется в сад ( 1999 , 392).
У Клюева в поэзии первых революционных лет происходит постоянное «собирание истории» (священной, русской, мировой) и «стяжение» пространства. Так, в поэме «Медный кит» упоминаются византийские святые Георгий Победоносец и Николай Чудотворец и русский святой Серафим Саровский, деятели русской истории (Княгиня Ольга, Малюта Скуратов). Все они вписываются в контекст современной действительности, порождающей новое историческое бытие. В ряду созидателей культуры называются Аввакум и Рублев, Есенин и Чапыгин. На клюевской карте обозначены Гималаи и Тихий океан, Карфаген и Царьград, Калуга и Великий Устюг, Почаев и Петроград. В его произведениях происходит предельная материализация символов различных культур, ибо они, символы, для него также реальны, как изба и печь. Последние, несмотря на свои сугубо утилитарные функции, имеют в поэзии Клюева сакральный статус, о чем писали еще его первые критики и исследователи [9, 547–548, 551–552, 555–562].
Весь этот причудливый мир созидает новое в неустанной борьбе со своими противниками. Не стремясь воспроизвести каждую эпоху, поэт включает конкретно исторические знаки и универсальные фольклорно-мифологические и библейские символы в единый контекст, в котором сюжет о сотворении мира является доминирующим.
По словам Н. А. Криничной, «поскольку творение Вселенной в народных верованиях связано с изначальными мировыми водами, то в качестве демиургов выступают прежде всего водоплавающие птицы, либо мифологические антропо-морфизированные персонажи, которые сохраняют за собой в той или иной мере орнитоморфные признаки» [5, 19]. Зачастую в акте творения принимают участие две птицы.
«В севернорусской, как и в общерусской, мифологии демиурги, находящиеся в состоянии единства и противодействия, не только преодолевают рамки “птичьей” космогонии, но и христианизируются. В дуальной модели мифов место птиц-демиургов занимает другая пара противопоставленных творцов-антиподов — Господь и Сатана/Сатанаил [5, 21].
В клюевском потаенном мире, где из глубин мирового океана будто всплывает обновленная страна, безусловно, в роли творца выступает сам Господь («Радужный всадник и конь в серебре»; «Вселюбящий») и его крылатое воинство, которое олицетворяет «рота серафимов».
В отличие от фольклорно-мифологических текстов у Клюева слуги Сатаны утратили орнитоморфные признаки. Ранее он писал:
Не верьте, что бесы крылаты.
У них, как у рыбы, пузырь, Им любы глухие закаты И моря полночная ширь.
Они за ладьею — акулой Прожорливым спрутом живут, Утесов подводные скулы — Геенскому духу приют ( 1999 , 291).
И в его поэме действуют бесы-акулы, пытаясь уничтожить христианскую церковь: «…В потире (священном сосуде. — Е. М .) ныряют акулы…» ( 1999 , 394). В паре с ними выступают вши: «На Божьей косице стоногая вошь … Завшивело солнце, и яростно чешет затылок луна!..» ( 1999 , 394).
Клюев тогда был убежден, что не в храмах, где служат представители официальной церкви, не в среде атеистов, а в Красных Казармах дозреет «Адамотворящий, космический час», и тогда народится подлинно христианский изограф.
И новый Рублёв — океаны — палитра,
Над Ликом возводит стоярусный круг… ( 1999 , 395)
Час этот близок, ибо «По горним поселкам, крылатою ротой / Спешат серафимы в святой Петроград». В определении города заложен глубокий смысл: это и град священный (здесь разворачивается главная битва за Святую Русь), и город святого Петра — «камня» (согласно значению имени), легшего в основу христианской церкви.
Серафимы спешат на Марсово поле, где правят обедню по убиенным.
На Марсовом поле сегодня обедня
На тысяче красных живых просфорах, Матросская песня канонов победней И брезжат лампадки в рабочих штыках ( 1999 , 295).
Полем битвы в произведении являются не только сражения на фронтах Гражданской войны, но и схватки между представителями старой и новой культуры. Клюев не стоял в ряду тех, кто не принял революцию и отрицал все новое, но и не пошел за теми, кто призывал: «Во имя прекрасного Завтра сожжем Рафаэля». На свой лад он попытался соединить прошлое и настоящее — создать «крестьянскую красную культуру», которая, подобно христианской культуре, отвергшей язычество и в то же время оплодотворенной им, правя сегодня поминки по старой России, завтра вспомнит, что ведет в новый мир «тропа лапотная». Сегодня она говорит: «Прости, Кострома!..», — имея в виду не название города, а восточнославянское воплощение плодородия. Провожая весну, хоронили Кострому, т. е. сжигали с обрядовым плачем и смехом ее антропоморфное чучело. Но брошенное в землю семя взрастало колосом, появлялись новые семена и воскресала Кострома.
В финальной строфе поэт объединил образцы Костромы и кита, что логично для славянской мифологии, где с образом последнего связаны и апокалиптические представления. Так, в «Голубиной книге» сказано: «Когда кит-рыба потронется, / Тогда мать-земля всколебается, / Тогда белый свет наш кончится…» [1, 85].
Действительно, символы старого мира загублены, посрамлены: «Оторвался Девеевский гарус, / Увял Серафима Сарóвского крин». Но противникам христианства мало уничтожить великие православные святыни, они стремятся, что еще страшнее, обратить их в антихристовы (бесовские).
Всепетая Матерь сбежала с иконы, Чтоб вьюгой на Марсовом поле рыдать, И с псковской Ольгой, за желтые боны, Усатым мадьярам себя продавать.
О горе! Микола и светлый Егорий
С поличным попались: отмычка и нож… Смердят облака, прокаженные зори, На Божьей косице стоногая вошь ( 1999 , 394).
«5 апреля (23 марта) 1917 года здесь в братских могилах похоронены 180 человек, павших в вооруженной борьбе во время Февральской революции, в 1918–1919 годах — участники Гражданской войны». Поэтому в 1918 году Поле Марсово называлось Площадь жертв Революции ( 1999 , 896).
По Клюеву, это подвижники веры, пострадавшие за воскрешение Святой Руси. Не случайно в поэме присутствует пасхальная символика. Революция воспринимается как сваха, «принесшая дар — в кумачном платочке яичко и свечка». Здесь яйцо как строительный материал воскресшей из мертвых страны. И яйцо, и большой дуб, и моря-океаны представляют собой символический ряд сюжетов о сотворении мира. Огненный («медный», «пылающий») цвет указывает на то, что этот образ входит в сакральную систему символов. Этот цвет характеризовал персонажей, выполняющих в фольклорномифологических текстах функции посредников между миром живых и мертвых [8, 176]. В числе их чудесные птицы и животные: жар-птица, конь-огонь и др. В поэме «медный», «пылающий» кит стоит в ряду сакральных символов, ибо он знаменует как конец света, так и рождение нового, являясь его «строительной» жертвой, его фундаментом, на котором будет возведен Арахлин-град.
Эпитет «наядообразный» указывает на конкретную архитектурную символику Петрограда и на то, что он является элементом античного «гнезда» поэмы (см.: «Изба — Карфаген»; Марсово поле). В то же время выбор эпитета означает женскую ипостась кита (в «Голубиной книге» кит является мати-ры-бой) — материнскую, порождающую, что подтверждает предпоследняя строфа поэмы:
Матросы, матросы, матросы, матросы — Соленое слово, в нем глубь и коралл;
Мы родим моря, золотые утесы,
Где гаги — слова для ловцов-Калевал ( 1999 , 395).
Образы ловцов-Калевал отсылают нас к известному эпосу, воссозданному Элиасом Лённротом на основе карельских и ингерманландских эпических песен (рун). Текст стал жанровым ориентиром для Клюева-эпика.
«Калевала», как известно, начинается с сотворения мира. Дева Воздуха Ильматар, забеременев от ветра и воды, становится матерью воды, поэтому на ее долю выпадает сотворение мысов и заливов, берега, глубин и отмелей в море (руна первая). В поэме Клюева в этой роли, как ни парадоксально, выступает народ. Он не только сотворил моря, а его погибшие матросы и в ином мире работают на строительство новой жизни. Подобно сынам Калевы, они являются ловцами «птиц-слов».
Калевальский след в этой поэме, как и в «Песни Солнце-носца», не случаен. Напомним, что за два года до революции, в 1915 году, вышло второе издание «Калевалы» в переводе Л. Бельского, которое не могло не отозваться в художественном сознании Серебряного века, грезившего о создании «всенародного мифа». Этот «миф» творил и Н. Клюев, синтезируя великие мировые идеи и образы.
«Медный кит» корреспондирует также с руной семнадцатой, где Вяйнямёйнен, чтобы изготовить лодку, отправился к Антеро Випунену. Это оказалось далеко не простым делом, так как заклинатель-песнопевец заглотил героя. Тот, не растерявшись, устроил во чреве старика кузню. Випунен, измученный тем, что ему «до рта доходит уголь, / К языку <…> жар подходит / Раскаленного железа», исторг из своего чрева героя, предварительно одарив его «скрытым заклятьем / И словом из тайной глуби».
Библейской параллелью Випунену является кит. В Ветхом Завете его жертвой становится Иона. Вняв мольбам пророка, Бог приказывает рыбе через три дня низвергнуть его. Иона же, пройдя через смерть/воскрешение, идет по предначертанному пути и доносит до народа предсказания.
Ветхозаветное событие изображено на саркофагах ранних христиан, ибо для них оно стало символом перехода из жизни земной в жизнь вечную: так был истолкован ответ Христа на просьбу фарисеев показать знамение4. Иисус же знает только знамение пророка Ионы, ибо тот «был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12:39–40). Так и русские герои, пав жертвой во имя революционных идеалов, воскреснут в песнях и делах новой России.
Поэт верует, что в революции осуществится вековая народная мечта. Однако, по его убеждению, Новое время не родит что-то совсем новое, неведомое, оно родит возвращенный вековым опытом плод, поэтому он и обращается к вечному материалу. Создавая, например, образ планеты в поэмах, он видит, что ее основание есть медный кит, ее свод — три солнца. Соединяет их мировое древо. Им могут быть три дуба, но им может стать сама изба, ибо она стоит у Клюева в центре мира. Напомним, что в «Белой повести» появление в избе Бледного Коня влечет ряд превращений: «…печка в чертог обратилась… / Конь лавку копытом задел, / И дерево стало дорогой, / Путем меж алмазных полей…» ( 1999 , 306) — т. е. путем в иной мир. Каждый предмет в избе выполняет функции связующего звена между мирами (т. е. может быть и мировым древом, той вертикалью, что соединяет землю с небом).
Итак, в поэме «Медный кит» произошла трансформация древнейшего космогонического мира об изначальных водах благодаря контаминации этого сюжета с калевальскими и ветхозаветными мотивами, образами духовного стиха о «Чудо Георгия о Змии» и отсылками к современной литературной полемике. Таким образом, «Медный кит» становится для поэта олицетворением России, проходящей через испытание огнем революции и творящей новую реальность.
Тем не менее, мифологическая картина мира в творчестве Клюева не означает, что поэту были неизвестны современные теории о возникновении Вселенной. В его стихах и поэмах упоминаются имена многих ученых и изобретателей. Так, в поэме «Медный кит», как мы ранее отмечали, назван американский изобретатель и промышленник Эдисон, известный своими работами в области электротехники. Но он для поэта значим, поскольку является только одним из звеньев живой жизни во Вселенной, ибо и его мозг «унавозил в веках поросенок» во времена, когда Землю древний человек называл своей Матерью. Для Клюева мифологемы были не метафорой,
Трансформация сюжета о сотворении мира в поэме Николая Клюева… 195 не фигурой речи, необходимыми поэту для эмоционального воздействия на читателей, а живым знанием, нитями, связующими прошлое и настоящее. Таким образом, познание смысла потаенного (фантастического) мира клюевского малого эпоса означает приобщение читателя к коллективной памяти.
Это знание ни в коем случае не умаляет очарования фантастическими образами поэмы, всей ее причудливой ткани, апеллирующими к эстетическому восприятию человека.
«Пылающие», солнечные («И Спас ярославский на солнечном»), радужные, кумачовые («И с девушкой пляшет Кумач-невый Спас») и золотые образы находятся в постоянном движении, чтобы найти свое место в постоянно меняющейся, развивающейся Вселенной, и создают поразительный лик революционной эпохи с ее ложными идеями, мучительными страстями и великими надеждами.
TRANSFORMATION OF THE PLOT
ABOUT CREATION OF THE WORLD
IN NIKOLAY KLYUEV’S POEM
Список литературы Трансформация сюжета о сотворении мира в поэме Николая Клюева "Медный кит"
- Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: в 3 т. -М.: Современный писатель, 1995. -Т. 2. -400 с.
- Белый А. Песнь Солнценосца//Скифы. Альманах. -1918. -Вып. II. -С. 8-10.
- Б (Бессалько П.). «Медный Кит» Николая Клюева//Грядущее. -1919. -№ 1. -С. 2.
- Иванов-Разумник (Иванов Р. В.). Поэты и революция//Скифы. Альманах. -1918. -Вып. II. -С. 1-7.
- Криничная Н. А. Мифология воды и водоемов. Былички, бывальщины, поверья, космогонические и этиологические рассказы Русского Севера. -Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2014. -390 с.
- Маркова Е. И. Калевальские мотивы в поэме Николая Клюева «Песнь Солнценосца»//Труды Карельского научного центра РАН. Гуманитарные исследования. -2014. -№ 3. -С. 108-113.
- Неёлов Е. М. Фольклорная волшебная сказка и научная фантастика (анализ художеств. текста): Учеб. пособие. -Петрозаводск: ПГУ, 1986. -104 с.
- Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. -369 с.
- Филиппов Б. А. Варианты, разночтения, примечания//Н. Клюев. Сочинения: в 2 т. -Мюнхен: A. Neimanis Buchvertrieb und Verlag, 1969. -Т. 1. -С. 507-570.
- Ханютин Ю. М. Реальность фантастического мира. -М.: Искусство, 1977. -305 с.