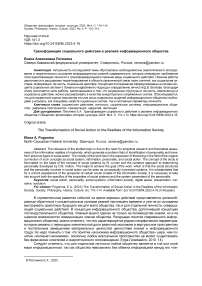Трансформация социального действия в реалиях информационного общества
Автор: Погонина Елена Алексеевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
Актуальность исследуемой темы обусловлена необходимостью аналитического исследования и теоретического осознания информационных реалий современности, которые генерируют проблемное поле идентификации личности и трансформирующиеся прежние виды социального действия. Новизна работы заключается в расширении теоретизирования в области органической связи таких понятий, как социальная система, информация, личность, социальное действие. Концепция исследования сформулирована на основе концепта социальных систем Н. Лумана и нарративного подхода к определению личности Д.Б. Волкова. Благодаря этому достигается цель работы, заключающаяся в том, что социальные структуры и личность, вовлечённую в социальное действие, можно рассматривать в качестве концептуально сопряженных систем. Обосновывается, что для корректной оценки перспектив тех или иных социальных моделей информационного общества необходимо учитывать, как специфику свойств социальных систем, так и системные параметры личности.
Социальное действие, личность, социальные системы, информационное общество, цифровое пространство, презентация, нарратив, эволюция
Короткий адрес: https://sciup.org/149142495
IDR: 149142495 | УДК: 141.3 | DOI: 10.24158/fik.2023.4.16
Текст научной статьи Трансформация социального действия в реалиях информационного общества
В стремительном развитии событий на арене мировых действий представляется целесообразным обратиться к концептуальным основам реалий настоящего времени и уже на их основании выстраивать ориентиры будущего как для всего общества, так и для отдельной личности, совершающей социальные действия. В концепции информационного общества, дополнившей концепцию постиндустриального общества, главный акцент сделан не только на производстве знаний, но и на широких возможностях коммуникации членов общества. Раскрывая понятие современного информационного общества, можно отметить, что оно характеризуется рядом специфических параметров, которые связаны с переходом значительной доли реальной экономики в виртуальное пространство и постепенным замещением материальных ценностей ценностями знания и информационного труда. Но надо помнить о том, что понятие «экономика информационного общества» шире, чем понятие «интернет-экономика», поскольку любое виртуальное пространство не может существовать без физических носителей и энергетического сопровождения (Грум-Гржимайло, 2010: 14).
Следует отметить, что для отдельной личности любое общество является в той или иной мере информационным, так как общество невозможно без обмена информацией между его чле-
нами. Но в информационную эру характер такого обмена кардинально изменяется. Традиционные точечные языковые коммуникации «здесь и сейчас» в информационном обществе становятся независимыми от территориального фактора «здесь» и от временного «сейчас». В современных социальных сетях они приобретают характер мегакоммуникации. Другим важным аспектом информационного общества для личности является возможность мгновенного доступа к знаниям разнообразного порядка, которые непрерывным потоком заполняют цифровую реальность. Феномен информационного взрыва, состоящий в постоянном увеличении скорости роста информационных массивов, генерирует потенциальное дискуссионное поле для последующей актуализации всевозможных коммуникаций (Игнатьев, 2018). Как отмечает М.Г. Шишаев, «современный человек за месяц получает и обрабатывает столько же информации, сколько человек XVII века – за всю жизнь» (Шишаев, 2015: 33).
Таким образом, мегакоммуникация, независимая от времени и пространства, и мегаинформация по заданному поисковому запросу – это основные бонусы современного информационного общества для личности.
Социальное действие в его классическом понимании означает мысленную или реальную направленность на другого. Традиционные типажи социального действия, связанного: с постановкой рациональной цели – по М. Веберу (2016), с коммуникацией договаривающихся сторон – по Ю. Хабермасу (2022), или с креативом – по Х. Йоасу (2005), происходят в информационную эпоху большей частью в электронном, или цифровом, пространстве. Это искусственное пространство, где заглянуть в глаза собеседнику не всегда возможно. Более того, в данном пространстве нет гарантии того, что за цифровым образом скрывается заявленный оппонент. Проблема дипфэй-ков, связанная с генерированием недостоверных новостей и замены реальных медийных персон на искусственный облик пока не получила своего разрешения (Гизатуллин, 2020). Возможность создания разнообразных аккаунтов есть и у любого рядового пользователя сети. Таким образом, мы можем отметить еще один важный аспект информационной эпохи для личности – это возможность создания мультиличности. Заметим, что утрата личностной идентичности и анонимность автора расширяют коммуникативные потенциалы, но вместе с тем создают проблему достоверности.
Подводя промежуточный итог рассуждения, можно сказать, что для личности трансформация социального действия заключается в том, что в информационном обществе оно имеет дополненную к физической реальности реальность виртуальную, цифровую. То есть трансформация понятия социального действия обусловлена трансформацией социальной реальности, которая в современном мире представлена двумя связанными системами – физической и цифровой. Для личности социальное действие становится не только мысленным или физическим актом, оно может быть оцифрованным, и реализуется нажатием кнопок на электронном устройстве.
Применяя системный подход Н. Лумана, мы можем соотнести феномен цифровизации с эволюцией социальной системы. В теории Н. Лумана (2021) системы выступают не как предметные образования аристотелевского типа, состоящие из материи и формы, а как процессуальные и операционные структуры, имеющие целью стабилизацию системы с перспективами её эволюции. Поэтому форма системы – это не нечто физически неизменное, а условие возникновения времени и действия, в которых должен совершиться новый акт – это акт пересечения границ систем (Назар-чук, 2012: 42–43). Система и окружение – две стороны формы. Через нестабильные состояния система развивается, то есть качественно изменяется, входя в состояние меньшей энтропии. Развитие системы ведет к растущему уровню сложности, при этом целевая причина растущей сложности – повышение её стабильности. Но стабилизация означает не сохранение достигнутых оснований, а облегченное воспроизводство проблемных решений (Назарчук, 2012: 82).
Рассматривая общество как социальную систему, Луман изменяет подходы к понятию социального действия. На роль элементарного кирпичика социума он ставит не личность, совершающую социальное действие, а коммуникацию. Коммуникацию в свою очередь он определяет как автопоэтическую и автореферентную систему. Социальное действие в такой системе вторично. Коммуникация основывается на бинарном кодировании. По мнению А.В. Назарчука, справедливо критикуя некоторые положения теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса, Н. Луман говорит о том, что причиной коммуникации является не только желание сторон договориться (Назарчук, 2012: 185). Это может быть и возражение, и негация. Сама система устроена так, что для развития ей необходима контингентность. Постоянный выбор коммуникатирующих сознаний между «да» и «нет» создает нужную неопределенность, продуцирует двойную контин-гентность и расширяет тем самым операционное поле системы. Двойная контингентность коммуникации создает условия для развития системы, в которой нет единой истины. Истиной выступает сохранение стабильности и направленность эволюции.
Социальная система, представленная в цифровом пространстве, открывает для личности широкое поле возможного и невозможного. Традиционные виды социального действия в цифровом пространстве изменяют свою специфику. Постановка цели, договор, проявление креативно- сти – все классические типы реального действия в цифровом пространстве прописаны и регламентированы в разнообразных смысловых комбинациях и алгоритмических операциях. Личности остается только совершать выбор готового «пакета услуг» на электронном устройстве. Цифровое пространство связывает физическое и ментальное, а цифровые гаджеты фактически выполняют демонстрационную роль медиума ментальной каузальности.
Рассматривая социальное действие личности в физической реальности, мы можем отметить, что оно жестко персонифицировано и несёт в себе некий смысл. Является ли оно аффективным, по М. Веберу, или драматургическим (действием роли), по Ю. Хабермасу, его так или иначе можно объяснить в рамках целеполагания. В цифровой же реальности действие жестко не персонифицируется, целеполагание может отсутствовать, само действие может совершаться ради действия. Личность может распадаться на отдельные составляющие, которые в рамках цифровой реальности дают этой личности неограниченную свободу без ответственности, что невозможно в физическом пространстве. Цифровая реальность подобна полю не только возможных, но и невозможных смысловых комбинаций. Личность в такой фальсифицированной реальности имеет максимальную свободу проявления и представления. Само социальное действие в цифровом пространстве по сути становится действием представленного, презентируемого.
Феномен презентации личности требует отдельного рассмотрения. Имеет смысл попробовать рассмотреть любые виды социального действия как подвиды единого действия – презентации. В любых реальных и оцифрованных социальных действиях личность выделяет себя из среды, презентирует, представляет. Если рассматривать личность как систему, то презентация выглядит как основное свойство системы – отделение системы от окружения, как актуализация саморефферентности. Личность как система должна сохраняться и эволюционировать. Эволюция систем достигается через вариации, негации, селекции и рестабилизации (Назарчук, 2012: 80–82). Так что можно сказать, что цифровое пространство мегакоммуникации способствует эволюции личности как системы. Н. Луман (2011) предлагает рассматривать индивидуальное сознание как оперативно закрытую психическую систему.
Но определяя личность исключительно как психическую систему, мы сталкиваемся с определёнными трудностями, связанными с телесностью психической системы (Крайнова, 2016: 12–13) Оппонируя Н. Луману, мы должны учитывать еще и то, что психическая система, обладая основными свойствами антиэнтропийных систем, вместе с этим имеет свои отличительные особенности, связанные с феноменом субъективности и интерсубъективности. Воспроизводство индивидуальной системы (личности) и воспроизводство общности (социальной системы) выступают как связные процессы. Без связности индивидуального и общего невозможно действие в социальной системе, основанием которого (направленность на другого) и являются субьект-субьектные отношения. В системной теории для таких отношений нужно придумывать достаточно громоздкие системы интеракции (Луман, 2011, 234–236). Кроме того, определяя личность исключительно как психическую систему, мы не можем разрешить проблему тождества личности. К проблеме тождественности личности на протяжении жизненного пути вплотную примыкает проблема «исчезающего агента», которая не имеет логического разрешения даже в агент-каузальной теории (Mele, 2017). Определяя личность, мы сталкиваемся с вопросами: кто такой «Я», где «Я» находится и как «Я» принимает решения.
Нарративная концепция личности, предложенная Д.Б. Волковым, дает возможность представить ее как единую информационную систему на протяжении жизненного пути. Сторонники нарративного подхода к идентификации личности (А. Маккинтайр, Ч. Тейлор, Д. Деннет, М. Шехт-ман) считают, что личность может быть редуцируема к цельной связной истории, биографическому рассказу (Волков, 2018: 219). Связь событий и действий личности основывается на возможности непротиворечивого включения их в ее биографическую историю, которая распределена во времени посредством эпизодов. Значения и осмысленность поступки приобретают только в контексте нарратива, а вне нарратива действия и рациональной личности не существует. Рациональная личность присутствует в трёх пространственных и одном протяженном временном измерении. Агент, взятый в отдельный момент, – только часть этой протяженной во времени личности. Пердурантизм (агент в отдельный момент – лишь часть протяженной сущности) и нарративная концепция позволяют представить личность как систему, как общность внутреннего измерения, направленную на презентацию во внешнее измерение. Любой нарратив – это презентация (представление), а любая презентация – это нарратив. Следует заметить, что, говоря о нарративной концепции, мы не углубляемся в онтологическую природу личности, мы определяем ее в актуальном, операционном аспекте через социальное действие, которое состоит в том, что личность постоянно создает нарратив, рассказ о себе, представляет себя.
Протяженная личность наиболее полно может презентировать себя в цифровом пространстве. Что такое личность? Это рассказы о ней, это единый системный нарратив. Единство этого нарратива определяется концепцией, на оси которой выплетаются жизненные истории. Единство концептуальных идей у «Я» и «Другого» создают возможности для общности «Мы». В цифровом пространстве личность может обрести черты мультиличности с практически неограниченными возможностями автопоэтического воспроизводства и презентации своей личностной концепции. Объединения «Я», «Другой», «Мы» могут происходить на разнообразных концептуальных основах. Поиск этих оснований сродни поиску оснований собственной природы (Гаспаров, 2018: 183).
Таким образом, социальное действие личности можно свести к презентации концепции данной личности. В цифровом пространстве личность может практиковать различные концептуальные основания, которые невозможны для неё в реальной жизни. Но в связи с тем, что цифровое пространство существует на основе физического, личности приходится сопрягать свои онтологические концепции с реалиями физического социального мира. В современном мире все видимое многообразие социальной системы сводится к двум концептуальным основаниям – традиционному и неолиберальному. Бинарность выбора будущего в социальной системе определяется стремлением либо к многополярному миру, либо к культурно унифицированному однополюсному миру. В результате выбора социальная система может эволюционно усложниться или прийти в состояние маргинализации. Неолиберальное отрицание традиционных культурных ценностных основ приводит к расчеловечиванию (Пашкова, Куземина, 2023: 39). В настоящее время социальная система находится в острой фазе конфликта двух концептуальных оснований, что соответствует проблемным актуализациям вида общности «Мы».
Таким образом, раскрывая процесс трансформации социального действия в информационном обществе, мы приходим к выводу о том, что он обусловлен появлением нового цифрового пространства, дающего личности широкие возможности для нарративной презентации не только личностных концептуальных оснований, но и оснований социальной системы. За видимым разнообразием социальных действий обнаруживается единое социальное действие – как личностная презентация, так и презентация «Мы». Наличие острых конфликтных фаз в социальной системе связано с вопросами эволюции системы и личности.
Список литературы Трансформация социального действия в реалиях информационного общества
- Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4 т. / пер. с нем. Л.Г. Ионина. М., 2016-2019. Т. 1. Социология. М., 2016. 445 с.
- Волков Д.Б. Свобода воли. Иллюзия, или возможность. М., 2018. 368 с.
- Гаспаров И.Г. Тождество личности и нарратив // Философский журнал. 2018. T. 11, № 3. С. 180-183. https://doi.org/10.21146/2072-0726-2018-11 -3-180-183.
- Гизатуллин Т.Р. «Дипфэйки» и системы, генерирующие «фальшивые новости» // Россия в мире: проблемы и перспективы развития международного сотрудничества в гуманитарной и социальной сфере: материалы VIII Международной научно-практической конференции. Москва - Пенза, 25-26 июня 2020 г. Пенза, 2020. С. 188-192.
- Грум-Гржимайло Ю.В. Экономика информационного общества: иллюзии и реальность. Ч. 1 // Информационное общество. 2010. № 2. С. 12-20.
- Игнатьев В.И. «Информационный взрыв» эпохи четвертой промышленной революции: социокультурные и антропные трансформации // Четвертая промышленная революция: реалии и современные вызовы. X Санкт-Петербургские социологические чтения: сборник материалов Международной научной конференции. Санкт-Петербург, 13-14 апреля 2018 г. Санкт-Петербург, 2018. С. 45-49.
- Йоас Х. Креативность действия / пер. с нем. СПб., 2005. 320 с.
- Крайнова И.А. Человек и «человеческое» в системной теории Никласа Лумана // Вестник РГГУ. Серия: Философия, социология, искусствоведение. 2016. № 4 (6). С. 9-19.
- Луман Н. Общество общества: в 3 кн. Кн. 1. Общество как социальная система / пер. с нем. А. Антоновского. М., 2011. 640 с.
- Назарчук А.В. Учение Никласа Лумана о коммуникации. М., 2012. 248 с.
- Пашкова Н.В., Куземина Е.Ф. Трансцендирование как духовный потенциал развития личности и общества // Общество: философия, история, культура. 2023. № 2. С. 36-40. https://doi.Org/10.24158/fik.2023.2.5.
- Хабермас Ю. Теория коммуникативной деятельности / пер. с нем. А.К. Судакова. М., 2022. 880 с.
- Шишаев М.Г. Методические основы когнитивных интерфейсов мультипредметных ИС // Труды Кольского научного центра РАН. 2015. № 3 (29). С. 33-42.
- Mele A.R. On Perebooms dissapearing agent argument // Criminal Law and Philosophy. 2017. Vol. 11, № 3. P. 561-574. https://doi.org/10.1007/s11572-015-9374-1.