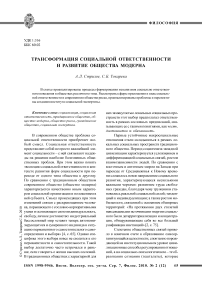Трансформация социальной ответственности и развитие общества модерна
Автор: Стризое А.Л., Токарева С.Б.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализированы процессы формирования механизмов социально ответствен- ного поведения в обществах различного типа. Рассмотрены сферы приложения и виды социаль- ной ответственности в современном обществе риска, проанализированы проблемы и перспекти- вы создания института социальной экспертизы.
Социализация, социальная ответственность, традиционное общество, общество модерна, общество риска, гражданское общество, социальная экспертиза
Короткий адрес: https://sciup.org/14974401
IDR: 14974401 | УДК: 1:316
Текст научной статьи Трансформация социальной ответственности и развитие общества модерна
В современном обществе проблема социальной ответственности приобретает особый смысл. Социальная ответственность представляет собой не просто важнейший элемент социальности – с ней связывают надежды на решение наиболее болезненных общественных проблем. При этом важно понять эволюцию социальной ответственности в контексте развития форм социальности при переходе от одного типа общества к другому. По сравнению с традиционным обществом современное общество (общество модерна) характеризуется качественно иным характером социальной организации и положением в ней субъекта. Смысл происходящих при этом изменений связан с раскрепощением человека, порывающего с сословно-корпоративными узами и осознающего свою индивидуальность, свободу, личное достоинство: индустриальный бессословный мир «ставит теперь автономи-зирующегося и суверенного индивида в ситуацию перманентного самостоятельного самоопределения и выбора» [4, с. 65]. Однако специфика этого выбора вовсе не сводится к его перманентности и самостоятельности. Такой выбор достаточно часто встречался и раньше, если говорить о жизни высших сословий. В традиционных обществах с характерной для них замкнутостью локальных социальных пространств этот выбор предполагал ответственность в рамках сословных предписаний, связывающих ее с такими понятиями, как честь, достоинство и обязанность.
Первые устойчивые макросоциальные отношения стали складываться в рамках локальных социальных пространств традиционного общества. Период социогенеза западной цивилизации характеризуется усложнением и дифференциацией социальных связей, ростом взаимозависимости людей. По сравнению с восточным и античным миром на Западе при переходе от Средневековья к Новому времени сложилось новое направление социального развития, характеризующееся несколькими важными чертами: развитием труда свободных граждан, благодаря чему труженики становились реальной социальной силой; тенденцией к индивидуализации; а также ростом мобильности, связанной с освоением обширных территорий: «На протяжении двух столетий неиссякаемыми источниками энергии социального были детерриториализация и концентрация, обнаруживающие себя во все большей унификации инстанций» [2, с. 75].
Сплетение общественных связей привело в конечном счете к образованию самоорганизующейся целостности, спонтанно порождающей на институциональном уровне цивилизационные способы регулирования отношений, а на социально-психологическом – те образования сознания (гештальты), которые выступают внутренними механизмами регулирования человеческого поведения. В психическом плане социально ответственное, контролируемое поведение стало обеспечиваться особыми элементами структуры личности, интериоризирующими выраженное в социальных установках общественное мнение и превращающими их в собственные установки человека. По сути, произошла глубинная перестройка всего психического аппарата человека. Основные формы (конфигурации, гештальты) человеческого поведения были ориентированы на достижение оптимального равновесия внутри себя и между собой и средой. Так сложилась новая социально-психологическая программа поведения, согласно которой люди должны найти свой собственный путь в жизни и принять на себя личную ответственность за свои действия и мысли. Для этого человек должен был осознавать то, что происходит вокруг него, предвидеть последствия своего собственного поведения и поведения других людей, сопоставлять моменты настоящего с моментами прошлого и будущими событиями.
По мнению представителей гештальт-психологии, в процессе социальной регуляции и саморегуляции человек из всего обилия информации выбирает ту, которая для него в данный момент наиболее важна и значима. Значимое, сконфигурированное в форме целей, чувств, доминирующих потребностей и образов желаемого, оказывается выделенным, в то время как остальная информация превращается в фон. При этом выбор значимой конфигурации определяется взаимоотношениями и конфликтами личности не только с господствующим общественным мнением, но и той частью ее самости, которая репрезентирует это общественное мнение в сознании [6, с. 293]. Роль своеобразного внутреннего «фильтра» выполняют совесть и стыд, и по мере того, как страх нарушения социальных запретов принимает характер стыда, внешнее принуждение превращается в самопринуждение.
Однако для превращения человека в субъекта ответственности этого недостаточно. Необходимо, чтобы этот «порог стыдливости» смещался в определенном направлении, а именно: чтобы самопринуждение и стыд были связаны с заботой о других и об обще- стве в целом. В психологическом плане появлению такой заботы способствует изменение чувствительности к поведению других членов общества, способность людей более дифференцированно воспринимать друг друга.
По мере того как люди все в большей степени оказывались связанными между собой, а общение все менее было связано с опасностью, исходящей от другого человека, рас-ла принудительная сила самоконтроля, заставляющая человека сдерживать проявления агрессии. Одновременно происходила трансформация отдельных влечений и формирование новых гештальтов, направляющих поведение на принятие личной ответственности за свою жизнь. Таким образом, на фоне социального (внешнего) принуждения изменялись поведение и чувства людей, происходила структурная трансформация психики в направлении возрастания силы самоконтроля, формировались новые гештальты и новый габитус – унифицирующее психическое начало, задающее характерный для людей данной социальной группы (эпохи) стиль жизни, порождающее выбор форм поведения (практик), благ, манер и т. п. По мере формирования социально-психологического габитуса социальная действительность все более структурировалась не столько со стороны социальных отношений как объективных структур, сколько со стороны представлений людей об этих отношениях и окружающем мире в целом. Формирование чувства стыда и совести как психологических механизмов сопровождалось подчинением мотивов и влечений социальным требованиям, что выражалось в формировании устойчивых представлений о долге . В новых условиях человек должен был научиться реагировать не столько на открытую угрозу и внешнее насилие, сколько на постоянное и равномерное давление в форме социальных требований, а для этого его психический аппарат должен был приспосабливаться к непрестанному и равномерному регулированию как влечений, так и всех сторон поведения.
Именно тотальная перестройка всей социальной ткани привела к формированию того строения общества, того порядка, который потребовал от человека ответственного поведения, и этому порядку начал подчиняться психологический габитус цивилизованного человека. В ходе формирования цивилизации вырабатывались социальные установки, которые играли роль автоматически работающих программ поведения, и способность к ответственному поведению базировалось не только на сознательном самоконтроле, но и на выработанных привычках. Но в целом чувство ответственности было связано с предусматриваемыми санкциями за вероятные нарушения принятых в обществе образцов поведения, а потому было не инициативным, а принудительным.
Классическая этика с ее ориентацией на совесть, чувство долга отражает, таким образом, не только процесс формирования общественных норм и ценностей, но и особенности социогенного развития аппарата психического самоконтроля, обеспечивающего определенное индивидуальное поведение. Ответственное поведение трактуется в классической этике как поведение человека, который постоянно соотносит свои действия с действиями других людей и социальными нормами и требованиями; утрата самоконтроля влечет за собой безответственность. Классическая этика особенно эффективна для регламентации действий в социальном пространстве с жесткими нормами и предписаниями. Апеллируя к понятиям долга и идеала, связывая ответственность с самоограничением индивидуального эгоизма, она задает строгие правила поведения и требует, чтобы это поведение было предсказуемым.
Более развитые формы социальной ответственности стали складываться при переходе к социальной организации модерна. Некоторые авторы напрямую связывают рождение подлинной социальности с прецедентами проявления социальной ответственности и заботы со стороны общества: «В 1544 г. в Париже открывается первый крупный приют для бедных, который берет на себя ответственность за бродяг, сумасшедших, других больных – всех тех, кто не был интегрирован в ту или иную группу и оказался вне ее в качестве остатка. Это свидетельство рождения социального» [2, с. 81]. Социальность получает развитие как «орган государственного призрения», а в дальнейшем – как система социального обеспечения, охватывающая все более широкие слои общественной жизни. Со вре- менем «социальным остатком» становятся уже целые социальные общности; наконец, когда «остаток» достигает масштабов общества в целом, можно говорить о завершении социализации: «Полностью исключены и полностью взяты на иждивение, полностью разобщены и полностью социализированы абсолютно все» [2, с. 81–82].
Однако, предостерегает Ж. Бодрийяр, это состояние означает фактическую смерть социального. Ибо если социальное сложено из абстрактных инстанций, то «скорее всего, социальное обладает такими характеристиками, что институциями, которые выступают вехами “социального прогресса” (урбанизация, концентрация, производство, труд, медицина, обучение в школе, социальное обеспечение, страхование и т. д.), включая сюда и капитал, являющийся, пожалуй, самым эффективным проводником социализации, оно в одно и то же время и создается, и разрушается» [там же, с. 72]. Деградация социальности есть вырождение ее в массу – «соединенные пустотой индивидуальные частицы, обрывки социального» [там же, с. 8]. Масса не имеет социологической реальности, за ней не стоит никакой социальный референт и никакая реальная субстанция. Глубоко разрушительное поведение масс объясняется тем, что они порабощены стереотипами, не способны к восприятию смысла, не ориентированы на высшие цели и уклоняются от идеалов.
С такими рассуждениями о конце социальности нельзя согласиться. Модернизация, несомненно, сопровождается вытеснением из микросоциальных связей эмоциональной теплоты, доверительности, морализаторского пафоса, однако она не влечет за собой с неизбежностью глобальной утраты смысла на макросоциальном и индивидуальном уровнях. Напротив, она предполагает осмысление ключевых проблем современности и ценностей современного общества, когда автономный, инструментально ориентированный индивид пытается найти свое место в мире и решить жизненно важные проблемы. Сложившееся в период перехода к модерну «гражданское братство» наряду со свободой и равенством предполагает ответственность каждого отдельного члена общества за любого другого и перед любым другим членом сообщества, так или иначе вовлеченным в орбиту общего социального взаимодействия.
В отличие от персонифицированной социальной ответственности и солидарности в рамках сословия, общины, цеха или гильдии здесь имеет место безликая, деперсонифици-рованная гражданская солидарность. В этих условиях меняется масштаб и содержание индивидуального выбора: оставаясь индивидуальным по форме, он все чаще затрагивает жизнь общества в целом, влияет на пути, формы и темпы его изменений. Тот факт, что большинство значимых социальных изменений сегодня является результатом массовидного, коллективно организованного действия, делает тенденцию к социализации ответственности хоть и не тотальной, но необратимой. Можно указать на конкретные социальные процессы, которые привели к переосмыслению содержания и характера социальной ответственности. Один из процессов связан с переходом с экстенсивного на интенсивный путь социального развития. Как отмечают отечественные исследователи, различие между двумя этими стратегиями состоит в принципиально разных моделях организации человеческой деятельности. Если экстенсивная стратегия развития исходит из неограниченности ресурсов развития и построена на их постоянно возрастающем использовании, то интенсивная стратегия базируется на признании конечности ресурсов, необходимости их постоянной экономии и воспроизводства [8, с. 70–71, 74–75]. Стратегия второго типа предполагает такой социальный выбор, при котором субъект ответственен в том числе за бережное отношение к человеческим ресурсам, когда вопрос о социальной цене перемен становится имманентной составляющей человеческой деятельности. Отсюда и постановка вопроса об изменении социальной этики, которая должна предусматривать социальную ответственность субъектов деятельности, как индивидуальных, так и коллективных, в условиях усложняющейся социальной стратификации, неоднородности положения в обществе слоев и групп, их разного доступа к общественным благам и ресурсам [1, с. 9]. В этой связи в современном обществе признана правомерность выделения разных режимов социальной ответственности: от наиболее жес- ткого (уголовно-правового) к относительно мягкому, хотя и формализованному (политическая ответственность), и до темпорально неопределенного и конвенционального по духу (историческая ответственность, предстающая как оценки общественного мнения). Большинство авторов особо выделяют социальную ответственность политических лидеров, политической и управленческой элиты, интеллигенции.
ХХ век знаменовал собой эпоху трансформации социальности в новое состояние, характеризующееся, с одной стороны, большей неустойчивостью, новыми угрозами и вызовами, а с другой – новыми ценностными ориентирами, возможностями и перспективами для социальных субъектов. Не случайно концепт «общество риска», ставший формой осмысления этих общественных изменений, фиксирует не только изменение объективных условий, но и расширение горизонта свободы, рост потенциала субъектного воздействия на социальный порядок, расширение объема и содержания понятия социальной ответственности. Исследователи сходятся во мнении, что риск в рамках этого концепта можно определить как характеристику макросоциаль-ной ситуации, когда субъект, оценивая неопределенность, отмечает и степень грозящей опасности, и вероятность ее избегания, подсознательно (на уровне установки) ориентируясь на последнее. В этом случае мы связываем ответственность не просто с принятием решения в условиях неопределенности, а с реализацией позитивного ценностного выбора с широким спектром социальных последствий.
Сложность такого выбора, по нашему мнению, обусловлена рядом обстоятельств. Прежде всего, наряду с индивидом субъектом выбора здесь является социальная общность (группа, коллектив, организация). Недостаточность индивидуальной ответственности при решении проблем социального управления обусловлена сложностью, предельной качественной разнородностью, масштабностью проблем современного общества, необходимостью длительного и интенсивного воздействия на социум. Индивидуальная ответственность в обществе риска приобретает все более выраженный конвенциональный харак- тер, сопрягаясь с мнением ближайшего социального окружения и представителей социальных институтов [6, с. 123]. Известно, что социализация ответственности, когда она возлагается на социальные институты, оказывает на индивида противоречивое воздействие: придавая ему, с одной стороны, чувство защищенности и уверенности в себе, она, с другой, притупляет чувство опасности, ослабляет реализм оценки ситуаций риска, снижает критичность мышления и личную ответственность.
Представляется, что комплексный, всесторонний подход к принятию решений в обществе риска достижим лишь при апелляции к коллективному социальному опыту, учете различных социальных позиций, дискурсов, точек зрения в рамках определенной социальной общности. Апелляция коллективного субъекта ответственности к своему сознанию, опыту и ответственности обусловлена, на наш взгляд, еще и ценностно позитивной, конструктивной векторной направленностью его стратегии управления риском: достижение и закрепление в социальной практике идеалов общественного блага невозможно без коллективной организации, массовых дисциплинарных усилий, формирования новых традиций.
Решения, принимаемые в обществе риска, не сводятся к выработке сугубо теоретической точки зрения или набора практически эффективных рецептов. Они все чаще представляют собой крупномасштабный социальный проект, объединяющий в себе теоретический конструкт, трансформированный в социальную технологию, в стратегию и тактику действия, совокупным результатом которых выступают социальные практики и институты. Понятно, что социальная ответственность за разработку и реализацию такого рода проектов соединяет в себе разные формы и режимы ответственности: этическую, политическую, правовую, гражданскую. Не менее значимые изменения происходят и в структуре самой ответственности как процессе принятия на себя бремени возможных последствий своих действий. Традиционно главным компонентом такого принятия считался практически-деятельностный: ответственность (как правило, закрепленная в праве) за уже совершенные действия. Реалии современного общества риска ставят вопрос о превращении когнитивного компонента социальной ответственности в системообразующий. Упреждающий анализ, предварительное моделирование ситуации и возможных последствий ее развития не просто технологически необходимы для принятия современных социальных решений – они экзистенциально необходимы, поскольку, раскрывая причастным к ним социальным общностям и организациям смысл того или иного выбора, обнажают меру связанной с ним социальной ответственности. Опережающее осознание возможной ответственности организаторов современных социальных проектов важно еще и потому, что в реальности им приходится отвечать не только за свои действия, но также и за действия своих подчиненных, непосредственных исполнителей проекта и даже тех, кто волею обстоятельств оказался втянутым в него.
По сути дела, речь идет о создании современных форм гуманитарной экспертизы различных социальных проектов, служащей воплощением социальной ответственности и легитимирующей тем самым важные для общества решения элиты или ее отдельных профессиональных представителей. Одной из протоформ такой экспертизы в обществе модерна стал суд присяжных, который воплотил в себе не только идею общественного контроля за действиями судебной власти, но и осуществлял гуманитарную (общечеловеческую и общегражданскую) оценку некоторых базисных обстоятельств, на основе которых предстояло принять судебное решение. Тем самым общество через своих представителей разделяло с профессиональными судьями ответственность за приговор. Исторический опыт доказал необходимость и позитивную социальную роль суда присяжных, а также региональных общественных палат, призванных представлять интересы рядовых граждан и их ассоциаций в процессе законодательной и административноуправленческой деятельности, что, по нашему мнению, является важнейшим аргументом в пользу скорейшего введения и распространения новых форм социально-гуманитарной экспертизы значимых для общества решений.
Обосновывая актуальность гуманитарной экспертизы, Б.Г. Юдин указывает ключе- вые проблемы становления института общественной экспертизы в целом: формирование корпуса экспертов и требования к ним; характер и глубина предоставляемой экспертам специальной информации; круг проблем, нуждающихся в гуманитарной экспертизе [7]. Не менее сложной является проблема социальной зрелости субъекта экспертной оценки и ответственности. Ее решение предполагает учет не только ценностно-идеологического стандарта, но и социокультурных особенностей конкретного общества, его психологического климата. Важно подчеркнуть, что социальная зрелость эксперта не тождественна уникальному жизненному опыту, критичности мышления и иным уникальным личностным качествам. Как отмечает Б.Г. Юдин, «во многих случаях именно для гуманитарной экспертизы первостепенное значение имеет способность эксперта адекватно выразить интересы, надежды и опасения... “рядового обывателя”» [там же, с. 151]. Эта способность тесно связана с тем, что можно назвать социальной интуицией и что Ч. Миллс называл «социологическим воображением»: со способностью оценить типичность, массовидность того или иного частного мнения или действия. Лишь при этих условиях субъект получает возможность стать субъектом общественной морали, а значит, и возможность наиболее полно осмыслить социальную ответственность. «Общественная мораль, – пишет Р.Г. Апресян, – мыслит “статистически”, “количествами”. Именно в контексте общественной морали оказывается актуальным критерий большинства, который предусматривается и утилитаристским принципом “наибольшего счастья наибольшего числа людей”» [1, с. 15]. Однако помимо соответствующих индивидуальных характеристик и способностей важна также и репрезентативность всей коллегии, принимающей решение, всего сообщества экспертов. Лишь в этом случае ответственность, взятая на себя представителями общественности, будет признаваться и разделяться большинством граждан.
Например, обсуждение круга вопросов, выносимых на рассмотрение присяжных, а также форм и способов их ознакомления с материалами дела показало, что их выбор диктовался, с одной стороны, спецификой пра- ва, способом отражения в нем социальной реальности, с другой – тем, как содержание правовых коллизий переводилось на доступный для непрофессионалов язык, согласовывалось со здравым смыслом и социальным опытом человека. Оба эти момента взаимосвязаны между собой, поскольку очевидно, что эффект внушающего воздействия профессиональных разъяснений судьи был тем больше, чем явственнее для сознания присяжных оказывалась их связь с повседневностью, реалиями жизненного мира. Все это в совокупности и определяло ощущение информационной свободы, а вместе с ней – характер осознания присяжными их социальной ответственности. Этот же подход может быть применен и к социально-гуманитарной экспертизе: хотя ее содержание и проблемное поле задаются профессиональной сферой деятельности, используемым ею способом культурного кодирования реальности, в них, тем не менее, можно выделить инвариантные элементы. Традиционно особым объектом внимания и оценок здравого смысла являлись средства деятельности. Вот и сегодня мы встречаем, в сущности, тот же подход: «Именно технологии – в отличие от изолированных предметов – обладают теми свойствами комплексности и целостности, которые позволяют их рассматривать в качестве объектов при проведении гуманитарной экспертизы» [5, с. 153]. Однако, поскольку в фокусе внимания общественности находится не столько само технологическое, то есть относящееся к сфере сугубо профессиональной, разделение операций и функций, сколько его социально-гуманитарные аспекты и последствия, то в поле экспертизы оказываются вопросы о действующих субъектах, их мотивах и целях, а также о результатах применения технологий и их социальной цене.
Наконец, дискуссии о сфере компетенции суда присяжных фиксировали границы и приоритеты общественной экспертизы судопроизводства, а значит и приоритеты артикуляции и реализации социальной ответственности. Решение вопроса о возможности применения суда присяжных являлось своеобразным индикатором соотношения сил власти и общественности. Оптимальное решение достигалось только тогда, когда воля сверху и дав- ление снизу не сталкивались, а согласовывались, дополняли друг друга. Аналогичным образом складывается ситуация с определением приоритетов в социально-гуманитарной экспертизе: ценностные ориентации общественного мнения здесь сталкиваются с интересами власти и управления, часто далекими от широкого публичного обсуждения социально-значимых решений.
Не входя в рассмотрение частных вопросов такого взаимодействия, остановимся на круге проблем, которые требуют общественной экспертизы и осознания коллективной ответственности за их решение как элитой, так и рядовыми гражданами. Представители научного сообщества, как и ряд общественных объединений, центральное место в круге этих проблем отводят технологическим и экологическим. Не отрицая их важности, мы должны констатировать, что сегодня в современной России, в условиях затянувшегося кризиса и незавершенных реформ, на первый план выходят иные приоритеты, непосредственно связанные с устойчивостью общества и его самосохранением. Среди них три важнейших: финансовая политика (цены, налоги, кредиты, оплата труда); социально-демографическая ситуация и поселенческие проблемы (миграция, политика поддержки семьи, управление отдельными территориями, работа ЖКХ, жилищное строительство); реформа МВД и борьба с преступностью. За ними следует блок социокультурных проблем (работа СМИ, реформы образования и науки, конфессиональные отношения). Часть выделенных нами вопросов – демографические, преступности и экстремизма, сохранения культурной идентичности – сегодня причисляются международным экспертным сообществом к числу глобальных. Таким образом, ответственность за их решение выходит за рамки отдельных обществ, приобретая региональный и планетарный характер.
Уже беглый обзор проблемы социальной ответственности в современном обществе указывает на то, что в ее артикуляции и решении особую роль играет элита, и прежде всего интеллектуальная элита общества, интеллигенция в целом. Социальная ответственность этих слоев связана не только с обладанием ими социальной информацией и научны- ми знаниями об обществе, но и с тем, что современный социум все больше превращается в «общество знания», прогресс которого в значительной мере зависит от эффективности использования информационных ресурсов. Сегодня возрастание ответственности интеллигенции обусловлено также теми изменениями, которые происходят в системах образования и СМИ. Превращение образования в непрерывный процесс, охватывающий большинство возрастных и профессиональных групп, не ограничивает просветительскую роль интеллигенции этапом первичной социализации. Тотальная инфильтрация электронных СМИ в повседневную жизнь рядового гражданина возлагает особую ответственность на информационную элиту.
Что касается современного российского общества, то проблема заключается в неспособности интеллигенции стать субъектом социальной ответственности, выполнить свою роль генератора идей в процессе социальной инновации, стать движущей силой модернизации страны. Эпоха социальных преобразований и потрясений 80–90 годов ХХ века обнажила гражданскую инфантильность, политическую наивность и правовую малограмотность интеллигенции, привела к ее расколу на прирученную властью богему и балансирующее на грани бедности большинство. Меньшинство интеллектуалов, сохранившее гражданское достоинство и профессионализм, в силу информационной изоляции не может оказать существенное влияние на общественное мнение. Неспособность к самоорганизации и организованной защите собственных интересов не позволяет сегодня российской интеллигенции взять на себя бремя ответственности за судьбы образования, науки, культуры, не говоря уже о судьбах всего общества. Можно лишь согласиться с оценкой, согласно которой «нравственный и исторический долг перед собственным народом российской интеллигенцией плохо осмыслен и еще хуже исполнен; она проиграла и проигрывает государственной бюрократии состязание за умы сограждан» [5, с. 53]. Это последнее обстоятельство указывает на неготовность большинства представителей интеллигенции к выполнению экспертной функции, к инициированию широкой общественной дискуссии о гражданской ответственности за принятие социально значимых решений, об участии в их осуществлении.
Позитивное решение проблемы, связанное с осознанием интеллигенцией своего места и роли в современном обществе, возможно лишь в процессе активной коммуникации. Представляется, что ее специфика состоит в переплетении горизонтальной и по природе своей диалогической информационно-образовательной коммуникации с иерархической, вертикальной властно-управленческой коммуникацией. Современная интеллигенция, втянутая в оба эти процесса и выполняющая в них разные роли, приобретает подчас противоречивый социальный опыт. Не вдаваясь в обсуждение вопроса о его влиянии на дифференциацию интеллигенции, отметим обстоятельство, важное для обсуждаемой нами темы: в обоих случаях происходит формирование социальной ответственности. Как показал А.Н. Ермоленко, это, с одной стороны, монологическая, элитарная, построенная на патерналистском «учете интересов» ответственность, с другой – диалогическая, солидарная ответственность, предполагающая консенсус и согласование интересов [3, с. 88–89, 170]. И хотя первая из них связана с меньшей зрелостью субъекта, а вторая с большей, обе формы предполагают реализацию субъектной свободы, апеллируют к идее достижения и сохранения общего блага. Тот факт, что само это благо интерпретируется по-разному – утили-таристки-технократически и коммуникативногуманистически, – отражает нормативно-ценностный плюрализм современного общества, в основе которого лежит действие противоречивых тенденций объективной социальной эволюции. Это позволяет нам предположить, что обе формы социальной ответственности сохранят, хотя и в разной мере, в будущем свое значение, подтверждая тем самым нелинейность нравственного прогресса.
Разумеется, тенденции к самоорганизации и формированию сетевых структур в современном обществе будут расширять сферу функционирования диалогической ответственности. Для России этот процесс имеет особое значение: он непосредственно связан с усилением социальной солидарности и взаи- мопомощи как необходимых условий для пробуждения гражданского самосознания, активности и способности к самоорганизации. Без этого, как представляется, не может быть современного гражданского общества. Здесь нам необходимо вернуться к высказанному ранее тезису: движение от традиционного (сословно-корпоративного) общества к современному (гражданскому) лишь начинается (а не исчерпывается, как многие полагают) конституированием автономного индивида. Можно иметь юридически свободных граждан и даже признанные права человека, но не иметь гражданского общества. Это последнее строится на развитой самоорганизации социальных общностей, основанной на зрелом коллективном самосознании, гражданской инициативе и ответственности. Лишь такая солидарная активность и взаимоподдержка большинства могут противостоять бюрократии государства и крупных корпораций, гарантировать реализацию прав отдельных граждан, позволяет ответственно сотрудничать с властью и самостоятельно решать многообразные социальные проблемы.
Тезис о социальной общности как основе самоорганизации гражданского общества ставит вопросы о природе, характере и роли группового сознания и корпоративной ответственности. Понятно, что далеко не всегда проявления этого сознания конструктивны для общества. Социальная ответственность может принимать форму оправдания собственного привилегированного положения, быть апологией группового эгоизма, корпоративной иерархии, внешней закрытости. Как и все иные проявления группового сознания, ответственность имеет свою векторную направленность. Она определяется характером внутренней стратификации и организации, а также характером консенсуса внутри корпорации: тем, кто именно внутри нее берет на себя инициативу и ответственность в формулировании и выражении общего интереса. Если вертикальная иерархия внутри корпорации исключает мобильность и диалог, а консенсус высших и низших построен на эксплуатации средних, наиболее динамичных и квалифицированных слоев, то в ней формируется социальная ответственность монологичес- кого, патерналистского типа, тяготеющая к закреплению корпоративного неравенства, социальному эгоизму и стагнации. Проблемы общества рассматриваются в этом случае лишь как повод для корпоративного обогащения. Иной вариант корпоративного консенсуса предполагает проницаемость иерархии и корпоративный диалог, продуцирующий согласование интересов корпоративных слоев и соответствующую ему коммуникативную ответственность сотрудничества, нацеленную на развитие. В этом случае корпоративное сознание открыто для диалога с общественностью и готово участвовать в решении макросоциальных проблем на условиях социальной ответственности.
Сложность и противоречивость современного общества, испытывающего на себе воздействие информатизации и глобализации, делают актуальными для человечества вопросы о новых вызовах, о перспективах его самосохранения и вариантах развития. Конструктивные ответы на них нельзя получить, оставаясь на позициях индивидуального или группового эгоизма, без согласования интересов и осознания общей социальной ответственности за настоящее и будущее.