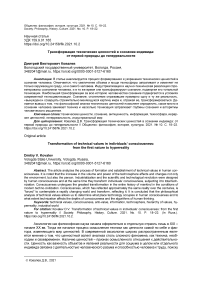Трансформация технических ценностей в сознании индивида: от первой природы до гиперреальности
Автор: Ковалев Дмитрий Викторович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 10, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется процесс формирования и укоренения технических ценностей в сознании человека. Отмечается, что увеличение объема и мощи техносферы затрагивает и изменяет не только окружающую среду, но и самого человека. Индустриализация и научно-техническая революция спроектированы сознанием человека, и в то же время они трансформируют сознание, подвергая его тотальной технизации. Наибольшей трансформации за всю историю человечества сознание подвергается в условиях современной техноцивилизации. Сознание, столетиями отражавшее примерно одну и ту же реальность, «вынуждено» созерцать стремительно меняющуюся картину мира и, отражая ее, трансформироваться. Делается вывод о том, что философский анализ технических ценностей позволяет определить, какое место в сознании человека занимает техника и насколько технизация затрагивает глубины сознания и алгоритмы человеческого мышления.
Технические ценности, сознание, антиценность, информация, техносфера, иерархия ценностей, гиперреальность, индустриальный мир
Короткий адрес: https://sciup.org/149138691
IDR: 149138691 | УДК: 159.9.01:165 | DOI: 10.24158/fik.2021.10.2
Текст научной статьи Трансформация технических ценностей в сознании индивида: от первой природы до гиперреальности
Вологодский государственный университет, Вологда, Россия, ,
,
смыслов, осознанному совершению действий. Ценности - результат оценки предмета человеческим сознанием, но люди склонны переносить свои свойства на предметы. Ценность трансцен-дентна и изменчива, зависит от оценки, меняется с приобретением опыта и новых знаний. Еще в конце ХХ в. Э. Агацци, в ответ на тезис о некоей абсолютной объективности развития современной цивилизации, задавался вопросом, как же существует такая цивилизация, напоминая, что только человек может ставить цели, отстаивать ценности [1, с. 79]. Ценности наполняют культурное пространство, включаясь в процесс конструирования технической реальности. Следовательно, полнота обсуждения вопросов технизации сознания, от технического восприятия до миропонимания, возможна только с учетом ценностных компонентов и в контексте ценностного подхода.
Изначально вопрос о ценности технического поднимался в Античности (Платон, Аристотель и др.), где происходил процесс так называемой десакрализации техники, причем происходило это в рамках философского рождения проблемы ценностей и их иерархии (мудрость как высшее благо у Сократа, счастье - у Эпикура, наслаждение - у Демокрита и т. д.).
В Средние века мыслители, понимавшие высшие ценности как веру, способность к созерцанию, добродетели, видели в технике «...своего рода естественную магию» [2, с. 46]. Для такой системы ценностей характерно отрицание субстанциональности зла (соответственно антиценности в иерархию не входят), а также деление ценностей на высшие и низшие. Религия в ее классическом виде существует и развивается в условиях второй природы, которая изобилует техническими артефактами, но при этом технические ценности не выделяются в отдельную группу, а люди, занимающиеся производством технических артефактов или изобретением, не выделяются в какую-либо привилегированную социальную группу - считается, что это дано свыше.
Эпоха Возрождения переориентировала человека на антропоцентрический принцип миропонимания, что отразилось на техническом мироотношении (мир рассматривается как инструмент, некое подручное средство). Далее культ науки в Новое время стимулировал рост представлений о прогрессе в сфере технологий, трактуя техническое как символ и воплощение прогресса, основу жизнедеятельности цивилизации.
Технические ценности в традиционном обществе как первой, так и второй природы не занимали какой-либо отдельной ступени, но были распределены по всей аксиологической лестнице. Храм как сложный технический артефакт мог занимать верхнюю позицию в ценностной иерархии, мог быть ценным сам по себе, а также имел ценность потому, что был местом встречи человека и божества. Технический артефакт меч представлял своего владельца, мог иметь историю. Обычный производственный или строительный инвентарь также мог «сакрализоваться» и быть привязанным к владельцу. Это позволяет говорить о том, что технические артефакты, как правило, не имели собственного места в аксиологической лестнице, если речь не идет о моменте торга на обезличенном денежном рынке (такие рынки были и в древности). Нужно заметить, что стремление связывать технический артефакт с именами людей, древних богов или событий не исчезло и в наше время (имеется в виду традиция именования улиц, кораблей, торговых центров и т. д.). Нельзя не упомянуть об абстрактных ценностях, не относящихся напрямую к религии, но порожденных мифо-религиозным сознанием народа: «Святая Русь», «Вечный Рим», «Белый царь», «избранный народ» и т. д. Ценность зачастую есть не то, что в наличии, а то, к чему стремится человек. Стремление к таким абстракциям может дать мощный «пассионарно-технический взрыв» - это будет видно позже на примере Германии конца Нового времени или Советской России.
В период Реформации, совпавший с развитием капитализма, ценности второго порядка выходят из подчинения высшим ценностям. Здесь уже заложена возможность для технических ценностей восхождения по аксиологической лестнице, которую несколько позже усилят сенсуализм и утилитаризм. Школа фрейдистов окончательно разрушает постулат о несубстанциональности зла и специализируется именно на умозрении последнего. Мысли об отделении ценностей, в том числе технических, от объекта и субъекта содержатся в работах Г. Риккерта [3, с. 31]. Бытие ценностей здесь вне реальности, но и не на Небе как в религии. Непонятно, где живут и феномены Э. Гуссерля - не сущности бытия и не сущности сознания. Это способствовало трансформации ценностей, породило феномен «этики без морали» (лингвистический строй понятий, суждений, значений). В такой ситуации вновь стал востребован фрейдизм, подразумевающий, как уже отмечалось выше, созерцание субстанционального зла и предполагающий технологии решения проблем. В индустриальный период акцент сместился на вторичные ценности; в период бурного развития капитализма, сопровождаемого острой конкуренцией, и перенапряжения сил при строительстве коммунизма выживаемость обеспечивали техническое превосходство, научно-технический прогресс.
Идеология государств и наука также подстраивались под нужды технизации. Научно-технический комплекс приобрел значение общественного блага, сменив религиозные и абстрактные ценности. На уровне индивидуального сознания еще оставались ценности доиндустриальной эпохи, такие как золотые украшения, приданое, хрусталь и т. д., но уже в послевоенное время их стали вытеснять технические артефакты - автомобили, стиральные машины, холодильники.
В «зрелом» СССР иерархию индустриальных ценностей можно представить следующим образом: общественное благо, совокупность технологий, техносфера, народное хозяйство (ВПК, медицина, образование, тяжелая промышленность, легкая промышленность и др.). Общественное благо сугубо материально и не подразумевает духовных ценностей, доступно только трудящимся (участникам производственной цепочки). Общественное благо и государственная собственность (государство) - одно и то же, поэтому четко не разделялось в сознании. На этой ступени находятся технические ценности, олицетворяющие мощь и достижения государства: космос, заводы-гиганты, ядерное оружие и «мирный атом». В такой системе ценностей отдельной личности нет места, если она не включена в производственный процесс.
Ценностная лестница индустриального периода капиталистических стран выглядит следующим образом. Государство и частная собственность санкционированы как божественной властью, так и коллективным договором. В кайзеровской, а затем и нацистской Германии наблюдался настоящий культ технических ценностей во всех областях человеческой деятельности, прежде всего в военной. Подобное отношение можно было наблюдать и в Японии, где при прямом отсутствии широко декларируемых технических ценностей кодекс чести, обязанность трудиться, уважение к труду, идеология особого пути особого народа вылились в технический рывок. В Британии, а затем в США флот, армия, оружие прямо понимались как символы и одновременно ресурсы могущества. В целом это приводит к культу технического прогресса как самоценности и идеологии материализма, «благословенного свыше». Таким образом, трансцендентные духовные ценности ведущих западных стран, закрепленные в конституционных документах, не помешали им достигнуть впечатляющих результатов во всех областях НТП.
При относительной простоте приведенной иерархии необходимо учитывать, что в ее «капиталистическом варианте» благодаря искусной манипуляции сознанием можно устанавливать бесконечное число связей и трансформировать значение ценностей (как технических, так и нетехнических) нового общества. Кроме того, в этой системе зло субстанционально, антиценности тоже можно занести в иерархию ценностей, противостоящих и угрожающих им.
В этом есть проблема - не всегда можно связать конкретную техническую ценность с высокой абстрактной ценностью. Сам прогресс является критерием оценки ценности: вещь становится ценной, если интересна, т. е. оправдывает ожидания (соответствует плану, проекту). Отчуждение человека от трансцендирующих истин стало следствием не столько объективных закономерностей экономической и научно-технической революции, сколько целенаправленного распространения идеологических установок антиморали [4, с. 54]. Ценность здесь - то, что должно быть, а не то, что есть или было раньше. Такова главная тенденция эволюции ценностей в следующую после индустриальной так называемую информационную эпоху.
Основной критерий оценки предмета как ценности - деньги - сам превратился в ценность, стянув в одномерное пространство все многообразие как духовных, так и материальных ценностей. В постиндустриальном обществе сформировался мир ценностей или царство ценностей, доступ к которым возможен только посредством оплаты. Роль технических ценностей здесь самая наивысшая: технологии оплаты, движение денег, учет и т. д. осуществляются только с помощью высоких технологий и вовлечения в работу неимоверного числа технических средств, связанных между собой. Индивид, не имеющий доступа в Интернет, оказывается фактически вне общества и цивилизации. Техника надежно охраняется и защищена от случайных поломок и преднамеренного вандализма системой охраны и наблюдения. Такую систему тотального контроля, выдаваемую за «помощника», облегчающего жизнь и обеспечивающего безопасность, удалось создать, манипулируя антиценностями.
Мир антиценностей, главной опорой и внутренним источником которого является античеловечность как таковая и ее синтез с некоторыми нейтральными качествами или потребностями человека, так же разнообразен, как и его ценностный мир [5]. Сами же ценности имеют идеальное в себе бытие и зачастую противоречат реальному миру. Техника и «денежное мерило» «снимают» эти противоречия между ценностями и антиценностями, подобно тому, как в мифомыш-лении первой природы снимали противоречия медиаторы. Техника дала возможность создания виртуальных ценностей - феноменов сознания, автономных от события и от познающего сознания (не отражение чего-либо) [6, р. 205]. В мире третьей природы иерархия технических ценностей достаточно проста. Для власти на первом месте стоят информационные ресурсы, способы их обработки и доведения до сознания населения «произведенных» феноменов-ценностей. Для индивида - получение сиюминутного удовольствия или удовлетворение простой потребности путем посыла запроса через Интернет. Между технократией и индивидом нет ни бюрократии, ни политических партий, ни оппозиции - все эти институты вполне заменяют техника и технологии.
В постиндустриальную (информационную) эпоху с ее новым типом культуры и социотехни-ческой реальности - сетевой электронной и информационной культуры повседневности - резко выросла ценность кодов и статуса индивида в цифровой системе, именно от этого фактора зависит доступ к благам техносферы. Пример Китая (с разделением общества на касты/страты в зависимости от набранных баллов, подсчитанных и определенных искусственным интеллектом) показывает, как это возможно в действительности. В этом варианте развития будущего техносфера наблюдает, направляет, надзирает, оценивает и даже судит поведение человека. Можно предположить, что все коллизии и сбои в работе техносферы будут «свалены» на искусственный интеллект. Но каким бы ни стал интеллект будущего, за программой всегда стоит человек, который задает параметры (речь идет не о программисте, который тоже может со временем исчезнуть в данной модели, а о «кукловоде»).
Какова будет иерархия ценностей непривилегированного индивида, чье сознание прошло все стадии технизации? Видимо, главной ценностью станет технология поведения в техносфере, которая, в свою очередь, будет восприниматься как само собой разумеющееся, основная реальность. Ценность представляют не сколько сами технические артефакты, сколько производимые ими феномены. Речь идет о технологии поведения в техносфере третьей природы, а не в обществе, т. к. общество и его «старые» институты стремительно трансформируются. Мораль и нравственность в такой ситуации теряют ценность, поскольку «работают» в обществе и «требуют» свободы выбора и воли. Все это заменяет технология. Как предупреждал Ю. Хабермас, человечество может дойти до такого состояния, что уже более будет не способно осознавать себя в качестве этически свободных и морально равных, ориентирующих на нормы и основные принципы существ [7, с. 51-52]. Сомнительно, что в таком сознании будет формироваться какая-либо система и иерархия ценностей, ибо «клиповое мышление» не склонно к долгому анализу и логике. Религиозная потребность сознания в выходе за пределы материального будет удовлетворяться входящими в сознание соответствующими феноменами. Тогда и прогресс (кроме всего, что связано с прикладными технологиями) в принципе теряет свою ценность, как и другие «сложные» «старые» феномены (государство, право). Новые феномены имеют текучую, странную, бессвязную форму и не поддаются классификации и оценке. Общество живет в мире блип-культуры. Вместо длинных «нитей» идей, связанных друг с другом, основой становятся «блипы» информации: обрывки новостей, объявления, которые не согласуются со схемами [8, с. 33].
Оценка ценности происходит в результате стремления к ней, борьбы. Сознание-технология, функционирующее внутри третьей природы и получающее регулярно порции удовольствий-феноменов, в ценностном смысле одинаково воспринимает посещение церкви и турпоездку (и то и другое полезно). Уже сейчас мало кого смущают термины «человеческий капитал», «человеческие ресурсы», указывающие на сущность человека как на неодушевленную технологию и дающие понять, что у всего и всегда есть собственник, манипулирующий капиталом и пользующийся ресурсами. Есть индивиды, считающие себя или другого ценным ресурсом.
Подобная ситуация для философии не является новой. И. Кант, а затем Л. Витгенштейн считали, что человек может существовать и пытаться осмысливать мир, но аксиологическую иерархию сознание создать не в силах, т. к. все происходящее случайно, оценивание иллюзорно, ценности «географически» расположены по ту сторону бытия (в нашем случае - по другую сторону оцифрованного и поделенного на «касты» человечества) [9, с. 27]. Ф. Ницше, а затем и М. Хайдеггер пришли к выводу, что корень обесценивания ценностей находится в возросшем материально-техническом могуществе человека. Но какого именно человека? Место технических ценностей в сознании обывателя уже описано выше.
Ценности сознания проектировщиков постиндустриального общества можно проследить хотя бы на примере анализа концепции «нулевого роста» Римского клуба (Д. Медоуз, П. Самуэльсон и др.) [10]. Фактически эта концепция объявляет государственную индустрию антиценностью, ратуя за снижение всех макроэкономических показателей, особенно ВВП. Антиценностями являются завышенное потребление, научно-технический прогресс, доступный широкому кругу, рождаемость. Концепция возникла как реакция на кризис капитализма; неудивительно, что финансовый капитал трактуется как антиценность. Всемирное движение за инклюзивный капитализм -логическое продолжение концепции. Финансовый капитал (природа которого сложна и до конца не изучена) должен по замыслу проектировщиков трансформироваться в новую ценность - инклюзивный капитал (имеющий техническую природу), капитал социально-информационных систем, хранящих и обрабатывающих информацию обо всех, манипулирующий стратами и индивидами. Если в рабовладельческом обществе подвергалось отчуждению тело человека, в феодальном обществе объект отчуждения - земля, в капиталистическом - рабочее время и способность к труду, то постиндустриальном обществе объект отчуждения, реализуемого путем тоталь- ной технизации сознания, – сознание индивида [11, с. 90]. Сознание – технология, сформированная матрицей, контролируемая матрицей и не выходящая умозрительно за пределы, дозволенные матрицей, есть главный идеал такого общества. Ключевая ценность постиндустриального (информационного) общества – информация – видимо, будет доступна не всем, а людям, имеющим допуск. Технологии производства (значительно сокращенного в объеме) сакрализуются и принадлежат корпорациям, уходят из ведения государства, из ценности для всех граждан превращаются в эксклюзивную ценность для «избранных». «Старые» институты (государство, гражданское общество, право, армия) из ценности трансформируются в симулякры или демонтируются. При этом для демонтажа или профанации этих институтов используются «старые» ценности. Например, активнейшее участие в движении инклюзивного капитализма принимает Католическая церковь, призывая к аскезе (для сокращения потребления, а следовательно, и производства). Ж. Аттали, говоря о глобальной системе распределения, вспоминает коммунизм и К. Маркса [12, с. 45]. «Традиционные» ценности активно используются для демонтажа гражданского общества и торможения процесса научно-технического прогресса «для всех». Максимум, на что в научно-техническом плане могут рассчитывать «неотрадиционщики», это солнечная батарея и, разумеется, системы слежения и контроля за ними же.
Таким образом, формирование ценностного мира информационного/цифрового общества подходит к стадии завершения, что позволяет, по крайней мере, описать контуры ценностной лестницы будущего. Можно констатировать исчезновение высших ценностных «ступеней» и дезавуирование «классических» ценностных групп гносеологического и этико-эстетического плана. Трансформация базовых (витальных, связанных с комфортом и безопасностью и т. д.) ценностей происходит в направлении их «увязки» с доступом к Интернету. Здесь имеется в виду, что получение информации, необходимой для социальных взаимосвязей, становится не всем либо не всегда доступной операцией, требующей локализации в жилище или пространстве функциональности информационных технологий. Это же можно сказать относительно статусных потребностей (подтвержденный соответствующим кодом, паролем статус индивида в социальных сетях, на сайтах госуслуг и т. п.). Сам процесс жизнедеятельности социального большинства в реалиях «одномерного пространства» представляет собой единый ряд феноменов, произведенных техносферой (работа, отдых, лечение, развлечения), на одном уровне лестницы ценностей. Противостоят (и противопоставляются) этому единству феноменов жизненного мира третьей природы реальные и иллюзорные феномены-угрозы (терроризм, экологический кризис, эпидемии и пр.). Вершину ценностной пирамиды занимает уровень производства феноменов (как ценностей, так и антиценностей), понять устройство и даже факт наличия которого могут только индивиды с инженерной рациональностью мышления. При этом наблюдается тенденция к расколу относительно единого в социальном плане ценностного мира, сформировавшегося в эпоху модерна, на ценности управляемых и ценности манипуляторов.
Список литературы Трансформация технических ценностей в сознании индивида: от первой природы до гиперреальности
- Агацци Э. Моральное измерение науки и техники. М., 1998. 343 с.
- Шитиков М.М. Философия техники. Екатеринбург, 2004. 99 с.
- Риккерт Г. Понятие философии // Логос. 1910. Кн. 1. С. 19-61.
- Тяпин И.Н. Новый тоталитаризм и государство справедливости: неизбежность выбора. М., 2019. 294 с.
- Там же. C. 57.
- Hildebrand D. von. Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis. Wien, 1922. 205 s.
- Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. М., 2002. 144 c.
- Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999. 262 с.
- Баева Л.В. Ценности изменяющегося мира: экзистенциональная аксиология истории. Астрахань, 2004. 278 с.
- The limits to growth. A report to the Club of Rome. N.Y., 1972. 205 p.
- Фромм Э. Иметь или быть. Киев, 1998. 400 с.
- Аттали Ж. Карл Маркс: Мировой дух. М., 2008. 405 с.