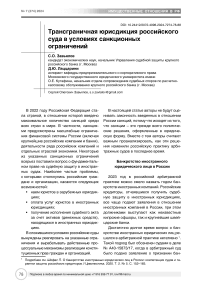Трансграничная юрисдикция российского суда в условиях санкционных ограничений
Автор: Завьялов С.О., Лаццарини Д.Ю.
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Частно-правовые (цивилистические) науки - гражданское право
Статья в выпуске: 7 (274), 2024 года.
Бесплатный доступ
Авторы анализируют развитие российской правоприменительной практики под воздействием внешних санкционных ограничений, в частности, таких механизмов реализации конституционных прав граждан и организаций на доступ к правосудию и защите гражданских прав, как банкротство иностранного юридического лица в России, применение астрента к истребованию доказательств и введение конструкции мнимого собственника в отношении иностранных компаний. Отмечают, что в новейшей судебной практике правоприменитель окончательно преодолел правосубъектность юридического лица посредством реализации принципа «приоритета существа над формой».
Трансграничная юрисдикция российского суда, право на судебную защиту в иностранных судах, банкротство иностранного юридического лица в России, астрент как способ получения истребуемых доказательств, астрент в отношении нерезидента, мнимые собственники в иностранных юрисдикциях
Короткий адрес: https://sciup.org/170207728
IDR: 170207728 | DOI: 10.24412/2072-4098-2024-7274-78-88
Текст научной статьи Трансграничная юрисдикция российского суда в условиях санкционных ограничений
В 2022 году Российская Федерация стала страной, в отношении которой введено максимальное количество санкций среди всех стран в мире. В частности, санкциями предусмотрены масштабные ограничения финансовой системы России (включая крупнейшие российские компании и банки), деятельности ряда российских компаний и отдельных отраслей экономики. Некоторые из указанных санкционных ограничений всерьез поставили вопрос о фундаментальном праве на судебную защиту в иностранных судах. Наиболее частые проблемы, с которыми столкнулись российские граждане и организации, касаются следующих возможностей:
-
• наем юристов в зарубежных юрисдикциях;
-
• оплата услуг юристов в иностранных юрисдикциях;
-
• получение исполнения судебного акта за счет активов (денежных средств), находящихся в иностранных юрисдикциях.
В сложившихся условиях российские суды вынуждены реагировать на указанные ограничения и вырабатывать действенные процессуальные механизмы реализации конституционных прав граждан и организаций.
В настоящей статье авторы не будут оценивать законность введенных в отношении России санкций, потому что исходят из того, что санкции – это прежде всего политические решения, оформленные в юридическую форму. Вместе с тем авторы считают важным проанализировать, как эти решения изменили российскую практику арбитражных судов в последнее время.
Банкротство иностранного юридического лица в России
2023 год в российской арбитражной практике можно смело назвать годом банкротств иностранных компаний. Российские кредиторы, отчаявшиеся получить судебную защиту в иностранных юрисдикциях, все чаще подают заявления в отношении иностранных компаний в России, при этом должниками выступают как неизвестные кипрские офшоры, так и крупнейшие швейцарские банки.
Достаточно долгое время вопрос о банкротстве иностранных юридических лиц решался в арбитражной практике негативно 1. Такой подход был обозначен судами в деле № А40-15873/17, когда в арбитражный суд было подано заявление о признании бан- кротом компании – резидента Республики Кипр с представительством в России. Российский суд прекратил производство по делу, указав, что действие российского законодательства о банкротстве распространяется только на российские юридические лица 2. Основываясь на статье 1202 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) о личном законе юридических лиц, суд пришел к выводу о том, что ликвидация юридического лица (в том числе принудительная) осуществляется в соответствии с правом страны, в которой такое лицо зарегистрировано.
В мае 2022 года Арбитражный суд Челябинской области впервые признал иностранную компанию Pandora consulting LC (дело № А76-31539/2021), зарегистрированную на острове Невис, банкротом в России. В дальнейшем вышестоящие судебные инстанции последовательно подтвердили возможность банкротства иностранного юридического лица в российской юрисдикции.
В деле № А40-248405/2022 о банкротстве Вествок прожект Cудебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отменила судебные акты нижестоящих инстанций, распространив компетенцию российских судов на возбуждение процедуры банкротства, осложненной иностранным элементом, как на стороне должника, так и на стороне кредитора. Направляя дело на новое рассмотрение, Верховный Суд Российской Федерации обратил внимание нижестоящих судов на необходимость установления критериев тесной связи с Россией, среди которых отметил ведение постоянной экономической деятельности на территории России, нахождение центра основных интересов, кредиторов, имущества в России и ориентированность работы на российскую юрисдикцию.
Позитивной оценки заслуживает подробное раскрытие Верховным Судом по- нятий основного и вторичного (локального) производства по делу о банкротстве, определяемого в зависимости от наличия или отсутствия в каждом конкретном случае критериев тесной связи с Россией.
К сожалению, позиция Верховного Суда Российской Федерации не получила дальнейшего развития при новом рассмотрении дела в связи с тем, что компания Вествок полностью погасила долг, и производство по делу было прекращено.
В деле № А40-112325/2023 речь шла о банкротстве кипрской компании Retail Chain Properties Ltd., которая имеет представительство в России и коммерческую недвижимость в Москве. Арбитражный суд города Москвы отказался рассматривать дело и вернул заявление уполномоченного органа. Суд отметил, что представительство кипрской компании в России – это не самостоятельное юридическое лицо, поэтому к нему нельзя применять нормы Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). Апелляционный суд с этим выводом не согласился и обратил внимание на то, что основную деятельность, связанную с арендой и управлением недвижимостью, иностранный должник ведет в России, имеет банковские счета и кредиты в российских банках, является участником ряда российских юридических лиц, а конечные бенефициары и руководитель компании – граждане России. Кроме того, из-за санкций Евросоюза заявитель не смог бы инициировать процедуру на Кипре, поэтому отказ в банкротстве должника на территории России является нарушением права на судебную защиту. «Это нарушило бы права кредитора из-за невозможности поиска имущества компании и взыскания долга», – подчеркнули судьи и вернули спор о признании Retail Chain Properties Ltd. банкротом на новое рассмотрение в первую инстанцию 3.

В это же время в деле № А40-5658/2023 апелляция рассмотрела жалобу по делу о банкротстве другой кипрской компании – Delvenisto Investments Ltd. Но в этот раз жалобу подавала сама фирма. Первая инстанция согласилась с доводами кредитора-заявителя – банка «Траст» и ввела процедуру несостоятельности.
Две компании похожи друг на друга не только связью с «Трастом» – Delvenisto также получала доходы в России, была участником российских юридических лиц и не вела деятельность на Кипре. Еще одним фактором, который повлиял на решение суда, стало сообщение о ликвидации компании Delvenisto Investments Ltd. на Кипре, опубликованное в августе 2022 года.
Интересным является то, что мотивировка судов как в случае введения, так и в случае отказа во введении процедуры банкротства иностранной организации в России, по сути, является идентичной и базируется на позиции Верховного Суда Российской Федерации по делам № 310-ЭС20-3002 от 8 октября 2020 года и № 309-ЭС23-1409 от 21 марта 2023 года.
Наверное, самым резонансным делом о банкротстве иностранного юридического лица в России обещает стать дело о банкротстве швейцарского банка Credit Suisse. И дело даже не в том, что Арбитражный суд города Москвы уже при принятии заявления о признании должника банкротом решил применить при банкротстве швейцарского банка правила о банкротстве российских кредитных организаций, а в том, что правопреемник должника – холдинг UBS Швейцария является трансграничной корпорацией, которая осуществляет свою деятельность на глобальном мировом финансовом рынке, поэтому последствия такого банкротства иностранного банка может испытать на себе не только и не столько банковская система России.
По сути, сегодня арбитражные суды выделяют 2 критерия для признания иностранной компании банкротом в России:
-
1) заявителем доказано наличие тесной
связи должника с Россией, например представлены доказательства того, что бизнес велся на территории России (в российских банках имеются активы, счета, кредиты);
-
2) в отношении кредитора действуют санкции, блокирующие право на судебную защиту в банкротстве на территории иностранного государства по месту регистрации должника.
Поскольку российским банкротным правом не установлены специальные правила банкротства иностранных компаний, создается серьезная правовая неопределенность в следующих, казалось бы, очевидных вопросах:
-
• обязательно ли российское банкротство для иностранных кредиторов должника?
-
• включается ли в конкурсную массу должника имущество, расположенное в иностранных юрисдикциях и зарегистрированное в иностранных реестрах?
-
• какие последствия для должника и иностранных кредиторов, не участвовавших в деле о банкротстве в России, порождает завершение процедуры банкротства иностранной организации в России?
Очевидно, что на указанные и иные процессуальные вопросы можно будет получить ответы уже в ближайшее время, так как банкротство иностранных компаний в России находит все большую популярность в правоприменительной практике.
Астрент как способ получения истребуемых доказательств
По общему правилу компетенция арбитражного суда на рассмотрение спора с участием иностранного лица в случае возражений с его стороны распространяется при наличии исключительной компетенции суда, пророгационного соглашения или наличия тесной связи спорного правоотношения с Российской Федерацией.
Обособленный спор в деле о банкрот- стве того или иного лица, рассматриваемого на территории России, относится к таким случаям по принципу lex fori concursus 4.
Суть проблемы, решение которой судебная практика нашла в астренте, – исполнимость вступившего в законную силу промежуточного судебного акта, принятого в отношении иностранного лица. Иными словами, повышение эффективности судебного акта российского суда и, как следствие, авторитета судебной системы России.
Не погружаясь в дискуссию о правовой природе судебной неустойки, следует отметить, что астрент как средство мотивации обязанного лица к исполнению судебного акта имеет, скорее, стимулирующий и отчасти штрафной характер, нежели компенсаторный и, несмотря на смешение частно-правовых и публично-правовых начал, выполняет в рассматриваемом сценарии преимущественно публично-правовую функцию 5.
В 2015 году в ГК РФ была введена статья 308.3. Законодатель преследовал цель сделать исполнение судебного акта явно более выгодным, чем его неисполнение, что нашло отражение в разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации 6.
Нельзя не отметить, что ранее судебной практике были известны случаи присуждения астрента на обязанность по передаче (представлению) сведений или документов в том числе в делах о банкротстве.
Так, в деле о банкротстве ЗАО «РСУ-103» № А56-42909/2014 Верховный Суд Российской Федерации указал на допустимость присуждения астрента в пользу конкурсной массы на случай неисполнения судебного определения об обязании бывшего руководителя передать документы. Мотивы Верховного Суда Российской Федерации сводились к выводам о применении к спорным правоотношениям общих положений об обязательствах, в том числе положений статьи 308.3 ГК РФ, и об отсутствии каких-либо ограничений для применения астрента к спорным правоотношениям. Кроме того, Верховный Суд Российской Федерации отметил, что сама по себе возможность привлечения бывшего руководителя к субсидиарной ответственности не является основанием для отказа в присуждении судебной неустойки, так как астрент не освобождает от исполнения основного обязательства и, как следствие, от применения мер ответственности за его неисполнение.
В 2018 году на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации было передано дело № А40-66152/2014 о снижении размера присужденной неустойки за длительное неисполнение кредитной организацией судебного акта об истребовании документов в дело. Всего в пользу ряда иностранных компаний (истцов) была присуждена судебная неустойка в размере более 60 миллионов рублей, о снижении которой банк и просил, ссылаясь на то, что на дату ее присуждения исполнительное производство уже было окончено.
Позиции нижестоящих судов разделились – первая и кассационная инстанции посчитали возможным ее снижение по аналогии с положениями пункта 2 статьи 333 ГК РФ, апелляция, напротив, посчитала, что судебная неустойка не подлежит пересмотру.
Верховный Суд Российской Федерации, отменяя все три постановления нижестоя-

щих инстанций, подтвердил в определении от 5 июня 2018 года № 305-ЭС15-9591 позицию о возможном применении астрента на обязательство по представлению документов в дело, однако отметил, что повторная оценка присужденной судебной неустойки не предусмотрена законодательно и может быть пересмотрена только применительно к общим началам гражданского законодательства, запрещающим извлечение выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.
В дальнейшем практика применения астрента на обязанность по передаче тех или иных документов получила распространение как в корпоративных спорах (например в спорах о передаче документов бывшим руководителем вновь назначенному 7 или о предоставлении обществом сведений своему участнику 8), так и в делах о банкротстве (в основном относительно обязанности бывшего руководителя передать документы 9).
В делах о банкротстве физических лиц указанная правовая позиция до недавнего времени не получала широкого распространения.
В деле о банкротстве Орловой В.В. № А40-185980/17 суд апелляции, хоть и признал допустимым присуждение астрента в случае неисполнения должником обязанности по передаче документов в подтверждение наличия имущества, материальных и иных ценностей (ст. 213.9 Закона о банкротстве), вместе с тем отказал в удовлетворении такого заявления, указав на отсутствие доказательств «нахождения спорных документов у Орловой В.В.» 10.
В деле же о банкротстве ИП Кнекова А.В.
№ А40-203279/2017 Арбитражный суд Московского округа, отменяя судебные акты в части, пришел к выводу об отсутствии у финансового управляющего права требовать присуждения судебной неустойки за неисполнение определения об истребовании документов в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) со стороны оспариваемой сделки, а не с должника 11. Выводы суда мотивированы отсутствием предусмотренной законом обязанности стороны оспариваемой сделки передать финансовому управляющему документы должника, что, как указывает суд, означает отсутствие у финансового управляющего права требовать исполнения обязательства в натуре. Суд также принял во внимание и, по мнению авторов, это могло быть решающем обстоятельством, что тем же судебным актом со стороны оспариваемой сделки был взыскан штраф на основании пункта 9 статьи 66 АПК РФ, который был оставлен судом округа без изменения, а само производство по обособленному спору оставлено без рассмотрения.
Иная позиция была занята Арбитражным судом Московского округа по делу № А40-216360/17 о банкротстве Багаутдинова Р.И. Суд округа поддержал позицию нижестоящих судов об истребовании имущества у супруги должника и присуждении судебной неустойки с прогрессивной шкалой на случай неисполнения судебного акта со ссылкой на реализацию в деле о банкротстве в том числе общего имущества супругов с выплатой супругу причитающейся ему доли 12. При этом суд указал, что «исполнение определения, заключающееся в пере- даче финансовому управляющему перечня имущества, не представляет фактической или правовой сложности для ответчика», тем более что ответчик «не привел каких-либо сведений о наличии в материалах дела доказательств, свидетельствующих о несправедливости или несоразмерности судебной неустойки».
По сути, такие указания являются некоей декларацией проверки судом условий присуждения астрента, среди которых суд выделил возможность исполнения судебного акта, поведение стороны, справедливость и соразмерность неустойки.
Из анализа судебной практики следует, что институт астрента, хотя и не имел повсеместного применения в банкротстве или последующего содержательного регулирования, все же не находился на нулевом уровне и применялся в том числе в рамках процедур несостоятельности физических и юридических лиц.
Вместе с тем судебная практика продолжила закономерное развитие с учетом новых реалий, с которыми столкнулась российская правовая система.
Так, в рамках дела № А40-58566/2019 о банкротстве Ананьева Д.Н. был применен астрент в отношении нерезидента – стороны оспариваемой сделки за неисполнение определения арбитражного суда об истребовании сведений и документов по оспариваемой сделке. Согласно постановлению Арбитражного суда Московского округа от 24 мая 2023 года в деле № А40-58566/2019 рассматривался обособленный спор об оспаривании платежей должника в пользу иностранных консультантов Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom (UK) LLP (Великобритания). В рамках этого обособленного спора судом несколькими определениями были истребованы документы у ответчика. Спустя год после истребования и последовательного неисполнения судебных актов судом удовлетворено заявление о присуждении судебной неустойки с ответ- чика в пользу конкурсной массы должника в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки неисполнения судебного акта об истребовании документов до даты фактического исполнения. Судом апелляции судебный акт суда первой инстанции изменен в части, применена прогрессивная шкала.
В этом случае интерес представляет раскрытие судом апелляционной инстанции конкретных обстоятельств, которые послужили основанием установления прогрессивной шкалы неустойки, а именно «продолжительного неисполнения ответчиком двух определений суда об истребовании документов, отсутствия уважительной причины своевременного неисполнения определений суда, подтверждения наличия документов у компании Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom (UK) LLP (в апелляционной жалобе ответчик указал, что передал истребуемые документы после вынесения обжалуемого определения, а именно 10.11.2022), значительного размера предмета настоящего спора (4 145 874,18 евро)» 13.
Суд округа, оставляя судебные акты без изменения отметил, что «в данном случае, принимая во внимание, что ответчик является иностранным юридическим лицом, кредиторы должника ограничены в возможностях по восстановлению нарушенных прав» 14.
Впоследствии определением Арбитражного суда города Москвы от 11 августа 2023 года по делу № А40-58566/2019 суд отказал Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom (UK) LLP в признании исполненным в полном объеме определения суда об истребовании документов. Из текста определения следует, что ответчиком после присуждения астрента в пользу конкурсной массы были представлены документы более чем на 15 000 листах, а первые документы поступили в дело уже спустя 8 дней после удовлетворения заявления управляющего.

Указанное контрастирует с продолжительным неисполнением ответчиком (более года) определений суда об истребовании документов до этого и свидетельствует о существенном влиянии, которое может оказать на всю практику рассмотрения аналогичных споров сформированная по настоящему делу позиция суда.
При рассмотрении вопроса об установлении астрента на промежуточный судебный акт важно отметить определение Верховного Суда Российской Федерации от 31 мая 2024 года по делу № А29-15503/2021. В указанном деле суд пришел к выводу о невозможности установления астрента в пользу истца за неисполнение ответчиком определения об обеспечении доказательств, указав, что, исполняя определение об обеспечении доказательств, ответчик выполняет обязанности, возложенные на него судом и несет ответственность перед судом, а не действует исключительно в интересах стороны. Таким образом, суд подчеркивает, что астрент, установленный на промежуточный судебный акт в пользу стороны спора, по сути, влечет возникновение у кредитора дополнительной привилегии, позволяющей воспользоваться способом воздействия на должника, указанным в пункте 1 статьи 308.3 ГК РФ.
Вместе с тем необходимо отметить, что на момент рассмотрения Верховным Судом Российской Федерации жалобы кассатора судебный акт по существу спора был принят в его пользу и вступил в законную силу, в связи с чем суд пришел к выводу о наличии правовой неопределенности в сложившейся ситуации и об отсутствии актуальности в представлении спорных доказательств.
Из изложенного следует, что астрент в порядке, предусмотренном статьями 308.3
и 330 ГК РФ, является действенным механизмом побуждения нерезидента к представлению документов в дело и в условиях ограниченных возможностей лиц, участвующих в деле о банкротстве, на самостоятельное получение сведений (документов), осложненных иностранным элементом, может оказаться одним из немногих средств защиты прав кредиторов.
Судебная практика неизбежно столкнется с рядом других вопросов, которые ей предстоит разрешить – выработка единообразных критериев расчета астрента, возможность снижения или пересмотра размера ранее присужденного астрента и т. п.
Представляется, что принципы справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного и (или) недобросовестного поведения не являются содержательными применительно к рассматриваемым отношениям и сохраняют большое поле для дискреции суда, несмотря на то что во многих случаях за надлежащее соблюдение этих принципов признается достаточным сам факт снижения размера присуждаемой судом неустойки в сравнении с испрашиваемой заявителем. Так, в деле № А76-31393/2016 суд округа указал, что вопреки доводам кассатора суд, руководствуясь принципами справедливости, соразмерности, назначил неустойку в меньшем размере (1 000 рублей в день, вместо 100 000 рублей в месяц, заявленных истцом) 15.
В связи с этим необходимо положительно оценить попытки судов сформулировать критерии соразмерности присуждаемой неустойки 16.
Несмотря на это, авторы отмечают развитие института астрента в банкротстве как позитивное явление и эффективный механизм мотивации иностранных лиц к ис- полнению актов российского арбитражного суда об истребовании сведений и документов.
Мнимые собственники в иностранных юрисдикциях
Долгое время в России была популярна практика сокрытия активов от кредиторов через иностранные оффшорные компании. В этом случае, как правило, недвижимость оформлялась не на фактических собственников, которые управляли ей, а на подставных лиц – номинальных держателей, в большинстве случаев зарегистрированных в островных юрисдикциях. Указанные активы оставались недоступными для большинства российских кредиторов в связи с невозможностью оспаривания таких сделок по формальным критериям.
Стоит отметить, что термин «подставное лицо» изначально использовался в российском уголовном праве для целей применения конкретных составов преступлений 17 и применялся к учредителям (участникам) или органам управления юридического лица. В то же время, как верно отмечает М.В. Столярчук, «недобросовестные действия участников гражданского оборота, выявляемые при несостоятельности, разнообразнее, так как могут выражаться в использовании формального собственника, мнимого собственника, мнимого держателя активов, транзитного звена и других явлений» 18.
По этой причине для сферы гражданских правоотношений Верховным Судом Российской Федерации в постановлении Пленума от 21 декабря 2017 года № 53 сформулировано понятие «номинальный руководитель», под которым понимается лицо, формально входящее в состав органов управления, но принимающее ключевые решения по указанию третьего лица. Указанное определение номинального ру- ководителя гораздо уже понятия мнимого собственника, поскольку не охватывает ситуации, при которых, например, мнимый собственник не принимает никаких решений, а владеет активом и пользуется им лишь для вида.
Однако в 2021 году на уровне Верховного Суда Российской Федерации получает развитие практика оспаривания сделок в банкротстве по основанию мнимости титульного владения. В частности, в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2021 года № 307-ЭС19-23103 (2) по делу о банкротстве Рас-светова С.А. появляются новые термины «мнимый собственник» и «действительный собственник»: «в такой ситуации лицо, которому формально принадлежит имущество, является его мнимым собственником (п. 1 ст. 170 ГК РФ), в то время как действительный собственник – должник – получает возможность владения, пользования и распоряжения имуществом без угрозы обращения на него взыскания по долгам со стороны кредиторов».
Для защиты нарушенного права в делах о банкротстве правоприменительная практика предлагает использовать либо иск об оспаривании сделок, либо иск о признании права собственности. В случае удовлетворения любого из указанных исков имущество включается в конкурсную массу должника. При этом второй иск при прочих равных представляется более перспективным, поскольку позволяет не привлекать к делу третьих лиц и упростить стандарт доказывания для истца.
Судебная практика Московского округа показывает, что столичные суды все чаще обращаются к понятию «мнимый собственник». Так, в деле № А41-67767/2022о банкротстве ООО ПКФ «Гюнай» в определении от 21 августа 2023 года Арбитражный суд Московского округа подтвердил правомер-

ность выводов нижестоящих судов, которые вернули в конкурсную массу доли в аффилированных компаниях, хотя в их пользу от должника отчуждались спорные права аренды на земельные участки, потому что «данные юридические лица являлись лишь формально самостоятельными, корпоративная структура группы компаний имела притворный характер, а аффилированные лица использовались в целях сокрытия активов должника при возникновении у него признаков неплатежеспособности».
А в деле № А40-32986/2019 о банкротстве Балаяна Г.Б. в определении от 4 июля 2023 года Арбитражный суд Московского округа констатирует, что подлежит судебной защите иск о возврате в конкурсную массу имущества должника, выбывшего из титульного владения должника по притворной сделке, в связи с чем суд округа установил притворный характер сделки по субъективному составу.
Вместе с тем в правоприменительной практике долгое время не был решен вопрос о том, как быть в ситуации, когда спорное имущество изначально регистрируется не на действительного, а на номинального собственника и впоследствии отчуждается в пользу иностранной компании.
Одним из первых таких дел, где суды попробовали дать ответ на этот вопрос, стало дело № А40-58566/2019. В этом деле высоколиквидное имущество никогда не принадлежало должнику. Оно передавалось по следующей цепочке собственников:
-
1) администрация Московской области безвозмездно предоставляет сотрудникам охраны должника земельные участки в Горки-2;
-
2) охранники продают земельные участки теще должника (пенсионерка 1946 года рождения, имеющая минимальный доход);
-
3) теща передает земельные участки в уставный капитал Кипрской компании.
В обмен на недвижимость теща получает акции компании;
-
4) компания продает заслуженному строителю земельные участки в 2 раза дешевле рыночной стоимости, и он регистрирует на них объекты незавершенного строительства.
В рамках рассмотрения указанного дела Арбитражный суд города Москвы и последующие инстанции сформулировали следующие критерии мнимого собственника – иностранной компании:
-
• иностранная компания является технической и не ведет реальную хозяйственную деятельность;
-
• уставный капитал иностранной компании сформирован имуществом, принадлежащим родственникам должника;
-
• иностранная компания создана незадолго до банкротства должника;
-
• в сделку по передаче активов включены условия, которые при обычном обороте не могут быть указаны в контракте.
Еще одной особенностью названного дела является то, что мнимым собственником изначально выступали физические лица, которые осуществляли титульное владение активом в интересах должника.
Ранее судебная практика исходила из возможности обращения взыскания на имущество должника, сокрытое за номинальными лицами с использованием конструкции юридического лица 19. При разрешении схожих вопросов суды руководствовались существом сложившихся отношений, оценивая представленные в материалы дела доказательства вне зависимости от формально-юридической структуры владения должником имуществом. В указанном же деле суд пришел к выводу о формальном оформлении имущества на тещу должника при реальном осуществлении полномо- чий собственника должником посредством установления того, что:
-
1) номинальный владелец не обладал достаточным доходом ни для приобретения объектов недвижимости, ни для их содержания;
-
2) содержание осуществлялось за счет имущества должника;
-
3) продавцы связаны с должником (сотрудники охраны подконтрольного должнику банка);
-
4) участки, принадлежащие должнику, расположены в непосредственной близости от спорных земельных участков;
-
5) между должником и номинальным собственником имеются доверительные отношения.
Исходя из этого суд пришел к выводу о том, что формальная регистрации титула собственника за доверенным лицом должника привела к выводу объектов недвижимости из имущественной массы должника 20. Ключевыми критериями, как следует из текста судебного акта, оказались фактически сложившиеся между сторонами отношения, их экономическая составляющая и доказательства принадлежности имущества должнику, которые не были опровергнуты ответчиками.
Представляется, что манипулирование конструкциями юридических лиц в том числе с использованием компаний, созданных в юрисдикциях, не обеспечивающих публичность данных о конечных бенефициарах компаний, а также регистрация имущества на номинальных физических лиц с целью сокрытия или выводы активов из-под риска обращения взыскания на них, не должны подлежать судебной защите.
Принципом разрешения такого вида споров является не формально-юридическая оценка, а, как следует из указанной судебной практики, принцип «приоритета существа над формой».
Указанный прецедент станет основой для развития практики оспаривания сделок с мнимыми (номинальными) собственниками. Иностранный держатель актива больше не будет являться непреодолимой преградой для кредиторов в ситуации, когда ими представлены весомые доказательства связанности с должником и номинального статуса оффшорной компании в сделке.
Выводы
В условиях серьезных санкционных ограничений судебная система Российской Федерации вырабатывает действенные механизмы судебной защиты, которые уже сегодня позволяют признать банкротом в России нерезидента, кредиторам получить от него необходимые доказательства и признать с ним сделку, даже в тех случаях когда его фигура используется исключительно номинально с целью сокрытия активов.
Проанализированные изменения в судебной практике арбитражных судов дают основания полагать, что, когда речь идет о российских активах иностранных лиц, юрисдикция российского суда будет иметь все большую эффективность с точки зрения права на судебную защиту российских граждан и организаций, тем самым развивая лучшие практики трансграничного банкротства.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ *
-
1. Шефас П. О банкротстве иностранных юридических лиц в России: компетенция судов и гарантии защиты российских кредиторов // Цивилистика. 2020. Т. 2. № 5. С. 152–165.
-
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) : Федеральный закон от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
-
3. О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
-
4. Вараксин М. Почему суды допускают банкротство зарубежных компаний в Российской Федерации. URL: https://pravo.ru/ story/247541/
-
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
-
6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «Консуль-тантПлюс».
-
7. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
-
8. Столярчук М. В. Понятие и квалифицирующие признаки номинальности в банкротстве // Вестник арбитражной практики. 2023. № 2. С. 77–83.
20 Определение Арбитражного суда города Москвы от 13.10.2022 по делу № А40-58566\2019 (оставлено без изменения вышестоящими инстанциями).

**
P А А Единый
Список литературы Трансграничная юрисдикция российского суда в условиях санкционных ограничений
- Шефас П. О банкротстве иностранных юридических лиц в России: компетенция судов и гарантии защиты российских кредиторов // Цивилистика. 2020. Т. 2. № 5. С. 152-165. EDN: LTXGCZ
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): Федеральный закон от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы "КонсультантПлюс".
- О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы "КонсультантПлюс".
- Вараксин М. Почему суды допускают банкротство зарубежных компаний в Российской Федерации. URL: https://pravo.ru/story/247541.
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы "КонсультантПлюс".
- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы "КонсультантПлюс".
- Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы "КонсультантПлюс".
- Столярчук М. В. Понятие и квалифицирующие признаки номинальности в банкротстве // Вестник арбитражной практики. 2023. № 2. С. 77-83. EDN: IIIAMH