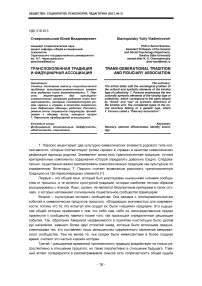Транспоколенная традиция и фидуциарная ассоциация
Автор: Ставропольский Юлий Владимирович
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 3, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу социологической проблемы культурно-символических элементов родового типа коллективности. Т. Парсонс акцентирует два культурносимволических элемента родового типа коллективности, которые соответствуют ролям «крови» и «права» в качестве символических дефиниций единицы родства. Рассмотренные типы социальной структуры принадлежат к общему типу, который назван Т. Парсонсом «фидуциарной ассоциацией».
Фидуциарный, опциональный, диффузность, идентичность, социология
Короткий адрес: https://sciup.org/14939410
IDR: 14939410 | УДК: 316.613
Текст научной статьи Транспоколенная традиция и фидуциарная ассоциация
The summary:
The article deals with the sociological problem of the cultural and symbolic elements of the kinship type of collectivity. T. Parsons emphasizes the two culturally symbolic elements of the kinship type of collectivity, which correspond to the parts played by “blood” and “law” as symbolic definitions of the kinship unit. The considered types of the social structure belong to a general type, which T. Parsons called a “fiduciary association”.
Т. Парсонс акцентирует два культурно-символических элемента родового типа коллективности, которые соответствуют ролям «крови» и «права» в качестве символических дефиниций единицы родства. Эквивалент крови есть транспоколенная традиция, точные критериальные компоненты содержания которой определить довольно трудно. Следовательно, существенно важно рассматривать транспоколенную традицию как культурную по определению. Во-вторых, Т. Парсонс считает возможным разложить транспоколенную традицию на три первоочередных элемента [1].
Первый – это общий язык, который был унаследован нынешними членами сообщества от прошлых, и те аспекты культурной традиции, которые наиболее тесным образом ассоциированы с языком. Язык, однако, не является безупречным критерием в таких случаях, о которых напоминает полиязычное социетальное сообщество Швейцарии.
Второй – «культурная история» сообщества. Она связана с последовательностью событий и символических продуктов прошлого, обладающих значимостью для современности, потому что те, кто испытал или создал их, были «нашими» предками. Это ощущение общей истории применимо к тем, кто либо сам, либо их непосредственные предки примкнули к сообществу намного позже того, как произошли определенные решающие события. Так, обретение Америкой независимости и принятие конституции было делом рук населения, жившего более двух столетий назад, которые были истинными предшественниками тех, кто составляет лишь меньшинство современного населения американского сообщества. Тем не менее те, чьи предки были иммигрантами в более позднее время, считают это частью «своей» истории.
Третий – расширение временной протяженности традиции воздействует не только ретроспективно в отношении прошлого, но также перспективно в отношении будущего. Главный аспект солидарности в рассматриваемом смысле есть сопричастность общей судьбе благодаря общей принадлежности к конкретному социетальному сообществу. До тех пор, пока существует само сообщество, эта непрерывность будет его центральной чертой.
Главный аспект диффузности системы солидарности лежит, на взгляд Т. Парсонса, в том факте, что невозможно изолировать символическую значимость конкретных временных событий и перспектив от расширенного временного континуума [2]. Так же как в контексте родственных отношений индивид является аскриптивно ребенком своих родителей, так и в социетальном сообществе гражданин – это аскриптивно один из потомков своих предков в социетальном сообществе и будет одним из «предшественников» будущего сообщества таким образом, что многих последствий действий современников не удастся избежать будущим представителям новых поколений.
Рассмотренные типы социальной структуры принадлежат к общему типу, который назван Т. Парсонсом «фидуциарной ассоциацией». Прилагательное «фидуциарный» образовано, главным образом, от третьего из рассмотренных элементов транспоколенной традиции. В любое данное время членство в фидуциарной ассоциации осуществляет фидуциарную ответственность за поддержание или развитие транспоколенной традиции на своем месте в более крупном обществе, включая внутри своих границ тех, от кого нельзя ожидать принятия на себя самых высоких уровней подобной ответственности. Оно становится «моральным сообществом» в дюркгеймовом смысле.
Т. Парсонс утверждает, что в высокодифференцированном обществе существуют четыре принципиальных подтипа фидуциарной ассоциации: ассоциация родства, социе-тальное или подобное сообщество, религиозная ассоциация и образовательнокультурная ассоциация. В современном типе семьи единство устанавливается по договору в указанном выше смысле, то есть по браку. Участвующие в браке стороны принимают на себя ответственность за надлежащий образ брачной жизни, ответственность друг за друга, за благополучие и надлежащее воспитание детей. В общностном (коммунальном) типе конкретные фидуциарные обязанности передаются тем, кто занимает общественные должности и оказывает более чем средние уровни влияния как на благосостояние менее наделенных властью и менее влиятельных групп, так и на интегрирование традиции. В случае религиозной ассоциации превыше всех находятся духовенство и иные специально уполномоченные группы, на которых сконцентрированы подобные обязанности. Под образовательно-культурным подтипом Т. Парсонс имеет в виду прежде всего университет и иные институты высшего образования, а также различные другие типы культурно ориентированных институтов, такие как музеи и музыкальные организации. В случае университетов особенно заметным фокусом фидуциарной ответственности являются преподаватели как по отношению к студентам, которые еще не обладают таким же уровнем компетентности и опыта, так и по отношению к целостности самой традиции, в этом случае особое внимание обращается на «распространение знаний».
Т. Парсонс мыслит этническую группу в качестве принадлежащей к той же самой категории фидуциарной ассоциации, особенно благодаря элементу непрерывности традиции. Однако она не представляется Т. Парсонсу однозначно принадлежащей ни к одному из четырех вышеуказанных подтипов. Т. Парсонс предлагает рассматривать этническую группу в качестве «слияния» типа сообщества и типа родства. Это означает отсутствие четкой дифференциации двух данных подтипов друг от друга там, где присутствует этничность. Такая дифференциация с очевидностью происходит в последнее время.
Вопреки своему возникновению в качестве того, что иногда называется сообществом WASP (акроним, соответствующий представлению о «стопроцентном американце» (по первым буквам английских слов White Anglo-Saxon Protestant)), американское социе-тальное сообщество более не является этническим сообществом в прежнем смысле сво- ей истории и классического образца национального государства. Это не означает, что этнические группы перестали быть значимыми. В некоторых отношениях верно как раз противоположное. Современное американское общество, по мысли Т. Парсонса, этнически плюралистическое общество, в котором даже прежняя расплывчатая и неформальная стратификация этнических подгрупп перестала обладать своей прежней значимостью.
В то же время, полная ассимиляция, ведущая к исчезновению этнических идентичностей и солидарностей, что часто обсуждалось в начале ХХ века, не происходит так просто. Полная ассимиляция в том смысле, что этническая идентификация полностью исчезает и становится поглощенной единственной категорией «американец» почти не имеет места. Те, кто в одних источниках идентифицировали себя как англосаксы, в других источниках применяют региональную категоризацию в смысле типа сообщества, как в случае «обыкновенных фермеров Среднего Запада» либо различных типов южан. Т. Парсонс рассматривает такую категоризацию в качестве подтверждения опционального и добровольного компонента этнической идентификации в Соединенных Штатах.
Для опциональной идентичности характерны два момента. Первый заключается в том, что этнический статус в заметной степени лишен социального компонента. Маркеры идентичности в очень важном смысле оказываются пустыми символами. Символы, в которых нет разработанных социальных отличий, способны свободно и ровно функционировать в полиэтнической социальной системе, при этом поддерживая в качестве маркеров культурно-символическую идентичность. Символизация этнической идентичности прежде всего сконцентрирована на отличительных особенностях стиля жизни внутри более широких рамок почти единообразной американской социальной структуры. Эта социальная структура дифференцирована по классу, по региону и по типу сообщества, например, мегаполис контрастирует с маленьким городком, но на этнической основе различий между ними почти нет.
Второй момент отмечается на ролевом уровне – в связи с определением роли матери в различных этнических группах. Чтобы понять ирландскую идентичность американца, нужно понять, что такое мать-ирландка. Нельзя понять еврейской семьи, если вы не поймете, что такое мать-еврейка и т. д. Утверждения о решающей роли матери повторяются из одной этнической группы в другую. В центре внимания оказывается мать в качестве символического хранителя этнической идентичности.
Из этих замечаний понятно, что развитие этнического плюрализма в американском обществе активизирует важные изменения в характере самих этнических групп по сравнению с тем, какими они были, например, как они воплощались в жизнь иммигрантов из конкретной этнической группы в первом поколении. Они были «десоциализированы» и трансформированы в культурно-символические группы. Этим не отменяется солидарность на определенных уровнях, например предпочтение компактности проживания, либо, если нет компактности проживания, то избирательность в отношениях. Так, люди идентифицирующие себя итальянцами, могут чувствовать себя более комфортно, общаясь с теми, кто также идентифицирует себя как итальянцы независимо от того, проживают они или нет преимущественно в итальянских кварталах. Аналогичным образом члены такой группы могут кристаллизировать свои солидарности, например, по поводу политических интересов, но здесь следует ясно иметь в виду, что существует элемент добровольной избирательности. Существует открытая возможность акцентировать ту или иную идентичность в конкретных целях, особенно в случае, когда матери и бабушки – неитальянки (польки, ирландки). Здесь очень важно соотношение между этничностью и религией. Ирландцы, итальянцы и поляки в современном американском этническом смысле – это в основном католики. Во взаимо- действии католицизма с другими конфессиями, прежде всего с протестантами и иудеями, возможна определенная кроссэтническая солидарность.
Феномен «десоциализации» этнических групп не выступает обособленно. В условиях быстрых социальных изменений и определенных тенденций к аномической социальной дезорганизации и отчуждению интенсификация и высокая эмоциональная заря-женность статуса группового членства приводят к тому, что идентичность становится одним из основных типов реакции. Десоциализация предполагает сложный комплекс последствий для социальной солидарности и в то же время особый конструктивный режим реинтеграции элементов популяции в структуры, которые менее аномичны и от-чуждающи. Этническая идентичность обеспечивает, говоря словами Т. Парсонса, достижение некоего компромисса между тенденцией к реставрации образа жизни, а также ценностей и чувств, идентичных тем, которые принесли с собой первые волны иммигрантов, и признанием тех фактов современной жизни, которые несовместимы со старым образом жизни. В такой интерпретации представляется, что Т. Парсонс весьма верно уловил смысл этнокультурной идентичности как реакции на совершающиеся социальные изменения и раскрыл социальный смысл одной из ипостасей этнокультурной идентичности под названием «десоциализация».
По-видимому, утверждает Т. Парсонс, действительно существует некоторая общая черта, заметная на этническом поле, а также более широко – в социальных процессах, которая имеет определенную аналогию с явлением регрессии в психологическом смысле и которая, на языке мотивационной динамики, несомненно ассоциируется с регрессией, но не тождественна ей. Т. Парсонс считает полезным обращаться к этому общему фактору как к «дедифференциации». Его характер и значимость проявляются на фоне самого мощного распространения в развитии социальной структуры за последнее время универсалистских стандартов мобильности и относительно развитой свободы, которая, однако, легко может повернуться в аномических направлениях. Тем не менее самым важным фокусом, на взгляд Т. Парсонса, является плюрализация современной социальной структуры, благодаря которой типичные индивиды играют множественные роли, ни одна из которых не может адекватно охарактеризовать идентификацию индивида в качестве «социальной» личности. Дедифференцирующая тенденция состоит в отборе конкретных критериев и применении их в качестве идентифицирующих символов к тем любым людям, которые определяют то, чем группа является.
В общую категорию процессов дедифференциации достаточно определенно вписывается общий сдвиг во многих областях от равенства возможностей к равенству результатов, то есть придание большей легитимности партикуляристским критериям в противоположность критериям универсальным. Это имеет значение для проблемы равенства. Равенство, несомненно, есть некоторое простое единство, которое либо присутствует, либо отсутствует, либо лишь варьирует по степени вдоль линейного континуума. Это есть проблема качественно различных компонентов. Один из этих компонентов, который очень общо называется равенством возможностей, имеет тенденцию быть приносимым в жертву некоторым другим, таким как статус группового членства, так что получается, что возможности должны быть равными для групп, а не для индивидов.
Ссылки: