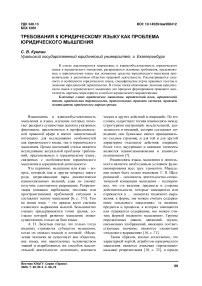Требования к юридическому языку как проблема юридического мышления
Автор: Куклин Сергей Вадимович
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы теории государства и права, конституционного права
Статья в выпуске: 4 т.20, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются взаимосвязь и взаимообусловленность юридического языка и юридического мышления, раскрываются основные требования, предъявляемые к юридическому языку как основному средству юридического мышления применительно к различным областям правовой деятельности. Рассматриваются сущность и особенности юридического языка, специфические черты правовых текстов и значение юридической терминологии. В статье также обосновано значение юридического языка и юридического мышления для процесса формирования правового менталитета, картины мира юриста и особого юридического мировоззрения.
Юридическое мышление, юридический язык, юридический текст, юридическая терминология, правосознание, правовая система, правовой менталитет, юридическое мировоззрение
Короткий адрес: https://sciup.org/147233326
IDR: 147233326 | УДК: 340.13 | DOI: 10.14529/law200412
Текст научной статьи Требования к юридическому языку как проблема юридического мышления
Взаимосвязь и взаимообусловленность мышления и языка, изучение которых помогает раскрыть сущностные аспекты указанных феноменов, преломляются в профессиональной правовой сфере и имеют значительный потенциал для исследования особенностей как юридического языка, так и юридического мышления. Целью настоящей статьи является исследование актуальной проблемы требований, предъявляемых к юридическому языку, связанных с особенностями юридического мышления и юридической деятельности.
Что первично: мышление или язык - вопрос, который, как и другие вопросы такого рода, затрагивающие пары диалектически взаимосвязанных явлений, едва ли сможет получить однозначное разрешение. Репрезентация (неважно вербальная, числовая или пространственная) проблемной ситуации и составляет основу мышления [6, с. 173]. Тем не менее язык - это прежде всего система словесного выражения мыслей. Большинство ученых придерживаются точки зрения, согласно которой развитое мышление может существовать только на базе языка.
А. Н. Леонтьев считал, что только тогда индивид становится субъектом мышления, когда он овладел языком и логикой: «Мышление человека не существует вне общества, вне языка, вне накопленных человечеством знаний и выработанных им способов мыслительной деятельности: логических, математи ческих и других действий и операций». По его словам, существует тесная взаимосвязь между структурами внутренней, мыслительной, деятельности и внешней, которая составляет поведение, они буквально имеют принципиально сходное строение, и для той и для другой характерны отдельные действия, операции, более того, внутренние и внешние элементы являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми [7].
Взаимосвязь языка, мышления и деятельности является необходимым условием функционирования всех трех элементов. Мышление может быть только языковым. Г. П. Щедровицкий - основатель деятельностно-семиотической концепции мышления - подчеркивал, что «те явления, предметы и стороны действительности, которые замещаются или отражаются в … элементах языкового выражения, в форме, мы можем считать содержанием «языкового мышления»; те явления, предметы и процессы, в которых замещается или отражается содержание, мы можем считать формой языкового мышления». Группы определенных знаков, движений, звуков, письменных изображений, имеющих соответствующее значение, являются элементами «языкового выражения» [16, с. 71].
Таким образом, вполне естественно, что характерной чертой, атрибутом юридического мышления является языковая (пропозициональная) репрезентация [10, с. 25], и юриди ческий язык будет рассматриваться нами в дальнейшем как основное средство юридического мышления.
В первом приближении, юридический язык - основа юридического мышления, как язык является основой мышления. Однако этим роль юридического языка не ограничивается: профессиональная сфера предъявляет к нему особые требования в связи с теми целями и задачами, которые стоят перед юридическим мышлением.
Первое требование связано с языком как с речью и его проявлением в полемике - разновидности юридической деятельности. Здесь существенное значение имеет умение удерживать внимание, четко формулировать свою позицию, быстро выделять в речи оппонента главную мысль и слабые стороны его аргументов, логично выстраивать ответную речь. Владение речью включает не только язык («владение словом», умение донести доводы, цифры и факты), но и логику, и психологию. Причем эти элементы тесно взаимосвязаны -следует выбирать те языковые формы и так их выстраивать, чтобы они наиболее существенно и в выбранном направлении оказывали воздействие на слушателей.
Мыслительные операции юриста в качестве итога воплощаются в юридической речи. Известны примеры уникального воздействия, которое оказывали судебные выступления блестящих юристов прошлого - В. Н. Плева-ко, А. Ф. Кони, В. Д. Спасовича и др. [11; 12; 13]. Они вызывали общественный резонанс в то время, а сегодня изучение их речей - часть юридического образования и воспитания. Таким образом, юридическая речь безусловно играет значительную роль в формировании и функционировании юридического мышления.
Второе требование предъявляется к юридическому тексту и его элементам. В научной литературе выделяют три элемента юридического текста: 1) специальные термины; 2) слова естественного языка, являющиеся общеупотребительными; 3) грамматические формы и связки. Следует отметить, что вторая и третья составляющие как раз вызывают вопросы о юридизации естественного языка и в целом о взаимодействии профессионального юридического и естественного языка. То есть слова и связки, конструкции и выражения, являющиеся общеупотребительными и распространенными в естественном языке, если они используются в юридических документах, при- обретают правовое значение и юридический смысл, не приобретая при этом статус специальных терминов. Примером могут служить слова «должен» «надлежит» (модальные предикаты), союз «или» и др. [2].
Юридический язык принадлежит одновременно к двум системам - семиотической и правовой, которая тоже обладает своими функциями и традициями. Поэтому специфика языка связана с особенностями права, которые определяют такие свойства языка, как абстрактность юридических понятий, повышенная логическая связанность текста, тер-минологичность, точность [8].
Официально-деловой стиль юридических текстов подкрепляет административноправовой аспект общественных отношений. Юридические тексты имеют чаще всего письменную форму, субъективно-окрашенные элементы сведены к минимуму, так как их сферой действия является официальный стандартизированный контекст. В научной литературе выделяют четыре разновидности письменного юридического текста: 1) академический (научный), например, публикации в научных журналах; 2) педагогический, к примеру учебники по юридическим дисциплинам; 3) законодательный текст - нормативные правовые акты; 4) судебный (судебные решения и иные судебные акты) [15, с. 99].
Законопроекты, нормативные правовые акты и иные юридические документы можно рассматривать как тексты, причем иногда достаточно сложные для понимания, в том числе из-за используемой терминологии. Закон или судебное решение обычно написаны строгим языком, тон изложения императивный, формулировки сжатые, категоричные, повелительные, для репрезентации материала характерна четкость, а для лексики - профессиональная ориентированность, терминологическая точность и насыщенность. Это необходимо, с одной стороны, для изложения сложного юридического содержания, с другой -для того, чтобы текст звучал убедительно и авторитетно. Как отмечают И. Г. Жогова и Е. В. Кузина, «строгость изложения фактологического материала и терминологическая выверенность правовой документации - это основные требования для составления юридических документов» [5].
-
Н. Д. Голев подчеркивает, что «юридический язык - это особая система, в ней обнаруживаются свои собственные значимости,
формируемые оппозициями специальных понятий и детерминацией со стороны действующего законодательства». При этом интерпретация текста тесно связана с целой системой юридических понятий и норм, которые составляют единую систему, имеющие свои внутренние закономерности, герменевтические презумпции. Для понимания этой системы и необходимо специальное юридическое мышление, формирующееся в течение жизни многих поколений, именно оно способно декодировать указанный «код» [2]. Ситуация осложняется еще и тем, что язык права имеет дело преимущественно с абстрактными понятиями, которые не имеют однозначных референтов. Этим он отличается от профессиональных сфер, где специальные термины легко соотносимы с конкретными предметами. Уже одно это свидетельствует о существовании юридического мышления, опирающегося на юридический язык, которое отличается от других видов профессионального мышления.
С другой стороны, говоря о специфике функционировании юридического языка, обуславливающей его особые качества, чаще всего имеют в виду «жесткую семантизацию» языка. Правосудие естественно стремится отойти от субъективности в принятии решений, чтобы приблизиться к объективности, которую традиционно связывают со справедливостью и законностью. Для этого используются все элементы языка, действующего в юридической сфере.
Под юридическими терминами понимаются слова (словосочетания), которые используются в нормативных правовых актах и юридической научной литературе, фиксируют юридические понятия путем их обобщенного словесного обозначения (наименования), имеют, как правило, точный и определенный смысл, обладают смысловой однозначностью и функциональной устойчивостью. Юридический текст и особенно содержащиеся в нем предписания должны быть сформулированы точно, ясно, лаконично, и эта цель достигается именно благодаря юридической терминологии. По объему она может занимать небольшую часть текста, но при этом составлять его структуру, основной смысловой фундамент [5].
В связи с этим на первый план во взаимодействии юридического языка и юридическо- го мышления выходит такое качество послед него, как догматичность. Необходимо подчеркнуть различия между понятиями «догматичность» и «догматизм». Юридическому мышлению объективно присуще первое, но не второе. Догматизм в настоящее время неприемлем ни теоретически, ни методологически. Догматичность присуща юридическому сообществу, так как догма предполагает возможность дать точный четкий ответ «здесь и сейчас», несмотря на многообразие смыслового поля. В качестве единицы мышления догма обладает высокой стабильностью, что позволяет ей выступать стимулом институционализации, но при этом не остается неизменной и, по словам Л. И. Глухаревой, не свободна от антиномичности: момент ее формулирования обладает определенными социокультурными особенностями, а их изменения требуют соответствующего пересмотра содержания догмы [1, с. 19]. Догма выражается в позитивном праве в виде понятий, юридических конструкций, принципов, догматичностью обладают средства, приемы и способы его толкования. Для юридических наук она формирует алгоритмы построения, понятийно-категориальный аппарат, юридический язык, параметры юридического анализа и квалификации ситуаций [1, с. 21]. Таким образом, юридически мыслить - значит оперировать понятиями, соотносить их друг с другом, выявляя их место в системе, преобразовывать их и создавать новые понятия.
Третье требование к юридическому языку как основному средству юридического мышления связано с особой ролью логических конструкций и в целом существенной ролью законов и методов формальной логики в формировании, развитии и функционировании юридического мышления. Логические законы по-разному преломляются и приобретают разное значение в определенных сферах юридической деятельности. Юридический язык представляет собой системное образование, а значит, согласно теории систем обладает системным эффектом, то есть он несводим только к литературно-языковой составляющей, а приобретает особые специфические качества. Это характерно не только для юридического языка, но и для других логико-языковых феноменов. При этом такой своеобразный «прирост», как его называет Н. Д. Голев, отнюдь не случаен и относится не к форме и не к периферии исследуемого явления, а к его сущности [3, с. 50].
В профессиональной сфере, в которой действует юридический язык, существуют специфические закономерности развития и функционирования правотворческих и правоприменительных процессов, которые находят отражение в нормативных правовых актах и юридическом дискурсе [15, с. 101]. То есть для юристов язык – это орудие мышления, которым пользуется и законодатель для воплощения своих мысли и воли, и правоприменитель. Это концепция языка опирается на аристотелевскую формальную логику, которой активно пользуется юридическое мышление.
Четвертое требование к юридическому языку как средству юридического мышления связано с юридическими мировоззрением, менталитетом, картиной мира. Значимой функцией юридического мышления и юридического языка как его основного средства является возможность зафиксировать господствующее в определенный период юридическое мировоззрение.
Юридическое мышление связано с рациональным сознанием, является элементом правосознания и поэтому активно участвует в формировании юридической картины мира. При этом, как подчеркивает Т. В. Губаева, значительную роль в этом процессе играет юридический язык, в котором выражается юридическое мышление. Юридический язык должен фиксировать общие принципы права, юридические конструкции в их соотношении друг с другом [4].
Но кроме явного и рационального способа формирования юридической картины мира, язык как средство юридического мышления несет в себе возможности более глубокого подсознательного воздействия. Язык и культура играют определяющую роль в процессе социализации индивида, которая благодаря им позволяет сформировать уникальное мировоззрение. С. П. Овчинников идет еще дальше, отмечая, что юридическое мышление определяется нерефлексируемым, неявным, допредикативным знанием, и это проявляется именно в языке, в лингвистических структурах. Причем такая ситуация неизбежна, так как само осмысление собственного опыта для того, чтобы исключить его, также связано с дорефлексивными, допредикативными уровнями сознания [9, с. 20].
В юридической теории и практике встречаются случаи, когда вопросы факта подменяются вопросами языка, толкования и интерпретации. На взаимосвязь проблем семантики и некоторых философско-онтологических проблем указывает Л. Тондл. При этом, по его словам, «семантическое решение» не всегда допустимо отождествлять с «онтологическим решением» [14, c. 352].
Юридическая картина мира, как и догма права, не представляет собой застывшую «абсолютную истину», отмечает Е. В. Скурко, а имеет конвенциональный характер, опирается в значительной степени на знаковую природу слова и развивается во многом благодаря ей [10, c. 25].
Таким образом, подводя итог, можно выделить по крайней мере четыре основных требований к юридическому языку со стороны юридического мышления или, если точнее, юридической деятельности: 1) требование к юридической речи, проявлению языка в полемике (умение удерживать внимание, четко формулировать свою позицию); 2) требование к юридическому тексту, его структуре и элементам; 3) требование к логическим конструкциям, к соблюдению законов и методов формальной логики; 4) требование, связанное с юридическими мировоззрением, менталитетом, юридической картиной мира.
Список литературы Требования к юридическому языку как проблема юридического мышления
- Глухарева, Л. И. Догма права и догматичность юридического мышления / Л. И. Глухарева // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2013. – № 19 (120). – С. 19–26.
- Голев, Н. Д. Взаимодействие естественного и юридического языка как базовая проблема юрислингвистики / Н. Д. Голев. URL: http://lingvo.asu.ru/golev/ articles/ z09.html.
- Голев, Н. Д. О специфике языка права в системе общенародного русского языка / Н. Д. Голев // Журнал «Юрлингвистика». – 2004. – № 5. – С. 39–57.
- Губаева, Т. В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной юридической деятельности / Т. В. Губаева. – М.: Норма, 2004. – 160 с.
- Жогова, И. Г. Профессионально-ориентированная лексика как способ активизации критического мышления (на примере англоязычных юридических текстов) / И. Г. Жогова, Е. В. Кузина // Новое слово в науке: перспективы развития: материалы III Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – С. 148–150.
- Когнитивная психология / под ред. В. Н. Дружинина, Д. В. Ушакова. – М.: ПЕР СЭ, 2002. – 480 с.
- Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М.: Смысл, 2004. – 431 с.
- Розин, В. М. Юридическое мышление (формирование, социокультурный контекст, перспективы развития) / В. М. Розин. – Алматы: ВШП «Адилет», 2000. – 294 с.
- Овчинников, С. П. Cоциокультурная самобытность правового мышления и юридическая этнология / С. П. Овчинников // Юристъ-Правоведъ. – 2003. – № 1. – С. 20–25.
- Скурко, Е. В. Юридическое мышление в конструктах современной когнитивной психологии / Е. В. Скурко // Ленинградский юридический журнал. – 2011. – № 3 (25). – С. 19–57.
- Судебные речи знаменитых русских адвокатов / сост. и ред. Е. Л. Рожникова. – М.: Проспект, 1997. – 392 с.
- Судебные речи / автор-составитель М. Ф. Чудаков. – М., 2002. – 784 с.
- Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах ХIХ века / сост. И. Потапчук. – Тула: Автограф, 1997. – 816 с.
- Тондл, Л. Проблемы семантики / Л. Тондл. – М.: Прогресс, 1975. – 484 с.
- Шарикова, Л. А. Особенности юридического мышления через специфику правового дискурса и языка / Л. А. Шарикова, В. Ю. Геиер // Вестник Тюменского государственного университета. – 2008. – № 1. – С. 96–103.
- Щедровицкий, Г. П. О методе исследования мышления / Г. П. Щедровицкий. – М.: Фонд «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого», 2006. – 600 с.