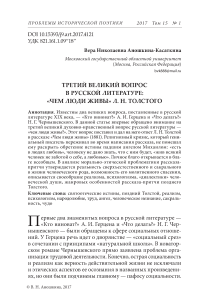Третий великий вопрос в русской литературе: "Чем люди живы" Л. Н. Толстого
Автор: Аношкина-Касаткина Вера Николаевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.15, 2017 года.
Бесплатный доступ
Известны два великих вопроса, поставленные в русской литературе XIX века, - «Кто виноват?» А. И. Герцена и «Что делать?» Н. Г. Чернышевского. В данной статье впервые обращено внимание на третий великий духовно-нравственный вопрос русской литературы - «чем люди живы?». Этот вопрос поставил и дал на него ответ Л. Н. Толстой в рассказе «Чем люди живы» (1881). Религиозный кризис, который гениальный писатель переживал во время написания рассказа, не помешал ему раскрыть обретение истины падшим ангелом Михаилом: «есть в людях любовь», человеку не дано знать, что с ним будет, «жив всякий человек не заботой о себе, а любовью». Личное благо открывается в благе всеобщем. В анализе морально-этической проблематики рассказа-притчи утверждается реальность сверхъестественного и сакрального в жизни человеческого рода, возможность его молитвенного спасения, описывается своеобразие реализма, психологизма, «диалектики» человеческой души, жанровых особенностей рассказа-притчи позднего Толстого.
Святоотеческие истины, поздний толстой, реализм, психологизм, народолюбие, труд, ангел, человеческое незнание, сакральность, чудо
Короткий адрес: https://sciup.org/14749010
IDR: 14749010 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2017.4121
Текст научной статьи Третий великий вопрос в русской литературе: "Чем люди живы" Л. Н. Толстого
П ервые два знаменитых вопроса в русской литературе — «Кто виноват?» А. И. Герцена и «Что делать?» Н. Г. Чернышевского — были обращены к сфере социальных отношений. У Герцена речь идет о дворянстве — «социальный срез» в сочетании с принципами «натуральной школы». В новаторском романе Чернышевского прямо заявлена проблема организации трудовой деятельности. Конечно, острая социальность и реализм как верность действительной жизни не исключали и этических аспектов ее осознания в названных произведениях, но они были подчинены главному — пафосу социальности.
Л. Н. Толстой в рассказе «Чем люди живы» (1881) не поставил в заглавии знак вопроса, однако он прозвучал в нем: «чем?». Вместе с тем писатель с самых первых слов рассказа дал и ответ на этот вопрос. Толстой принял не индуктивный, а дедуктивный способ повествования. Рассказу предпослал святоотеческие афоризмы, утверждающие святые истины.
«Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев: не любящий брата пребывает в смерти ( 1 Посл. Иоан. III, 14 ) <…> Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. ( IV, 8 )»1
Восемь знаменитых христианских изречений приведены Толстым в тексте, служащем предисловием и готовящем читателя к восприятию и пониманию рассказа.
О том, что толстовское «Чем люди живы» произвело огромное впечатление на современников, свидетельствует И. С. Аксаков, который с самого конца 1880 года издавал газету «Русь». В ней он неоднократно восхищался произведением Толстого и так выразил свое очарование: «Какая прелесть — этотъ раз-сказъ графа Л. Н. Толстого <…>!» [1, 5]. Публицист увидел в творчестве писателя-реалиста «тончайшiя, самыя возвы-шенныя, именно христiанскiя движенiя души» [1, 5]. И. С. Аксаков указал на «Божий дар», явленный в творчестве позднего Толстого. Кроме того, в другом разделе газеты «Русь» — «Критика и библиография» — был помещен хвалебный отзыв о новом произведении Толстого, говорилось о своеобразии содержания, «смѣлой оригинальности» [2, 18].
В народном, сказочном стиле начал он свое сочинение: «Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартире» (252) (ср. характерный сказочный зачин: «Жили-были старик со старухой…»). Но сразу же реальность жизни в виде бытовых конкретностей бедности вторгается в повествование: «Ни дома своего, ни земли у него не было, и кормился он с семьею сапожной работой. Хлеб был дорогой, а работа дешевая, и что заработает, то и проест» (252). Даже изношенная шуба у него с женой Матреной была одна на двоих. Реалист Толстой именно в такой бедно-пребедной семье обнаружил Ангела .
«А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое: как пребывает в том любовь Божия? ( III, 17 <Посл. Иоанна>)» (252).
Этическая проблема вторглась в повествование; рассказ начинает приобретать вместе с образом Ангела вид притчи с глубоким философским содержанием. Писатель, тем не менее, не разрушает реалистический стиль своего сочинения. Попытка Семена собрать деньги у должников-мужиков, которым он оказывал сапожные услуги, не увенчалась успехом. У мужиков не было денег, и они не смогли расплатиться с сапожником. Но, возвращаясь домой, он столкнулся у часовни со странным явлением: « “ С головы похоже на человека, да бело что-то. Да и человеку зачем тут быть? ” <…> Что за чудо: точно, человек, живой ли, мертвый, голышом сидит, прислонен к часовне и не шевелится» (254). Писатель-психолог вводит в свой рассказ изображение борьбы разнообразных чувств и побуждений у сапожника: страха, беспомощности, незнания-непонимания происходящего: «Что с ним, голым, делать? Не с себя же снять, последнее отдать. Пронеси только Бог!» Он хотел уже уйти, «да зазрила его совесть» (254). Пристыдил себя сапожник Семен, снял кафтан, надел на голого, замерзающего в холодный осенний день человека, дал чужие валенки, которые ему поручили подшивать: «…и вдруг как будто очнулся человек, повернул голову, открыл глаза и взглянул на Семена. И с этого взгляда полюбился человек Семену» (255), — и повел он его в свой дом. Притчевый элемент усиливается в рассказе Толстого. Таинственный юноша все более становится загадочным: он «не здешний», ему «нельзя сказать», как он оказался под часовней. «Меня Бог наказал» (255), — только сообщил он. Дальнейшее повествование в толстовской притче связано с проблемой «знание-незнание».
«Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиной ( III, 18 <Посл. Иоанна>)» (252).
С конца 1870-х гг. Толстым владели религиозные настрое-ния2, в которых он, видимо, спасался от «уныния», на которое жаловался в письмах к брату С. Н. Толстому3. Льва Николаевича тяготили «шум, гам, суета»4, пустое общение с людьми.
В ноябре — декабре 1881 года и ранее писатель сообщал брату о духовных тяготах при виде «зла» жизни, «громаде соблазнов», в которых живут люди, о том, что его подавляет «громада этого зла», «приводит в отчаяние, вселяет недоверие»5. Духовно-нравственные, религиозные искания писателя сочетались с общением его и близких ему людей с крестьянином-сектантом В. К. Сютаевым, а также с олонецким сказителем былин В. П. Щеголенком, от которого он слышал легенду «Архангел», положенную в основу рассказа «Чем люди живы». Толстого всё сильнее занимают душевно-нравственные состояния человека. Он сообщал брату, что его не интересует реальность быта, а трогает только то, что касается души: «Если я высказываю такие мысли, которые не касаются моей жизни и моей души и убеждения эти кому-нибудь противны и возбуждают злое чувство, то я и вперед, и назад от всех их отказываюсь. А убеждения, касающиеся моей души, никому не могут быть противны, потому что они состоят в том, чтобы всем уступать и всем делать приятное. И я точно отказываюсь от всего, что не имеет этой цели»6. Собственно, Толстой сообщает о тех настроениях, которые им владели, когда он создавал свой рассказ «Чем люди живы». Он объяснял брату: «Что барин в рассказе моем гладкий и гадкий и умирает — это напрасно. И от всего подобного я отказываюсь»7. Смысл образа барина, большого, толстого, будто полного жизненной энергии, не в его моральном осуждении. Он заказал сапожнику Семену сшить прочные сапоги, которые не износились бы в течение целого года, и даже угрожал мастеру, если он не выполнит его требование. Но беда барина не в каком-либо аморальном, «гадком» поступке, а просто в его «незнании». Ему было суждено умереть в тот же день, Ангел Смерти уже стоял за его спиной. Барин не знал об этом, человеку не дано это видеть и знать.
Толстого занимают духовно-душевные способности и возможности человека. Знаменитая толстовская «диалектика души» наполняет рассматриваемый нами рассказ. В него входят внутренние диалоги и монологи, разговоры персонажей с самим собой, противоречивые, двойственные. Так, сапожник Семен то боится, то останавливает свой страх, побуждая себя к нравственному поступку. Толстой акцентирует внимание на «взглядах» человека, его «улыбках». Хмурое, сморщенное выражение лица сменяется душевным «просветлением», заметным присутствующим: «Руки сложены на коленях, голова на грудь опущена, глаз не раскрывает и все морщится, как будто душит его что. <…> И жалко стало Матрене странника, и полюбила она его. И вдруг повеселел странник, перестал морщиться, поднял глаза на Матрену и улыбнулся» (259).
Кроме того, главный герой рассказа-притчи рисуется как необыкновенный умелец, мастер своего дела, прекрасный работник-труженик. Он быстро овладел сапожным делом, приняв уроки Семена. Михаил (Толстой наделил его именем своего младшего сына, писатель берет образ из своего сердца, из глубин любящей своей души) так успешно занимается сапожным делом, что увеличивает материальное благополучие семьи сапожника. Он вызвал чувство благодарности, его полюбили в этой семье. «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:16), он есть и Истина; любовь и истина предназначены, даны человеку, но нужны его нравственные усилия, его «дела», его добрая воля.
Михаил, падший ангел, раскрыл, в конце концов, свою тайну приютившим его людям, тайну его трех улыбок: «А улыбнулся я три раза оттого, что мне надо было узнать три слова Божии» (268).
Таинственный с самого начала повествования смысл притчи раскрывается лишь в ее конце. За что Бог наказал своего ангела? — За ослушание: «Я был ангел на небе и ослушался Бога» (269). Он послал Своего ангела на землю — вынуть душу из женщины, а тот не сделал этого, размышляя по-своему, поддавшись уверению матери, родившей двойню и боявшейся сиротства девочек.
Три заветных слова Бога, согласно притче, — это: «…что есть в людях, и чего не дано людям, и чем люди живы» (269).
Первая тайна, раскрывшаяся ангелу, ставшему человеком, — «что есть в людях». На первый взгляд, люди кажутся «страшными» в своей душевной черствости, кажутся безжалостными: ведь первоначально Семен-сапожник хотел пройти мимо замерзающего человека, и жена Семена стала ругаться и чуть ли не прогонять пришедшего в их дом странника. Лица бездушных, безжалостных людей были страшны, от них веяло мертвечиной. Но они преобразились, увидев, осознав бедственное положение одинокого, замерзшего, голодного юноши. Семен и Матрена пожалели его, одели, согрели, накормили, приняли в свой дом — полюбили. «И я узнал, что есть в людях любовь» (270), — человек-ангел «узнал Бога» в добрых побуждениях и делах людей, потому что «Бог есть любовь (IV, 8 <Посл. Иоанна>)» (252). Вот тогда-то Михаил улыбнулся в первый раз.
Второе слово Бога касается человеческого незнания.
«Бога никто никогда не видел. <…> Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? ( IV 12, 20 <Посл. Иоанна>)» (252).
Михаил напомнил добрым людям, которые его приютили и научили работать, о толстом барине: он заказал сшить ему прочные сапоги, которые не износились бы в течение года, а сам не знал при этом, что ему суждено умереть в тот же день: «…не зайдет еще солнце, как возьмется душа богача. И подумал я: “Припасает себе человек на год, а не знает, что не будет жив до вечера”. И вспомнил я другое слово Бога: “Узнаешь, чего не дано людям”. <…> Не дано людям знать, чего им для своего тела нужно» (271). Незнание — это огромная сфера человеческого бытия, и не следует покушаться на вторжение в эту сферу, надо уметь смиряться, не претендовать на то, что не дано человеку и по природе, и свыше… Мы не знаем свой будущий день и, тем более, свою далекую перспективу. Но молитва спасительна.
Третье слово Бога раскрывает, «чем люди живы». Ангел провинился, ослушавшись Бога, а в результате мать девочек-двойняшек, умирая, завалилась телом на одну из родившихся малюток и повредила ей ножку — девочка осталась на всю жизнь хроменькой. Михаил узнал ее, увидев через шесть лет, понял свою вину ослушания и раскаялся. Спасла осиротевших малюток-девочек добрая женщина, ставшая их кормилицей. Своим женским молоком — своей жалостью-любовью — вскормила их, полюбила всем сердцем. Оказалось, что «без отца, матери» — не сироты дети, «чужая женщина вскормила, взрастила их». «И когда умилилась женщина на чужих детей и заплакала, я в ней увидел живого Бога и понял, чем люди живы. <…> Узнал я, что жив всякий человек не заботой о себе, а любовью» (271), — так поведал Михаил, падший ангел, свою тайну — третье слово Бога.
Главный смысл толстовского рассказа — в отрицании эгоистического самосознания и самочувствия. Сосредоточение на себе, забота о себе, «обдумывание» лишь своих нужд, своих желаний и потребностей не соответствует Божественной воле, Божественному предназначению человека. Личное благо открывается в благе всеобщем. Толстой выразил любимую для той поры своей жизни мысль, сформулированную его главным героем ангелом Михаилом: «Я понял, что Бог не хотел, чтобы люди врозь жили, и затем не открыл им того, что каждому для себя нужно, а хотел, чтоб они жили заодно, и затем открыл им то, что им всем для себя и для всех нужно» (272). Люди обманываются, когда думают, что лишь заботой о себе живы. И в святых изречениях, и в толстовском тексте доминирует образ человека-брата. Евангельские истины-заповеди гласят: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22:37–39)8».
Толстой принял великую истину: «…не любящий брата пребывает в смерти ( 1 Посл. Иоан. III, 14 )» (252), нужно видеть брата в нужде и помогать ему; единая связь существует между любовью к человеку-брату и любовью к Богу. Своим рассказом Толстой снова напомнил: «Бог есть любовь»:
«Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает ( IV, 12 <Посл. Иоанна>) (252)».
Исследовательница творческого наследия Л. Н. Толстого, посвятившая ему всю свою научную деятельность [15], Л. Д. Громова пришла к выводу: «До конца жизни он считал, что без веры, религии жить нельзя, а веру понимал как христианскую любовь» [8, 11]. Выявляя в философских размышлениях Толстого единство этики и эстетики, она писала: «Любви к себе, эгоизму личному, социальному, религиозному, национальному русский писатель противопоставил братство людей, любовь и жалость друг к другу <…>. По Толстому, человек может и обязан быть добр, даже вопреки своей природе. Ибо таким путем осуществляется в жизни идея братства, самая важная для человеческого общежития» [9, 46, 39].
Весьма показательна переписка Л. Н. Толстого 1880-х годов с любимой сестрой, «милым другом Машенькой» — Марией Николаевной, которая сообщала своему брату, «Левочке», о жизни в монастыре (письмо от 16 декабря 1889 г.)9. Она писала ему о своих поисках душевно-нравственного удовлетворения именно в монастырской жизни. Она думала о жертвенном подвиге во имя Бога: «А без жертвы, без труда спастись нельзя…»10. Монастырь — самое достойное место для жизни религиозного человека: «Это целый мир с своими особенностями и деятельной жизнью, тут не только молятся, а тоже трудятся, и, глядя на их труд и молитвенные подвиги, именно подвиги, невольно проникаешься к ним уважением»11. И она рассказывала брату о жизни церкви, о распорядке дня и ночи, о ночном молитвенном бдении, о скромной, аскетической пище и о глубоком нравственном удовлетворении, которое испытывают те, кто здесь обитает: «…они самые веселые и приветливые <…> и говорят, что они в миру никогда не были так счастливы и покойны, как здесь»12. Она пишет о первенствующем значении «молитвы в церкви». Сестра укоряет брата в непонимании, в неверии в «благодать» церковной жизни, которая «нас животворит и помогает духу брать перевес над телом»13. Рассказ «Чем люди живы» уже был опубликован ко времени написания этого письма. М. Н. Толстая, можно сказать, словами брата сформулировала заветную его и свою мысль. Она заявила о «переломе» своей жизни и надежде на обретение покоя.
Все это не могло не влиять на Л. Н. Толстого, также находящегося на «переломе» своей духовно-нравственной, интеллектуальной жизни. Толстой духовно двигался по направлению к Церкви. 5 марта 1891 года он записал в дневнике: «Тяжела дурная барская жизнь, в которой я участвую»14. Он работал над статьей «Царство Божие внутри нас». Л. Н. Толстой — великий гуманист, верящий в нравственную основу человеческой личности, в успех самосовершенствования человека, возможность преодоления своей греховности в покаянии15. Вопреки своим еретическим заблуждениям, за что критиковал писателя его современник Святой Иоанн Кронштадтский (см. об этом: [5]), Толстой приходил к выводам, которые свидетельствовали о его принадлежности к великой русской классической литературе, существующей издавна и развивающейся на основе православной религии. Он признавался: «Я начал с того, что полюбил свою православную веру…»16.
Рассказ-притча Л. Н. Толстого завершается в стиле этого жанра сценой, взятой как бы из священной мистерии: «И запел ангел хвалу Богу, и от голоса его затряслась изба. И раздвинулся потолок, и встал огненный столб от земли до неба. И попадали Семен с женой и с детьми на землю. И распустились у ангела за спиной крылья, и поднялся он на небо» (272).
Реалистический стиль рассказа о сапожнике и его жене вместил в себя — сверхъестественное. Оно, по Толстому, существует реально, но не дано человеку, погруженному в обыденность, «увидеть», узнать сокровенный смысл существования человека. Слепота бездуховности омертвляет душу, притупляет совесть. Писатель говорит о сакральном элементе, сакральных началах реального существования человека. Их носительницей является христианская религия, ведущая личность к братской любви, единению в добрых, спасительных побуждениях и действиях.
Вместилищем сакральности является Церковь, монастырская жизнь, которую приняла, судя по их письмам, любимая сестра Л. Н. Толстого Мария. И ее знаменитый брат, чуть ли не на смертном одре, «примеривал» на себя монастырскую жизнь. Он принял решение и стал осуществлять его, посетив Оптину пустынь с целью встретиться и побеседовать со святыми старцами, ведь он мысленно уже разговаривал со Святым Иоанном, автором Посланий, в своем философском сочинении «Чем люди живы». Не отвергая справедливость суждения строгого богослова-литературоведа М. М. Дунаева [10, 314–347], следует помнить, что поздний Толстой исторически стоял в преддверии русского официального атеизма. Он в то время как мыслитель двигался к Церкви; задавая главный вопрос о существовании человека, провозглашал свой ответ: люди живы братской христианской любовью, потому что Бог есть любовь, Бог есть истина. Такова священная реальность сущности бытия.
Итак, третий великий вопрос русской литературы, вопрос и ответ на него нашего гениального писателя — о сакральных основах жизни человеческого рода.
THE THIRD GREAT QUESTION
Mir filologii. Posvyashchaetsya Lidii Dmitrievne Gromovoy-Opul’skoy [ The World of Philology. To the Memory of Lidiya Dmitrievna Gromova-Opulskaya ]. Moscow, Nasledie Publ., 2000. 384 p. (In Russ.)
Дата поступления в редакцию: 26.12.2016
Список литературы Третий великий вопрос в русской литературе: "Чем люди живы" Л. Н. Толстого
- Аксаковь И. С. //Русь. -1881. -№ 58. -19 декабря. -С. 1-5 . -URL: http://txts.mgou.ru/13.02.2015/gazeta_Rus/1881/1881_58.pdf (05.09.2016).
- Аксаковь И. С. Критика и библiографiя. «Дѣтскiй отдыхь». Ежемѣсячный иллюстрированный журналь для дѣтей. Ноябрь и декабрь 1881//Русь. -1881. -№ 58. -19 декабря. -С. 18 . -URL: http://txts.mgou.ru/13.02.2015/gazeta_Rus/1881/1881_58.pdf (05.09.2016).
- Асмус В. Ф. Мировоззрение Толстого//Литературное наследство. -М.: Изд-во АН СССР, 1961. -Т. 69: Лев Толстой. -Кн. 1. -С. 35-102.
- Асмус В. Ф. Толстой Лев Николаевич//Философская энциклопедия: в 5 т./гл. ред. Ф. В. Константинов. -М.: Советская энциклопедия, 1970. -Т. 5. -С. 243-245.
- Батурова Т. К. Духовные подвижники о русской классической литературе. -М.: МГОУ, 2016. -244 с.
- Бурсов Б. И. Лев Толстой. Идейные искания и творческий метод. -М.: ГИХЛ, 1960. -408 с.
- Гинзбург Л. Я. О литературном герое. -Л.: Советский писатель, 1979. -224 с.
- Громова Л. Д. Лев Николаевич Толстой (1828-1910)//История русской литературы последней трети XIX века: в 2 ч./под ред. В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой, В. Б. Катаева. 2-е изд., испр. и доп. -М.: Юрайт, 2016. -Ч. 2. -С. 6-77.
- Громова-Опульская Л. Д. Философия и эстетика братства в художественных сочинениях Л. Н. Толстого//Толстовский сборник-2000. (Материалы XXVI Международных Толстовских чтений): в 2 ч. -Часть I: Л. Н. Толстой в движении эпох. -Тула, 2000. -С. 38-49.
- Дунаев М. М. Православие и русская литература: в 6 ч. -М.: Христианская литература, 1998. -Часть IV. -718 с.
- Захаров В. Н. Из забытых мемуаров. П. Матвеев о Ф. Достоевском, Н. Страхове, Л. Толстом//Неизвестный Достоевский: электронный научный журнал. -2016. -№ 1. -С. 58-70 . -URL: http://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1461750377.pdf (05.09.2016).
- Захаров В. Н. Полемика как диалог: Достоевский в споре с Толстым//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. Вып. 11: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. -Вып. 8. -С. 242-255 . -URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1431516700.pdf (05.09.2016).
- Клейменова О. Н. Общество любителей российской словесности. 1811-1930. -М.; Л.: Academia, 2002. -623 с.
- Лев Толстой и мировая литература. Материалы IX международной научной конференции. Музей-усадьба «Ясная Поляна». -Тула, 2016. -342 с.
- Мир филологии. Посвящается Лидии Дмитриевне Громовой-Опульской. -М.: Наследие, 2000. -384 с.
- Мотылева Т. Л. О мировом значении Л. Н. Толстого. -М.: Советский писатель, 1957. -726 с.
- Толстой -это целый мир. Статьи и исследования. -М.: Пашков дом, 2004. -239 с.
- Эйхенбаум Б. М. Работы о Льве Толстом. -СПб.: СПбГУ, 2009. -952 с.