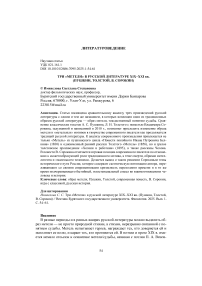Три «Метели» в русской литературе XIX–XXI вв. (Пушкин, Толстой, В. Сорокин)
Автор: Имихелова С.С.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена сравнительному анализу трех произведений русской литературы с одним и тем же названием, в которых воплощен один из традиционных образов русской литературы - образ метели, тождественный понятию судьбы. Сравнение классических текстов А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого с повестью Владимира Сорокина, задуманной и написанной в 2010 г., позволяет проследить изменение образа метели и «метельных» мотивов в творчестве современного писателя как продолжателя традиций русской литературы. К анализу современного произведения привлекается не только «Метель» из пушкинского цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» (1830) и одноименный ранний рассказ Толстого «Метель» (1856), но и зрелое толстовское произведение «Хозяин и работник» (1895), а также рассказы Чехова. В повести В. Сорокина отмечается игровая позиция современного писателя по отношению к сюжетообразующей роли традиционного мотива, к теме смерти, образам интеллигента и «маленького человека». Делается вывод о таком решении Сорокиным темы исторического пути России, которое содержит скептическую интонацию автора, переживающего со своими современниками кризисность переходного времени и в то же время подчеркивающего бытийный, экзистенциальный смысл во взаимоотношениях человека и истории.
Образ метели, пушкин, толстой, современная повесть, в. сорокин, игра с классикой, русская история
Короткий адрес: https://sciup.org/148331033
IDR: 148331033 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.18101/2686-7095-2025-1-54-61
Текст научной статьи Три «Метели» в русской литературе XIX–XXI вв. (Пушкин, Толстой, В. Сорокин)
В разные периоды и в разных жанрах русской литературы можно выделить образ метели — не просто природной стихии, а стихии, неразрывно связанной с понятием судьбы. Метель испытывает героев, награждает тех, кто доверяется ей и исполняет ее волю, и карает тех, кто противится ей. В поэзии и прозе ХIХ в. имеется немало отсылок к семантике метели/судьбы, начиная с поэзии П. А. Вязем- ского, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина. Традиция пушкинской «Метели» прослеживается в прозе Н. В. Гоголя, С. Т. Аксакова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова. Писатели-классики ХХ в. — А. Блок, М. Булгаков, Б. Пастернак и другие — внесли в формирование этого сюжета свою лепту. Современный писатель Владимир Сорокин, известный весьма неординарными произведениями, вызывающими интерес критиков и литературоведов, сознательно написал свою повесть так, чтобы читатель обратился к ее прочтению, опираясь на знакомые классические тексты, сформировавшие представления о значении данного природного образа в русском искусстве.
Материалы и методы исследования
Метод сравнительно-сопоставительного анализа позволяет рассмотреть развитие образа метели и связанных с ним мотивов, имеющих сюжетообразующий характер, в повести В. Сорокина «Метель» в контексте классической традиции в произведениях А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого. Применение герменевтического подхода в осмыслении как художественных, так и цитируемых литературно-критических откликов на повесть В. Сорокина позволило определить комплекс устойчивых мотивов, связанных с образом метели в русской прозе ХIХ в.
Результаты
Начиная с классической «Метели» А. С. Пушкина, образ метели занял прочное место в русской литературе как стихии, имеющей судьбоносную роль в жизни людей. По замечанию М. Гершензона, пушкинская метель, ставшая живой, одушевленной силой, способна вывести людей на правильный путь, поскольку «знает их подлинную, их скрытую волю — лучше их самих» [4, с. 103]. Сюжет метели в «Метели» и особенно в «Капитанской дочке» «позволяет писателю связать судьбы персонажей с ходом истории» [7, с. 14]. В начале ХХ в. М. А. Булгаков выбирает два эпиграфа для своего дебютного романа «Белая гвардия»: рядом с цитатой из Библии строки из «Капитанской дочки» Пушкина: «Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. “Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!..”» [9, с. 538; 3, с. 179].
Исследователи, выделяя «метельный» текст [5], «метельный» сюжет [6] или комплекс метельных значений [7] в русской литературе ХХ в., подчеркивали, как метель сопрягается с историческими катаклизмами, метафорически соотносится с «русским бунтом» и революцией, как позволяет значительно расширить познавательные и выразительные возможности образа. Позволим себе не согласиться с мнением критика П. Басинского, который пишет, что сорокинская повесть никакого отношения не имеет к пушкинской «Метели» [1].
Рассказ Толстого с таким же названием «Метель» (1856) менее известен, но вот написанный им через 40 лет рассказ «Хозяин и работник» известен куда больше, что дает исследователям возможность выделить в обоих произведениях образ метели, воспринимаемый в качестве даже непосредственного персонажа. Если герои Пушкина сталкиваются с метелью лишь в трех эпизодах: там, где рассказчик сочувственно передает кружение в метели неудачливого Владимира, там, где главенствует сознание Марьи Гавриловны и слово берет Бурмин, остро переживающие невозможность счастливой развязки, то ямщики, герои одноименного толстовского рассказа, борются с метелью на всем протяжении сюжета, а повествование дается в форме непрерывного потока сознания молодого барина — главного героя-рассказчика. Третья «Метель» — задуманная в 90-х гг. ХХ в. [8] и изданная в 2010 г. повесть В. Сорокина, одного из самых дискуссионных авторов современной русской литературы. Так же, как в толстовском рассказе, метель Сорокина — это и место действия от начала и до конца, и главная героиня повести, во власти которой оказались доктор Гарин и его возница крестьянин Козьма по прозвищу Перхуша.
Во всех трех произведениях метель станет важным событием с далеко идущими последствиями, обернется тяжким испытанием для героев, станет разрушительной силой, грозящей несчастьем и даже смертью. В повести Пушкина проплутавший в метели Владимир с горя ушел на войну, где и погиб, рассказ Толстого хотя и завершается благополучно, но герой-рассказчик переживет в своей зимней поездке нешуточные страх, тревогу, панику, которые усилены страшными рассказами бывалых ямщиков о гибельных метельных случаях. А когда он отойдет на пару шагов от саней, мгновенно исчезнувших в метели, почувствует близость смерти: «Мне совестно вспомнить, каким громким, пронзительным, даже немного отчаянным голосом я закричал…» [11, с. 183]. В повести Сорокина повторится трагическая ситуация толстовского рассказа «Хозяин и работник» (где погибает главный герой Брехунов): повесть также завершится смертью одного из героев — возницы Перхуши, а у другого — доктора Гарина — будут обморожены ноги.
Сразу после выхода повести Сорокин так объяснял специфическую особенность русской литературной метели, которая, по его словам, является субъектом и объектом, персонажем и сценой, героем и декорацией, задником, на фоне которого происходит действие: «Это стихия, которая определяет жизнь людей, их судьбу. От чего здесь люди зависели, по-прежнему зависят и будут зависеть – это русская география. Это размер России, размер этих полей, во многом безжизненных, это затерянность людей в этих пространствах. И главный персонаж, порождаемый этим пространством, — Метель. <…> Поломки всех этих вещей, плохие дороги и то, что зимой путники никак не могли найти дорогу, потому что она никак не обозначена и никому это не нужно, – это и есть русская жизнь. Другой она не будет» [8].
Думается, пессимизм автора проявляется и в выборе эпиграфа, который предвещает мрачный смысл повести, как, впрочем, и эпиграф к пушкинской «Метели» из баллады Жуковского, в котором передан вещий стон черного ворона, который «гласит печаль», а сама метель, застилая равнину точно саваном, отождествляется со смертью. Сорокинскую повесть предваряет эпиграф из начальных строк стихотворения А. Блока: «Покойник спать ложится / на белую постель. / В окне легко кружится / Спокойная метель», который закладывает идею смерти. Если же ознакомиться со стихотворением полностью, «спокойная метель» только внешне спокойна, на самом деле она сопровождает человека в последний путь, потому что « настало никогда » [2, с. 122]. Уже нет веры в бессмертие, нет в помине мятежного духа, и пусть простит крылатый дух, и да здравствует бессмертие долгожданного милого отдыха.
Связаны со страшным и включенные в метельный сюжет всех трех повестей сны героев: Марья Гавриловна видит ужасные сны в ночь перед своим побегом; рассказчику толстовской «Метели» под завывание ветра, бьющего в лицо снегом, снится странный сон с всплывающим воспоминанием жуткого происшествия, пережитого в прошлом, когда он был «еще очень молод». Находясь в имении тетушки, он стал свидетелем гибели человека, утонувшего в пруду. А во втором, более страшном сне ямщики, утопленник и тетушка преследуют героя в белом лабиринте, из которого нет выхода. «Это уж слишком страшно, — решает он. — Нет! Проснусь лучше» [11, с. 199]. И хотя события не принесли ничего трагического, метель никого не убила, не ранила, даже потерянные лошади нашлись, но в сознании героя возникает ставший могилой для купальщика-крестьянина тихий пруд в жаркий июльский полдень.
В повести Сорокина сновидения двух героев, раскрывающие их состояние и поведение, гораздо страшнее и причудливее. Они усилены в сознании доктора и возницы, встретивших в степи шатер с витапринтерами — некими нанотехнологами и наркодилерами, предлагающими за лечение их товарища сильное галлюциногенное средство в виде пирамидки. Под его действием у Гарина возникает видение: его казнят страшной казнью — жарят в кипящем масле на главной площади средневекового города и заставляют признаться в совершенных грехах. В этом эпизоде можно увидеть отсылку к рассказу «Хозяин и работник» Толстого, в котором купец Брехунов жалеет о выпитой во время поездки водке, потому что знает, что под влиянием алкоголя в метели легче всего пропасть. Видит сон и со-рокинский хлебовоз Перхуша, на чьих санях-самокате совершается путь в метели. Сон этот навеян чувством вины: в детстве его проказа с куколкой бабочки привела к пожару, во время которого сгорела надежда отца семейства разбогатеть.
Бросается в глаза читателю современной «Метели» скрупулезная стилизация под классическую русскую прозу XIX в. И это не только название, но и сознательное использование всей метельной атрибутики и символики. Так, жанровое и стилевое смешение, свойственное пушкинской «Метели», в которой разноголосье повествователей создает смесь и перекличку сентиментализма и романтизма, французского романа, мелодрамы и водевиля, наблюдается и у современного писателя в совмещении предельно бытовой реалистичности и фантастической условности, и этот повествовательный синтез позволяет Сорокину соединить, столкнуть разные эпохи в русской истории. В его повести язык и стиль XIX в. (например, разговор героя, требующего свежих лошадей, со станционным смотрителем в начале повести) вмещают в себя слова, понятия, выражения из века 20-го, из повседневного быта и подробностей, одновременно реалистичных и условно-фантастических (радио, показывающее три голографические программы, двустволка с автоматом Калашникова на стене в доме мельника).
Метель изгибает и ломает пространство-время, поглощая пространство, уничтожая время. Персонажи в «метельном» тексте теряют всякий счет времени, как это случилось с Владимиром в «Метели» Пушкина и купцом Брехуновым в «Хозяине и работнике». Пространство-время в повести Сорокина гротесково вмещает события из прошлого, а когда, к примеру, доктор вспоминает выражение «лес рубят — щепки летят», оно напомнит фразу-закон из другого, а именно сталинского, времени. Складывается впечатление, что события с героем на этот раз совершаются в будущем, несмотря на стилистический антураж 19-го столетия, ведь повествователь напоминает человека именно этого времени — и в пейзажных зарисовках, и в портретной обрисовке персонажей.
Традиционная мотивировка мешается с фантасмагорической и мистической. Платон Ильич Рагин едет в деревню Долгое, где бушует эпидемия заразной болезни, завезенной из Боливии, чтобы вакцинировать тех, кого еще не покусали зараженные, кто не стал зомби. Он человек долга, всеми силами стремится через начавшуюся пургу как можно быстрее доехать в захваченную эпидемией деревню, но различные препятствия так и не дадут ему попасть туда (перекличка с препятствием в пушкинской биографии, когда поэт писал «Повести покойного Белкина», застряв в Болдине из-за холеры). Гарин, как и Владимир, герой Пушкина, и купец Брехунов Толстого, не доедет до своей цели.
Что касается поведения героя, то сорокинский Гарин — врач-интеллигент — больше напоминает чеховских героев, застигнутых метелью. Так, доктор Старченко в рассказе Чехова «По делам службы», запертый из-за метели в тесном пространстве земской избы со следователем Лыжиным, рассуждает о суровой природе, влияющей на характер русского человека, о длинных зимах, которые, стесняя свободу передвижения, задерживают умственный рост людей. В рассказе Чехова «На пути» разорившийся интеллигент Лихарев исповедуется перед барышней, с которой его свела метель, рассказывает, как он промотал состояние, как сидел в тюрьме, как изменял жене, как ради него женщины шли на все, и напоследок радуется тому, что покаялся собеседнице, «как никогда не каялся».
Так же, как и чеховским героям, сорокинскому Гарину трудно гордиться чем-то в своей жизни. Сниженность образа русского интеллигента у Сорокина, как и у Чехова, постоянно подчеркивается. Порой гротесково-пародийное отношение писателя к своему герою сродни чеховскому изображению доктора Ионыча в одноименном рассказе.
Такое же отношение у Сорокина и к традиционному образу маленького человека русской классики. Вернее, не к самому образу, а к его установившемуся представлению в истории литературы. Тут модернистское воображение Сорокина полно фантасмагории, когда на пути его героя-интеллигента не раз встречаются уменьшенные в росте люди и лошади. Это, например, карлик-мельник, в чьем доме Гарин задержится на ночь и увлечется мельничихой.
Фантасмагорические маленькие лошадки Перхуши, а также гротесковые великаны-люди, снеговики, трупы замерзших крестьян поначалу вызывают недоумение у читателя. Сорокин не маркирует с помощью субъективной точки зрения и впечатления (например, такой повествовательной фигурой речи: герою показалось , почудилось ) метафорический смысл фантастических размеров или смертей. И нет в этом каких-либо реалистических объяснений и приемов психологического преувеличения или преуменьшения. Вот почему все эти сцены исполнены иронии и сарказма и должны, по замыслу автора, удивить и испугать читателя, подчеркнуть состояние испытывающих страх и ужас героев.
В чеховском рассказе «Воры» описание метели наполнено субъективной человеческой эмоцией: «…по ту сторону забора, в поле, великаны в белых саванах с широкими рукавами кружились и падали, и опять поднимались, чтобы махать руками и драться» [12, с. 436]. В описании же образа метели у Сорокина подчеркивается экзистенциальный смысл стихии, не подвластной человеку. «Чудовищных размеров снеговик с огромным, торчащим снежным фаллосом» встречается на пути Платона Ильича Гарина. Колосс смотрит на него, и ужас переполняет героя;
он, обезумев, несется стремглав, как Евгений из «Медного всадника»: «Доктор встретился взглядом с глазами-булыжниками. Снеговик посмотрел на Гарина. Волосы зашевелились на голове у доктора. Ужас охватил его. Он вскрикнул и кинулся прочь. Бежал, спотыкался, падал, поднимался и, стоная от ужаса, бежал и бежал снова» [10, с. 165]. Сорокинский снеговик олицетворяет мощь необузданной стихии, которую испытывает на себе Гарин. После этого происшествия доктор уже не в состоянии противостоять обстоятельствам — его сердце наполняют страх смерти и безволие.
Заметим, что образ доктора в авторском замысле снижен, зато другой персонаж — Перхуша/Козьма —напоминает Игната из толстовской «Метели», который по отношению к природной стихии спокоен, даже весел, и когда в финале все спасены, мужик объясняет везение божьей помощью. Перхуша у Сорокина — православный человек, быстро понимает сверхъестественную природу метели как наваждение: «В буерак черт столкнул!». Позже замечает: «Знать, леший нас водит». Суеверно пугается, неожиданно встретив на пути погост, принимает это за недобрый знак.
Перхуша любуется своими лошадками, которые везут его самокат, их у него в коробе-капоре штук 50: они ростом с куропатку и стрекочут подобно сверчку. Цифра 50 ассоциативно связана с 50 лошадиными силами. Другая интерпретация может возникнуть у читателя, если он представит механизм из 50 шестеренок, двигающий полозья Перхушиного самоката — русских саней. Все эти нарушения реалистичности не должны восприниматься буквально, поскольку усложненные образы создаются целенаправленно для воплощения авторской идеи. Подобный эпатаж касается и галлюциногенных веществ, которые в современной прозе играют особую роль, — у Сорокина Гарин вместе с «казахами» принимает нечто химическое, что придает герою ощущение радости существования и подъема духа. И это тоже сложный образ, с помощью которого писатель показывает несовершенство человеческого сознания.
Перхуша, как и толстовские Никита и Игнат, во многом каратаевский тип героя, в нем Сорокин подчеркивает умиротворенность, кротость, смирение, сострадание, бесхитростность, бескорыстность. Некоторые критики в образе Перхуши даже подчеркивают ипостась блаженного, юродивого [5]. Антитеза барин и крестьянин, интеллигент и простой мужик, традиционный прием из русской классики XIX в., не должна в то же время уводить от главной характеристики русского человека: и Гарин, и Перхуша одинаково обладают совестливостью, чувством вины, состраданием к обиженным. Об этом свидетельствуют их сны, их воспоминания о прошлых событиях.
Однако в финале каждый из героев получает по заслугам, и это решение автора не лишено парадокса. Рыдающего Гарина с отмороженными ногами спасают какие-то китайцы и тащат в санный поезд размером с двухэтажный дом. В его жизни, как показывают последние слова в повествовании, наступает нечто «очень тяжкое, суровое, о чем он раньше и помыслить не мог» [10, с. 303]. А Козьму, напротив, ждет освобождение — смерть, с которой он уже давно примирился. Он награжден видением бабочки из детства: ее мертвая голова, прекрасная, «как ангел», с пением выносит его «в окно огня».
Финал повести Сорокина, будучи шокирующим моментом для читателя, вызывает недоумение. Читатель задается в частности вопросом: «Как объяснить частое появление в прозе Сорокина и в финале условных китайцев или казахов?». Возможно, объяснение можно получить, если обратиться к очевидному интертексту из толстовского рассказа «Хозяин и работник», в котором имеется упоминание о калмыцком кочевье, которое может спасти заблудившихся в метели. А может быть, обратиться к противоположной мысли, когда работник Никита ругает тех, кто замучил лошадь, и обзывает их: «Азиаты как есть!».
В сравнении сорокинского текста с рассказом Толстого «Хозяин и работник» ощутимы и разные дидактические установки. У классика финал нравоучителен: купец Брехунов, бросивший работника Никиту умирать в поле, пытающийся спасти только себя, не найдя дороги, возвращается назад, прикрывает своим телом и спасает от смерти Никиту, а сам замерзает, но уходит из жизни умиротворенным и просветленным. В. Сорокин сознательно уходит от идеологичности, нравоучительности и апеллирует к читательской активности: согласится ли читатель с автором или поспорит с ним.
Заключение
Повесть «Метель» В. Сорокина свидетельствует о том, что русская литература, не только классическая, но и современная, продолжает побуждать к размышлениям о судьбе, человеке, нашей истории. Опираясь на классику, с одной стороны, с другой — играя с ней, порой кощунственно, автор дает свою модель темы метели и стремится выделить активную роль себя как творца, создателя художественной вселенной.