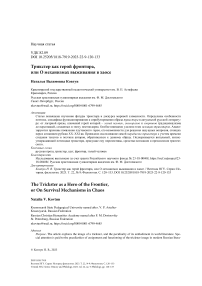Трикстер как герой фронтира, или о механизмах выживания в хаосе
Автор: Ковтун Н.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению фигуры трикстера в дискурсе мировой словесности. Определены особенности поэтики, специфика функционирования и атрибутирования образа трикстера в актуальной русской литературе: от лагерной прозы, ключевой герой которой - голый человек, скоморохов и озорников традиционализма до персонажей, созданных в эпоху постмодерна. Особое внимание уделено теме женщин-трикстеров. Анализируются причины появления плутовского героя, его возможности для решения насущных вопросов, стоящих перед сознанием рубежа ХХ-ХХI вв. Проведено исследование самой парадигмы трикстера с учетом времени создания текстов и поэтики авторов, обратившихся к данному образу. Подчеркивается витальный, жизнеутверждающий потенциал трикстера, присущие ему перспективы, средства осознания и преодоления трагического.
Русская проза, трикстер, шут, фронтир, голый человек
Короткий адрес: https://sciup.org/147242438
IDR: 147242438 | УДК: 82.09 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-9-120-133
Текст научной статьи Трикстер как герой фронтира, или о механизмах выживания в хаосе
В переломные моменты истории, когда дальнейшее развитие характеризуется как «взрыв», роль героев трикстерской парадигмы бесконечно возрастает. Ю. Лотман подчеркивает, что «взрыв» в поле культуры связан с инициативой, свободой творческой личности, его пособники – «великие художники, мыслители <…> и правители» [Лотман, 2001, с. 18]. В это время происходит разбалансировка системы, и явления, считавшиеся периферийными, выдвигаются в центр; девиантное поведение, табуированные ритуалы выходят из-под запретов. Отрицание традиций, ситуация неопределенности требуют героя, способного ориентироваться в хаосе, демонстрируя неистребимую витальность. Трикстер способен угадать новые, необычные пути становления общества, развернутые в непредсказуемое будущее, он соединяет противоположности, балансируя на границе своего и чужого . Эти качества и позволили ему стать одной из самых востребованных фигур в условиях цивилизационного кризиса. Такой герой принципиально чужд общине, привычно ориентированной на устойчивость нормы, неизменность как формы бытия: «Каждая культура создает свою систему “отброшенных”, изгоев – тех, кто в нее не вписывается и кого строгое системное описание просто исключает. Вторжение внесистемного в системное составляет один из важнейших источников превращения статической модели в динамическую» [Лотман, 2010, с. 41]. Подчеркнем: центральная проблема для философии языка, занимающая крупнейших мыслителей ХХ столетия, и есть проблема Чужого , вне размышлений о котором невозможно движение культуры. «Культурологический интерес последних десятилетий был направлен прежде всего на контакт с чужими культурами, на опыт “другого”, распространяющийся поверх символических, системных и культурных границ» [Кошорке, 2012, с. 31].
В различные периоды особенности воплощения образа трикстера меняются, сохраняя, однако, устойчивость ключевых характеристик. Среди важнейших из них: амбивалентность, неуловимость образа, ускользающего из известных культурных координат; витальность, связанность со стихией смеха; талант медиатора, путь которого соединяет различные языки и пределы; лиминарность, ситуативность трикстера, его принадлежность пространству дороги; талант лицедейства, оборотничества; связанность с сакральным контекстом, что можно считать определяющим в структуре образа. «Трикстер – предшественник Спасителя, и, подобно ему, он одновременно Бог, человек и животное. Он и недочеловек, и сверхчеловек, бестия и божество», – пишет К. Юнг (цит. по: [Радин, 1999, с. 276]). Связь со священным и отличает трикстера от банального жулика.
Результаты исследования
Трикстер как герой ситуации фронтира
В пределах западной культуры трикстер как литературный персонаж заявляет о себе в текстах великих авторов. В этом ряду роман Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532), затем на мировую арену вступают шекспировские шуты и ловкачи, легко манипулирующие своими господами. С точки зрения героя-игрока взрывной эпохи, тот, кто живет по законам ритуала, – глуп , а сам хитрец, с позиций своего оппонента, – коварен и бесчестен . В этой логике разворачиваются конфликты «глупого» рыцаря и «плута», «доброго крестьянина» и готового на обман, проделки торговца. Будучи свободными от ограничений морали, любых обязательств, трикстеры следуют своим, «кривым путем». Эпоха Просвещения, закончившаяся крахом веры в человеческие разум и добродетель, только усилила позиции игрока, признав за ним право не только выступать тенью , комическим двойником короля , но заменить его в сюжете. Достаточно назвать в этом ряду блистательного героя Бомарше – обаятельного пройдоху Фигаро, Вамбу – шута Седрика Сакса из исторического романа В. Скотта «Айвенго».
Модернизм с его отказом от традиции, приоритетом новизны, мифотворчеством, любовью к эксперименту и вовсе делает избранным персонажем смельчака, обаятельного лжеца, который и становится ключевой фигурой текста, что демонстрирует плутовской роман Т. Манна «Признания авантюриста Феликса Круля» (1954). В ситуации глобальной бифуркации системы герои и праведники неуместны, заранее обречены, но плут, проникающий через все преграды, обживающий перекрестки, способен устоять, демонстрируя неистребимую витальность. А. Битов не случайно назвал ХХ век «Ха-Ха» веком [Битов, 2000, с. 84]. Актуальная словесность, передающая трагическое самоощущение мира, движущегося к катастрофе, видит в трикстере, умеющем бросать вызов безысходности, смерти, свою последнюю надежду.
В европейской теории искусства вводят и новое понятие трикстер постмодерна на том основании, что ключевые черты трикстера (двусмысленность, языковая игра, непредсказуемость и неуловимость в традиционных координатах культуры) являются опорными и для эстетики постмодернизма в целом [Vizenor, 1990]. Современный поиск активного героя , способного ответить на вызовы времени, оказывается обречен без трикстера как испытателя самой этой возможности. Плут, ловкач, обживающийся на страницах сегодняшней прозы, безусловно, отличается от архаического собрата, наделен способностью к саморефлексии , не чужд философских поисков и чувства драматизма. Он выбирает гораздо более утонченные авантюры, отдавая себе отчет, что знак, маркирующий вещь, и сама вещь не одно и то же, в силу этого знания он может работать над перенастройкой сети знаков [Hyde, 1998, р. 171]. Современность с ее страхом перед будущим, атмосферой фарса и драмы актуализирует иной набор шуток трикстера, меняет само понимание комического , далеко не обязательно связанного со смехом, но чаще с безобразным, ужасным. Таковы «висельный юмор», смех, граничащий с наркотическим безумием, истерикой, абсурдом, уводящий за пределы этого мира: «Искусство фантасмагорий, восходящее к Гоголю, Щедрину и Терцу, стало миметично, если не сказать фотографично. Санкционированная сверху и не чуждая большинству (ир)реаль-ность стала (интер)текстом, превратившись в означаемое и поглотив референтную привязку эстетического знака» [Смола, 2020, с. 153].
Исследователи в области гуманитарного знания предупреждают: сегодня мы столкнулись с трагической двусмысленностью, когда самосознание и саморефлексивность игрока не позволяют однозначно судить, что является трюком, а с чем нужно считаться всерьез, т. е. в каких пределах можно искать хоть какой-то след смысла, истины, если вера в последнюю вообще жива. История трикстера в этих условиях профанируется, он исчезает, поглощённый двусмысленностью самого текста. П. Кэвеки свидетельствует, что колебания постмодернизма разыгрываются между позицией жреца и клоуна, когда первый - защитник сакрального, второй – профан, наблюдатель вне демиургических претензий. Вторичность эстетики постмодернизма, его «усталость» и нарочитость актуализируют параллель с буффонадой, шапито, но ритуальность жреческого жеста оборачивается парадоксом – «клоунский субъект постмодернизма представлен поведением жреца» [Kаwiecki, 1990, р. 101]. Запрет на поиск подлинного, следов смысла, как и признание множественности истин в игровой эстетике постмодернизма, влечет за собой целый спектр причин, в силу которых трикстер лишается главной отличительной черты – сакрального ореола!
Сегодняшняя обстановка исторического слома, цивилизационного выбора заставляет анализировать русскую и прежде всего американскую культуры в перспективе интереса к фигуре трикстера. Ситуация фронтира для понимания специфики становления, развития США – ключевая. Б. Гиленсон свидетельствует: фронтир – «важнейший фактор формирования таких ярко выраженных черт американского менталитета и национального характера, как свободолюбие, индивидуализм, оптимизм, трудолюбие, предприимчивость» [2003, с. 7]. Своеобразие американского фронтира в сравнении с европейским, связанным с укрепленными сооружениями в пределах городов, определено положением на ближнем крае свободных земель, его героями стали так называемые фронтирсмены , или «охотники», сознательно выбиравшие пространство риска. Самыми обсуждаемыми в этой парадигме стали приключения романтического, бесстрашного Нати Бампо, получившего множество прозвищ: Кожаный Чулок, Зверобой, Следопыт, а также истории реально существовавших Дэви Крокета (1786–1836) и Даниэля Буна (1734–1819). По экстравагантности сочиненных и подлинных авантюр, фокусов они легко могли бы составить соперничество знаменитому Мюнхгаузену. Всех названных персонажей объединяют типичные приметы неунывающего забияки, хвастуна и воина: авантюризм , витальность, бесстрашие, умение действовать по ситуации . Героям-трикстерам и сегодня ставят памятники, о них снимают фильмы, пишут книги, их именами названы дороги, лайнеры, парки и школы.
Трикстер в русской литературе ХХ–ХХI вв.
Несмотря на универсальность фигуры трикстера, она отмечена целым рядом оригинальных черт, связанных с воплощением образа в различных культурах и текстах. В отличие от европейской и американской традиций, где ключевыми стали миграционные вопросы, изживание травмы колониализма, особенности гендерной идентичности, транскультурной коммуникации [Anzaldúa, 1999, р. 25], – русская литература апеллирует к образам, мотивам, восходящим к фольклору и национальной классике. К народнопоэтической традиции возводят ряд типов, таких как Иван-дурак, скоморох , самозванец , «голый человек» : они отличаются друг от друга функционально и атрибутивно, но одновременно содержат устойчивый набор черт, позволяющий говорить о трикстерской парадигме . В известных отношениях с трикстером состоят «маленький человек», «лишний человек» и «подпольный человек», составившие узнаваемый ряд отечественной классики [Ковтун, 2022]. Для настоящей статьи актуально определение М. Липовецкого, понимающего под образом трикстера «не “молекулу” коллективного бессознательного, а всего лишь относительно устойчивую риторическую конструкцию, повторяющуюся в литературах и культурах различных эпох» [2009, с. 227].
Репутация трикстера как героя сегодняшней литературы укоренена в ряде исторических, социальных и художественных особенностей времени. Ю. Слезкин [2005] подчеркивает связь с меркурианством (отсылка к богу-трикстеру Гермесу-Меркурию), суть которой в знаковом интересе культуры модерна к Иному, Другому, к тем, для кого игра, авантюра становятся профессиональным признаком, – менеджерам, торговцам, продающим не столько предметы и вещи, сколько технологии соблазна, навыки манипулирования людьми. Многие художники-модернисты могут быть рассмотрены в трикстерской парадигме как те , кто игра- ет с языком, виртуозно обманывая публику (от В. Набокова до А. Синявского с его книгой «Иван-дурак», 1991). Понимая всю неоднозначность самого образа трикстера, мы признаем, что те или иные функции, черты, проявления героя образуют различные смысловые узоры в поэтике авторов. Трикстер приходит тогда, когда былые надежды разрушены, когда общество переживает глобальное разочарование в своих целях и возможностях, когда Святые оставляют образа, а богатыри гибнут под осколками Утопий. И только плут находит силы смеяться над собой и миром, остраняя прежние ценности (ритуал потлача), он одновременно открывает иные пути, которые совсем не обязательно ведут к миру и счастью, но обещают новое знание, постижение Другого.
Трикстер - порождение духа дионисизма, ряд исследователей пишут о его онтологическом статусе [Велижанцева, Першин, 2017, с. 239]. Плут, лицедей в отличие от традиционного шута гораздо более самостоятелен, способен на отчаянный риск, сакральную жертву, его стратегия - тайна для окружающих: «Этический элемент, а также тесная связь с монархом отличают шута от трикстера - никому не подвластного плута и пройдохи» [Отто, 2008, с. 222]. Миссия трикстера подлинно драматична, если за ним не следует герой-Демиург , для которого он и прокладывает дорогу. Открытие современности в известной мере связано с идеей трикстера , авантюрист, плут, игрок и намечает знаки новых онтологических границ, внутри которых развивается информационное общество. Трикстер и цивилизатор - два полюса современной картины мира.
Плутовские персонажи в дискурсе советского времени уже не раз становились предметом филологического анализа. Интерес к ним М. Липовецкий объясняет своеобразием «закрытого общества» (теория К. Поппера) в его советской модели. «В этом смысле трикстер как плавающее означающее всех противоречий советской “закрытости” становится пустым центром советской цивилизации. Без него советский мир и советская субъективность не могли бы функционировать так долго. И в то же время именно позиция трикстера создала тот критический вектор, который в конечном счете привел советскую цивилизацию к ее кризису и дезинтеграции» [Липовецкий, 2009, с. 239]. Девиантное поведение трикстера, его жесткие провокации обнажают иллюзорный характер социализма, где декорации, лозунги вытеснили подлинное бытие. Плут развивает стратегию негативной коммуникации , его усилиями сохраняется связь между мифологией власти, советской символикой и практиками самостояния «маленького человека» в пределах метрополии. Самые яркие трикстеры в прозе начала советской эпохи - герой авантюрного романа И. Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито» (1922), Беня Крик из «Одесских рассказов» (1923) И. Бабеля, Кавалеров из «Зависти» (1927) Ю. Олеши, плутовские персонажи И. Ильфа и Е. Петрова, сентиментальные герои М. Зощенко. На их фоне монументальные «новые люди» официальной словесности (от Павки Корчагина до ударников Вс. Кочетова), воплощающие идею стабильности бытия, поражают «одинаковостью», унылой предсказуемостью речей и действий. Пафос создания канонического образа «настоящего человека» снижается устной площадной речью шутов, занятых не политикой, но вопросами выживания, мелочами существования.
Образ « голого человека » в актуальной прозе
Русская проза рубежа ХХ-ХХ1 вв. - повествование о «голом человеке» , случайно уцелевшем на периферии мироздания, пережившим голод, нищету, тирании. И, вослед Ивану Денисовичу А. Солженицына, не знающего, где у него больше шансов уцелеть: в лагере или на так называемой воле. Сам образ «голого человека» в отечественной традиции восходит к фигуре Заточника («Азбука о голом и небогатом человеке», XVII в.), на первый план выдвигаются категории одиночества , униженности и оставленности [Ковтун, 2019]. Герой находится вне пределов человеческой культуры, главное, на чем сосредоточена такая литература, - проблемы онтологии, возможности существования на границе живого и мертвого, в кромешном мире . Не случайно уже упомянутые идеи позднего Ю. Лотмана рассматривают в парадигме рассуждений таких философов, как Д. Агамбен, А. Бадью и Ж. Рансьер. В конце
XX в. во Франции «формируется направление “эстетика исчезновения” (а применительно к текстам выживших узников лагерей – “эстетика Лазаря”)» [Ардамацкая, 2013, с. 137]. Его миссия – исследовать высказывания о лагерях смерти, преступлениях тоталитарных режимов, имевших место в XX в. Важнейшими инструментами рефлексии стали такие понятия, как «голая жизнь» , письмо , след , руина , призрак , отражающие картину гибели, истребления и исчезновения его следов. Тогда художественное Слово о «голом человеке», о лагерях и должно сохранить память , свидетельствовать [Агамбен, 2012].
В образе «голого человека», отмеченного приметами трикстера, подчеркиваются выносливость , привычка к физическому труду , бытовая смекалка. В вывернутом пространстве лагеря часто звучит смех, он порой и помогает выжить. Самыми известными героями «лагерной прозы» стали Иван Денисович Шухов А. Солженицына и зэки В. Шаламова. В образе крестьянина А. Солженицын подчеркивает приметы «голого человека», страдающего безвинно, запертого в изнаночном мире, и мастера, талант, выдержка которого помогают уцелеть. В. Шаламов, создавший «собственное богословие без Бога , собственную профанную мистику и теологию культуры» [Римский, Римская, 2020, с. 59], рассуждает об особом экзистенциальном опыте, полученном в лагере, в письме к Б. Пастернаку: «Состояние истощения, когда несколько раз за день человек возвращается в жизнь и уходит в смерть… Всё это – случайные картинки. Главное не в них, а в растлении ума и сердца, когда огромному большинству выясняется день ото дня всё четче, что можно, оказывается, жить без мяса, без сахару, без одежды, без обуви, а также без чести, без совести, без любви, без долга. Все обнажается , и это последнее обнажение страшно » [Шаламов, 2013, с. 67–68]. По мысли В. Шаламова, только «щит культуры» и «меч культуры» можно считать отличием человеческой «голой жизни» от природной «голой жизни», от мира животных.
Произведения начала ХХI в. свидетельствуют: «голый человек» по-прежнему остается в центре внимания авторов. Его принципиальный отказ от культурной нормы, от «голого Бога» утверждает силу кромешного мира как единственно возможного. На этом фоне стратегия героя-трикстера признаётся едва ли не универсальной, что и демонстрирует новая лагерная проза З. Прилепина, Г. Яхиной, Е. Водолазкина. Исследователи считают, что главная цель романа «Обитель» (2014) – «рассказать о человеке, о “голом” человеке, о его выборе» [Толмачева, 2016].
Герой здесь – классический трикстер, в его образе угадываются архаические, инфернальные приметы наготы и насилия . Нагота в лагере – один из ключевых признаков не только зеков, но и конвоиров, находящихся вне пределов пластической культуры, по ту сторону бытия. Голым оказывается сирота, живущий под нарами, он «был еще человеческого вида, только невозможно грязен и очень худ и, самое главное, почти гол» [Прилепин, 2014б, с. 110]. Раздевают зэков, приговоренных к карцеру, «оставляют только белье. Если белья нет – голый». Образ нищих духом, оставленных Богом нагих людей, собранных на Соловках, отсылает к временам первотворения , история лагеря смыкается с трагической историей человечества, открываясь в миф.
Главный герой романа попадает в лагерь не безвинно, на чем настаивала классическая лагерная проза, посвященная жертвам политических репрессий. Артем сидит за убийство отца, которого застал тоже голым: «…ужасно было, что он голый… Я убил отца за наготу», – признается он надзирательнице [Там же, с. 462]. Сцена корреспондирует с библейским сюжетом, когда Хам – сын Ноя – рассказывает братьям про опьянение и наготу отца в момент забытья (Быт. 9:22). Произошедшее трактуется как оскорбление Отца, на авторитет которого Хам посягает. В вещем сне Артем видит Бога голым и просыпается в ужасе: «Бог здесь голый. Я не хочу на голого Бога смотреть. Бог на Соловках голый. Не хочу его больше. Стыдно мне» [Там же, с. 664]. Отречение героя от голого Бога, созданного им мира перекликается с идеями Раскольникова, Ивана Карамазова, Смердякова. Картины насилия, убийства открывают и завершают роман. Артем, в образе которого приметы витальной силы совмещаются с инфернальными, гибнет тоже голым. В интервью газете «Ведомости» З. Прилепин резюмирует судьбу героя: «Почему он голый в финале романа? Как он шел по жизни голый, так и умер голый. <...> Он голый не потому, что он без свойств, а потому, что он со всеми свойствами одновременно» [Прилепин, 2014а, с. 8]. Образ голого Бога связан в тексте и с мотивом «изношенности» прежних ценностей. Кощунственный смех трикстера над Абсолютом, вызывающий содрогание, ужас, «свидетельствует не о потере веры, но, скорее, о том, что бог “износился”» [Кереньи, 1999, с. 261]. Мотивы драк, наготы, переодеваний создают в романе трагифарсовую атмосферу, которую, по мысли автора, может преодолеть только вера. «Как много в природе страшного, смертельного, ледяного. Как мало умеет голый человек», - заключает нарратор [Прилепин, 2014б, с. 510]. Так повествование о лагерном бытии, соскальзывающем в бездны жестокости, безумия, абсурда, начинает остранять кромешный мир из горизонтали профанного в вертикаль метафизического.
Е. Водолазкин в романе «Авиатор» (2016) продолжает тему тирании и жертвы. Герой здесь - интеллектуал, он принципиально отличен от зеков З. Прилепина, движимых эмоциональным порывом, инстинктом. Иннокентий становится объектом экспериментов спецслужб по преодолению смерти - новым Лазарем , который и движется по спирали времени. Текст вписывается в экзистенциальную традицию «лагерной прозы», означенной именами В. Гроссмана, В. Шаламова, Ю. Домбровского. В тюремной больнице, где вперемежку лежат живые и мертвецы, героя настигает полное равнодушие к собственной судьбе: «Лежим на плотно сдвинутых нарах. Постельного белья нет, голые доски. И мы - голые - нательного белья тоже ведь ни у кого нет» [Водолазкин, 2016, с. 67]. Кромешный мир уже не пугает, напротив, с голыми, мертвецами надежнее: «Он лежит, а тебе даже спокойно - не вскрикивает, руками не размахивает», - размышляет герой [Там же, с. 68]. В отличие от персонажа З. Прилепина, герой Е. Водолазкина получает, однако, шанс изменить гибельную судьбу. Иннокентий остается в самолете, замершем в небе перед катастрофой, его история разворачивается в Вечность. И в романе Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» (2015) сын главной героини - умница Юзеф - мечтает уйти с обреченной земли, где жизнь мало чем отличается от лагерной. Перед побегом он становится Другим , «голым человеком». «Так пусть идет, пустым», - дает совет опытный военный, друг матери. Юноше помогают сменить документы и буквально нагим , без одежды, еды, в утлой лодочке он отправляется из пределов смерти к иным берегам: «Никто не заметил их исчезновения. Только истрескавшиеся желто-бурые черепа на покосившихся копьях неотрывно смотрели вслед всепонимающим взглядом черных глазниц» [Яхина, 2016, с. 501].
В «долгие семидесятые», параллельно «лагерной прозе», трикстер осваивается и на страницах традиционализма . Нищий, голый, «маленький человек», случайно выживший на периферии советских строек, заявляет о себе в текстах Б. Можаева, В. Шукшина, В. Распутина, Б. Екимова вплоть до М. Тарковского с его чудаками и куражливыми алкоголиками. Такой персонаж сосредоточен на деталях быта, жаждет обрести собственную «шинель», чтобы укрыться от ужаса настоящего. Он зачастую выполняет социальные функции, будучи тесно связан с мелочами существования. Роль героя внутри советской повседневности ближе к классическому шуту , который пытается переиграть, заговорить власть. С этой задачей блестяще справляется уже Федор Кузькин из повести «Живой» (1964-1965) Б. Можаева. В названной парадигме чудики В. Шукшина, осваивающие пределы цивилизации, попадающие в трагифарсовые ситуации, вынужденные обживать перекрёстки, вокзалы как границы деревенской и городской жизни [Ковтун, 2011].
Парадигма героев-трикстеров традиционализма включает и схему «король - шут» в ее устойчивом разрешении, что демонстрируют отношения главы района Подрезова и плута Егорши Ставрова в тетралогии Ф. Абрамова «Братья и сестры» (1958-1978). В этом варианте трагический уход с политической сцены господина обрекает на прозябание, гибель и шута. Отличительными чертами советского трикстера называют социальность, прагматику, умение манипулировать советскими идеологемами и языковыми клише. Важно, что «деревенская проза» возрождает интерес и к староверческой культуре, к образам скитальцев и юро- дов, глубоко укорененным в национальном сознании. Г. П. Федотов подчеркивает: «Юродивый так же необходим для Русской Церкви, как секуляризованное его отражение - Иван-дурак - для русской сказки» [Федотов, 2003, с. 162-163]. В этом ряду интересны фигуры праведников в текстах Ф. Абрамова, матёринский Богодул В. Распутина, насельники легендарного Беловодья в одноименном романе В. Личутина, жители старообрядческих сел в рассказах М. Тарковского. Образ классического трикстера - Сени Позднякова - появляется в поздней прозе В. Распутина, в целом не склонного к поэтике смешного. Автор, осознающий писательский дар как пророческий, стремится угадать нового культурного героя, перспективы которого дано испытать ловкачу, плуту. Само появление Сени, чье бездыханное тело сносят с белого парохода (символ мечты, будущего) и оставляют в заброшенной деревенской баньке, парадоксально. Образ отличают витальность, нездешность, связь с природным миром, вплоть до оборотничества, но с задачей сказочного избавителя герой не справляется, отдает девочку-ангела ее мучителям (рассказ «Нежданно-негаданно», 1997). Писатель возвращается к ценностным ориентирам своих ранних текстов, признавая за бабой-воительницей искупительную и освободительную функции.
Трикстеры и трикстары эпохи (пред)постмодерна
Целый ряд специалистов называют эпоху постмодерна царством трикстера, стратегия которого отвечает запросам времени. Нам кажется это верным лишь отчасти. Игра, плутовские проделки героя успешны исключительно в перспективе идущего за ним цивилизатора , вне этого миссия трикстера обречена. Проза «потерянного поколения» демонстрирует богатый спектр возможностей, но и провалов героя-авантюриста как испытателя Будущего. Один из ключевых в данной парадигме - образ Петровича из романа В. Маканина « Андеграунд, или Герой нашего времени» (1998), за плечами которого угадываются известные шуты , игроки русской классики: от Акакия Акакиевича, соблазнившегося новой шинелью, господина Чичикова, желающего прибрать к рукам «мертвые души», до современных дельцов, легко отправляющих под топор не только «вишневые сады», но и сами усадьбы вкупе с их обитателями. Бытие Петровича на пороге чужих квартир и судеб, где он всегда только гость, превращает его в идеального Свидетеля . Позиция профессионального писателя, демонстративно отказавшегося от Слова, уклонившегося от великого литературного Канона, исключительна сама по себе. Игра, зачастую жесткая и опасная, становится стратегией героя, ирония - способом самовыражения. Дорога Петровича, петляющая между новенькими особняками, общежитиями, тоннелями метро, элитными кафе и психушкой, остается единственной нитью, объединяющей разные слои и общественные страты. Движение трикстера есть и путешествие в пределах мировой библиотеки, между строчками великих текстов, чей пророческий статус жестко скомпрометирован. В финале романа в облике героя проступают хищные , волчьи черты, его утонченный двойник-художник - брат Веня - остается в Лабиринте-психушке. Автор иронически примеряет к избранному герою миссию Гоголя, на которой настаивал В. Розанов, - «толкнуть» Россию в XXI в., с чем соотносится философия «толчка», или «удара», структурирующая текст [Ковтун, 2021]. Трикстер в прозе конца XX в. становится жёстче , рациональнее своих предшественников, он наделен высоким уровнем саморефлексии , блестящим интеллектом , творческим даром , что позволяет не просто ориентироваться в ситуации, но брать инициативу в свои руки.
Настоящий апофеоз славы переживает герой-плут в лучших текстах Л. Улицкой: от образов гениальных художников в повестях «Сонечка» (1993), «Веселые похороны» (1992-1997) до великой Медеи («Медея и ее дети», 1996) и мудрого Шурика («Искренне Ваш Шурик», 2003), в судьбе которых очевиден интригующий набоковский код. Трикстер здесь осознает пророческий дар, выступает уже в функции посвященного , вестника . Сама писательница апеллирует к его опыту, пытаясь разрешить проклятые вопросы бытия: что есть Бог , вера , любовь. «Претензии художника состоят в том, чтобы включить “голую жизнь” в сферу своей власти, художественно присвоить ее, наделив формой, значением и смыслом» [Саморукова,
Поздняков, 2020, с. 230]. В контексте драматичных сюжетов произведений комизм трикстера нивелируется, его путь онтологизируется, связывается с общей судьбой человечества. Вослед В. Маканину, показавшему в «Андеграунде...» богатый спектр женщин-трикстеров ( trickstar ), названных британским литературоведом М. Юрич «сестрами Шехерезады», современные авторы готовы признать за трикстарами исключительные возможности. М. Юрич выстраивает типологические параллели между образами древних сказочниц и лукавыми современницами, отстаивающими свои права в мире маскулинных ценностей, умеющих «трансформировать опасную ситуацию в свои преимущества», прибегая к трюку, соблазну [Jurih, 1998, р. 28-65]. В этом ряду хитроумные героини Л. Улицкой, Л. Петрушевской, Т. Толстой, Д. Рубиной, легко решающие сложные вопросы, немногими доступными им средствами. Фигуры трикстар соположены образу Слова, отмечены даром, их стратегия ситуативна , провокативна , что открывает неожиданные перспективы, делает героинь неуловимыми для властей и бытовой прозы.
Роман «Кысь» (2000) Т. Толстой в известном смысле завершает эпоху отечественного ли-тературоцентризма. Текст повествует о мире-балагане , в котором, кроме шутов и трикстеров, вообще никого нет. Выбор автора соответствует духу барочной литературы «перевернутого мира» , здесь у персонажей-голубчиков отрастают гребешки, рожки и вымя, ездят на людях-перерожденцах, птицы идут на «каклеты» обитателям Терема - так «низ», желудок, вытесняет и заменяет «верх». Коль скоро в тексте иронизируется структура романа воспитания , то его главный персонаж наделен древнейшим признаком трикстера - ювенальностью , над площадным словом Бенедикта смеются куда дольше, чем над его проделками. Образ вбирает характерные черты Ивана-дурака , скомороха и «маленького человека» русской классики. Одной из архетипических моделей для понимания образа остается «голый человек» , смешной и жалкий, однако смех над ним - смех сквозь слезы. Голым герой видит себя и в пророческих снах: «И входит Бенедикт в горницу, а там семья. За столом сидят и смотрят... Лаптями елозят. И смотрят так сурово, с осуждением, али гневом на Бенедикта. Бенедикт тоже смотрит - а он голый» [Толстая, 2000, с. 199]. Герой, чье движение определено поиском единой Книги бытия, плутает между книжными завалами Всемирной библиотеки, за пределами которой никого и ничего нет - дикие леса да нечисть. Проводником по этому миру и становится пушкин-кукушкин , в образе поэта очевидны трикстерские черты. Имя Пушкина избрано не случайно, символизирует ряд важнейших событий в отечественной истории, с ним связано открытие контракта с Другим - культурой Европы. Образ поэта получает множество интерпретаций, оказывается фактически неуловим, выступает одним из механизмов создания литературного Канона. Роман, начавшийся в стилистике анекдота и апокалипсиса одновременно, заканчивается апофеозом звучащего поэтического Слова , свободного от тирании письма, ставшего оправданием Бытия в целом.
В высшей степени показательна роль героя-трикстера в романе Е. Водолазкина «Соловьев и Ларионов» (2009). Текст подчеркнуто ориентирован на знаковые произведения как западноевропейских мастеров (от Х. Л. Борхеса, М. Фуко до У. Эко и К. Рансмайра), так и отечественных авторов (от В. Сорокина до Т. Толстой). Роман построен на мотиве «загадки рукописи» белого генерала Ларионова, оставленного красноармейцами в живых после захвата Крыма, обороняемого его армией. По следам аристократа-интеллектуала идет аутсайдер, новичок-аспирант Соловьев, который пытается собрать все данные о герое, чтобы разгадать его тайну. Само движение вослед генералу, собирание городского фольклора, свидетельств очевидцев о его бытии, превращает Соловьева в двойника, трикстера, истинное осуществление которого начинается с момента приобщения к загадочному «проекту» генерала. Кроме аспиранта записки, дневник героя ищут, обсуждают представители научного сообщества (имена которых отсылают к известным историкам, литераторам), его знакомые и близкие. Судьбы персонажей как толкователей рукописи объединяет, отражает (иронически или трагически) история мудреца-генерала, из наблюдателей они превращаются в активных участников «проекта». Так переплетаются истории Российской Империи, Советской России и на- стоящее конца ХХ в., каждая эпоха становится зеркалом, отражающим то иронически, то саркастически прошлое и будущее. Важнейшие проблемы романа – столкновение жизни и смерти, Белой и Красной армий, культуры и разрушительной стихии революции, террора. В единый узор события истории выстраивает путь генерала Ларионова, сумевшего обыграть представителей ЧК и поставить идеальный спектакль, когда эвакуированных жителей южного города заменяют бойцы Белой армии, которым даруется новая жизнь и судьба. Текст разыгрывается по принципам театра, цирка, музея, образы действующих лиц подсвечены персонажами мировой классики (от героев «Мертвых душ», «Вия», «Робинзона Крузо» до представителей булгаковской нечисти). Сюжет разворачивается то на фоне архитектуры городов Крыма, то в отражении древней Спарты или Notre Dame de Paris. Трюк, фокус генерала, восстановившего по памяти картину города своего детства, спасает сотни жизней, обеспечивает ему славу в веках.
Заключение
Итак, сегодня в мировой литературе образ трикстера «востребован прежде всего в силу его амбивалентности и лиминальности», что отвечает условиям «кризисного времени» [Колмакова, 2014, с. 58]. Подчеркнутая актуальность фигуры плута связана в том числе и с усталостью от скептической, «вторичной» культуры постмодернизма, с тем грузом разочарований и бед, который лежит на плечах современного человека и который трикстер может ослабить. Искренний смех приносит облегчение, переживший его «в сознании, во взгляде на мир – изменился, сбросил с души, пусть на время, коросту страха и унылой обреченной серьезности. У подобного праздничного смеха важная терапевтическая функция, сильный катартический эффект» [Назинцев, 1997, с. 37]. Однако в ситуации тотальной игры, бесконечных метаморфоз трикстер погибает, «распадается на множество “симулякров” (Ж. Бодрийяр), пародирующих отсутствующую реальность» [Чернявская, 2004, с. 45]. Потребность в трикстере, очевидная в литературе начала ХХI столетия, есть выражение и тоски по идеалу , культурному герою , за плечами которого обязательно маячит силуэт в колпаке с бубенцами. «Востребованным в современной прозе оказался пограничный характер образа Чичикова, существующего между функциями спасителя и искусителя, пророка и трикстера» [Баль, 2017, с. 162]. Трикстеру теперь, чтобы остаться, продолжить роковую игру, нужен собственный остров , какое бы воплощение он не имел: фантазия , текст , дневник , осколок затерянной земли , где он сочинит историю уже собственных приключений, соблазнив в дорогу нового героя-смельчака. Не случайно в паре с Чичиковым по популярности сегодня оказывается Робинзон Крузо!
Список литературы Трикстер как герой фронтира, или о механизмах выживания в хаосе
- Агамбен Д. Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель [пер. с итал.: И. Левиной, О. Дубицкой, П. Соколова]. М.: Изд-во «Европа», 2012. 189 с.
- Ардамацкая Д. А. Варлам Шаламов и поэтика после ГУЛАГа // Вестник Ленинград. гос. ун-та имени А. С. Пушкина. 2013. № 2. С. 137-143.
- Баль В. Образ Чичикова в современной русской прозе // Вестник Том. гос. ун-та. Филология. 2017. № 49. С. 147-167.
- Битов А. Перепуганный талант, или Сказание о победе формы над содержанием // Звезда. 2000. № 10. С. 84-88.
- Велижанцева А. Д., Першин Ю. Ю. К определению функциональной роли трикстера // Омские социально-гуманитарные чтения - 2017: Материалы X Междунар. науч.-практ. конф / Oтв. ред. Л. А. Кудринская. 2017. С. 233-240.
- Водолазкин Е. Авиатор: Роман. М.: Издательство АСТ, 2016. 410 с.
- Гиленсон Б. А. История литературы США: Учеб. пособие. М.: Академия, 2003. 706 с.
- Кереньи К. Трикстер и Древнегреческая мифология // Радин П. Трикстер: Исслед. мифов североамер. индейцев с коммент. К. Г. Юнга и К. К. Кереньи. СПб.: Евразия, 1999. С. 242-264.
- Ковтун Н. В. Богоборцы, фантазеры и трикстеры в поздних рассказах В. М. Шукшина // Литературная учеба. 2011. № 1. С. 132-154.
- Ковтун Н. «Голый человек» А. Солженицын на фоне «новой лагерной прозы»: pro et contra // Филологический класс. 2019. № 2 (56). С. 157-168.
- Ковтун Н. Образ трикстера в романе Владимира Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» // Literatura. 2021. № 63 (2). С. 172-191.
- Ковтун Н. Трикстер как герой нашего времени (на материале русской прозы второй половины ХХ - ХХI века): Монография. М.: Флинта, 2022. 408 с.
- Колмакова О. Художественная концепция кризисного времени в русской прозе рубежа XX-XXI вв. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2014. 256 с.
- Кошорке А. К вопросу о принципе действия культурной периферии // НЛО. 2012. № 3 (115). С. 31-40.
- Липовецкий М. Трикстер и «закрытое» общество // НЛО. 2009. № 6 (100). С. 224-245.
- Лотман Ю. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб, 2001. 703 с.
- Лотман Ю. Непредсказуемые механизмы культуры. Таллин: TLU Press, 2010. 232 с.
- Назинцев В. В. Смеховая синергетика мира // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1997. № 1. С. 34-60.
- Отто Б. Дураки. Те, кого слушают короли / Пер. с англ. З. Фиалковского. СПб.: Азбука-классика, 2008. 491 с.
- Прилепин З. Интервью. Российский писатель о романе, Соловках и о том, почему не нужно никого прощать // Ведомости. 2014а. 18 апр. С. 8.
- Прилепин З. Обитель: Роман. М.: Издательство АСТ, 2014б. 745 с.
- Радин П. Трикстер: Исслед. мифов североамер. индейцев с коммент. К. Г. Юнга и К. К. Кереньи. СПб.: Евразия, 1999. 286 с.
- Римский В., Римская О. Философская проза В. Шаламова // Наука. Искусство. Культура. 2020. Вып. 4 (28). С. 45-63.
- Саморукова И., Поздняков К. «Голая жизнь» как объект манипуляции в романе Ю. Олеши «Зависть» // Миргород. 2020. № 1 (15). С. 220-230.
- Слезкин Ю. Эра Меркурия: евреи в современном мире / Пер. с англ. С. Б. Ильина. М.: НЛО, 2005. 540 с.
- Смола К. Что такое путинский магический реализм? // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2020. № 4. С. 150-157.
- Толмачева О. Правда о «голом человеке» (по роману З. Прилепина «Обитель») // Концепт: Научно-методический электронный журнал. 2016. Т. 42. С. 83-87. URL: http://e-koncept.ru/2016/56960.htm (дата обращения 17.08.2020).
- Толстая Т. Кысь: Роман. М.: Подкова: Иностранка, 2000. 380 с.
- Чернявская Ю. Трикстер, или Путешествие в Хаос // Человек. 2004. № 3. С. 37-52.
- Шаламов В. Т. Собр. соч.: В 6 т. + т. 7, доп. / Сост., подгот. текста, примеч. И. Сиротинской. М.: Книговек, 2013. Т. 6: Переписка. 603 с.
- Федотов Г. Святые и святость Древней Руси. М.: Издательство АСТ, 2003. 700 с.
- Яхина Г. Зулейха открывает глаза. М.: Издательство АСТ, 2003. 508 с.
- Anzaldúa G. Borderlands / La Frontera: The New Mestiza. San Francisco: Spin-sters / Aunt Lute, 1999. 252 p.
- Hyde L. Trickster Makes This World: Mischief, Myth, and Art. New York: North Point Press, 1998. 417 р.
- Jurih M. Scheherazade’s Sisters: Trickster Heroines and Their Stories in World Literature. (Contributions in Women s Studies). Publisher: Praeger, 1998. 312 p.
- Kаwiecki Р. Post-modernism - from Clown to Priest // The Subject in Postmodernism. 1990. No. 2. P. 100-101.
- Vizenor G. The Heirship Chronicles. Minneapolis: Uni. of Minnesota Press, 1990.