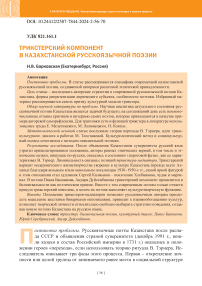Трикстерский компонент в казахстанской русскоязычной поэзии
Автор: Барковская Н.В.
Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil
Рубрика: Литературоведение. Русская трикстериада: герои и антигерои в зеркале времени
Статья в выпуске: 2 (27), 2024 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. В статье рассматривается специфика современной казахстанской русскоязычной поэзии, создаваемой авторами различной этнической принадлежности. Цель статьи - исследовать авторские стратегии в современной русскоязычной поэзии Казахстана, формы репрезентации лирического субъекта, особенности поэтики. Избранный материал рассматривается сквозь призму культурной модели трикстера. Обзор научной литературы по проблеме. Научная аналитика актуального состояния русскоязычной поэзии Казахстана является задачей будущего, на сегодняшний день есть немногочисленные отзывы критиков и интервью самих поэтов, которые привлекаются в качестве примера авторской саморефлексии. Для трактовки сути и функций трикстера в литературе использовались труды Е. Мелетинского, М. Липовецкого, Н. Ковтун. Методологической основой статьи послужили теория перехода В. Тэрнера, идеи транскультурного диалога в работах М. Тлостановой. Культурологический метод и социокультурный подход сочетаются с методом описательной поэтики. Результаты исследования. После объявления Казахстаном суверенитета русский язык утратил привилегированное положение, авторы разных этнических корней, в том числе и этнические казахи, пишущие по-русски, оказались в состоянии «пороговой фазы», как ее характеризовал В. Тэрнер. Лиминальность связана с позиций трикстера-медиатора. Трикстерский вариант модернистского жизнетворчества укоренен в культуре Казахстана (прежде всего Алматы) благодаря вольным и/или невольным поселенцам 1930-1950-х гг., самой яркой фигурой в этом отношении стал художник Сергей Калмыков - поклонник Хлебникова, чудак и маргинал. В поэзии Павла Банникова, Ануара Дуйсенбинова трикстерский компонент проявляется в билингвальности как поэтическом приеме. Вместе с тем современным поэтам только отчасти присущ трикстерский комплекс, в целом их поэзия выполняет культуротворческую функцию.
Трикстер, билингвальная поэзия, культурный диалог, павел банников, юрий серебрянский, ануар дуйсенбинов
Короткий адрес: https://sciup.org/144163141
IDR: 144163141 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.24412/2587-7844-2024-2-56-70
Текст научной статьи Трикстерский компонент в казахстанской русскоязычной поэзии
остановка проблемы. Русскоязычные поэты Казахстана после распада СССР и объявления страной суверенитета (декабрь 1991 г., вошли казахи в состав Российской империи в 1731 г.) оказались в положении героев «перехода», если использовать теорию ритуала В. Тэрнера. Исследователь описывает три фазы этого процесса. Первая - открепление личности или целой группы от занимаемого ранее места в социальной структуре и от определенных культурных обстоятельств. Вторая фаза – «лиминальный» период – является промежуточной; в ней «переходящий» субъект получает черты двойственности, поскольку пребывает в той области культуры, у которой очень мало или вовсе нет свойств прошлого или будущего состояния. Третья фаза – восстановительная – завершает переход. «Переходящий» вновь обретает стабильное состояние и благодаря этому получает права и обязанности «структурного» типа, которые вынуждают его строить свое поведение в соответствии с обычными нормами и этическими стандартами. Согласно Тэрнеру, «переходящий» субъект получает черты двойственности [Бейлис, 1983, с. 17].
Русский язык в Казахстане в постсоветский период утратил привилегированное положение. Это вполне понятная реакция этнического большинства на предшествующую политику русификации. Но у разговорной речи и у поэзии есть свои закономерности развития, нередко в полиэтнических регионах формируется особый «гибридный» язык. Ануар Дуйсенбинов пишет в стихотворении «Тiлечь» («тiлi» + «речь») о том, как пятилетний мальчик слышал вокруг себя русские слова вперемешку с казахскими и когда вырос, считал свою манеру говорить естественной, однако «языковая среда в которой он вырос / как истеричка выдавала ему новые правила поведения каждый день», «пропаганда вдолбила его родителям идею казахского языка / забыв при этом вдолбить сам казахский язык». В результате «тiлечь его не течет, но дергается пряча искорки мыслей за междометиями» [Дуйсенбинов, 2022, с. 19–21].
Цель статьи – исследовать авторские стратегии в современной русскоязычной поэзии Казахстана, формы репрезентации лирического субъекта, особенности поэтики. Избранный материал рассматривается сквозь призму культурной модели трикстера.
Анализ научной литературы. Как характеризуют сейчас свою идентичность русскоязычные поэты Казахстана? Юрий Серебрянский1 в статье «В мире и нигде», содержащей обзор литературного процесса в новом Казахстане вплоть до 2023 г., подчеркивает, что писательские идентичности часто размыты, находятся в процессе перемен, при этом «русскоязычная (русофонная) глобальная поэтическая среда давно создана и работает» [Серебрянский, 2023]. С ним солидарен
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 2 (27)
Павел Банников2: «Мне кажется, есть еще одна общая черта у казахстанских поэтов – это обращенность вовне, незамкнутость поэтического сознания на географии, осознание того, что работа идет не на уровне “лучший поэт города/страны/ региона”, а в несколько более широком пространстве…» [Банников, 2014].
Такая открытость для взаимодействий, стремление моделировать собственное культурное пространство предполагают общность равных личностей, т.е. состояние «коммунитас» (неструктурированное состояние общности, по Тэрне-ру), что характерно как раз для второй – лиминальной – фазы перехода [Тэр-нер, 1983, с. 170] . Тэрнер пишет: «Свойства лиминальности или лиминальных personae («пороговых людей») непременно двойственны, поскольку и сама ли-минальность, и ее носители увертываются или выскальзывают из сети классификаций, которые обычно размещают “состояния” и положения в культурном пространстве. Лиминальные существа ни здесь ни там, ни то ни се; они – в промежутке между положениями…» [Тэрнер, 1983 с. 169] . Лиминальные personae («пороговые люди») обнаруживают черты трикстера.
Уже в мифах творения наблюдалось совмещение в одном лице культурного героя и трикстера – вопреки мелочной регламентации и тотальной обусловленности [Мелетинский, 2001, с. 113]. М. Липовецкий полагает трансгрессию – нарушение границ и переворачивание социальных и культурных норм – важнейшим методом трикстера, а лиминальность и артистизм – необходимыми качествами [Липовецкий, 2009].
Важной представляется мысль Н.В. Ковтун об исторической изменчивости литературных типов трикстера. Предваряя свое исследование, она ставит задачу: «Следует рассмотреть жизнеутверждающий, витальный потенциал образа, присущие ему возможности, средства осознания и представления трагического. Выявить изменения самой парадигмы трикстера от эпохи к эпохе, от текста к тексту, подчеркнув особенности, актуальные в каждый из культурных периодов» [Ковтун, 2022, с. 6].
Методологической основой статьи послужили теория перехода В. Тэрнера, идеи транскультурного диалога в работах М. Тлостановой. Культурологический метод и социокультурный подход сочетаются с методом описательной поэтики.
Результаты исследования . Состояние лиминальности для русскоязычных поэтов Казахстана исторически обусловлено: русские селились здесь не только в период советских строек, освоения целины или по вузовскому распределению.
Значительная часть поселенцев оказывались в Казахстане не по своей воле – поволжские немцы, поляки, корейцы, а также политзаключенные или трудармейцы, – превращая Казахстан в полиэтнический регион, где проживают представители 125 национальностей. В конце 1950-х гг. в Казахстане русское население составляло почти 43 %, в то время как казахов было лишь 30 % [Фатланд, 2018, с. 175]. Русский язык был языком межнационального общения. После 1991 г. доля русских значительно сократилась, сейчас 70 % населения составляют казахи.
История ХХ в. знает удивительные примеры того, как поселенцы успешно адаптировались к новой культурной среде, становясь признанными в Казахстане художниками, писателями, режиссерами. Театральный и кинорежиссер Игорь Гонопольский снял кинотрилогию о судьбе художников из России, работавших в Казахстане в 1930–1960-е гг.: фильмы о Павле Зальцмане, Исааке Иткинде и Сергее Калмыкове. Павел Зальцман (1912–1985), немец по отцу и еврей по матери, прожил в Алма-Ате 43 года. Как пишет Рамиль Ниязов-Адылджян, советская власть отобрала у Зальцмана одну родину, но случайно взамен подарила другую. В 1963 г. Зальцман стал заслуженным деятелем искусств Казахстана [Ниязов-Адылджян, 2024].
Через творческую интеллигенцию проникали в Казахстан (прежде всего Алма-Ату) традиции модернистского жизнетворчества и авангарда первой трети ХХ в. Так, Зальцман был учеником П. Филонова в живописи и Д. Хармса в поэзии. Эти традиции противостояли официозу искусства социалистического реализма, заложив основу эстетической независимости и для более молодой генерации авторов. Самый известный современный казахский поэт Бахыт Кенжеев, писавший на русском языке, эмигрировавший в 1982 г. в Канаду, затем перебравшийся в Нью-Йорк, познакомил в свое время алматинских поэтов с исканиями группы «Московское время». В 2009 г. в Алматы стартуют литературные курсы ОЛША (Открытой литературной школы Алматы имени Ольги Марковой). Филолог Ольга Борисовна Маркова, хрупкая, прикованная к инвалидной коляске женщина, обладавшая огромной волей и обаянием, вела литературные курсы с 1999 по 2008 г., почти до самой своей смерти (она прожила всего 44 года), воспитала целую плеяду новых поэтов, прозаиков, редакторов, драматургов, о чем с восхищением и благодарностью вспоминают многие из ее бывших учеников, составивших «новую волну» казахстанской культуры. Ольга Борисовна стала основателем и президентом отечественного общественного фонда развития культуры и гуманитарных наук «Мусагет», начав свой «Серебряный век» в только что обретшей суверенитет стране [Галкина, 2023]. Павел Банников свидетельствует: «Не преувеличу, если скажу, что в том числе благодаря ей культурный ландшафт Алматы и – шире – Казахстана сохранил открытость и жизнь» [Галкина, 2023].
Стать «своим среди чужих» (а нередко и спастись от политических преследований) помогал артистизм, порой переходящий в чудачество. Шутовская трикстерская роль в наиболее яркой форме проявилась в поведении художника Сергея Калмыкова, которого можно назвать культовой фигурой в современной культуре Казахстана.
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 2 (27)
Сергей Калмыков (1891–1967) в 1910-е гг. жил в атмосфере петербургского модернизма, учился в мастерской М. Добужинского и К. Петрова-Водкина. После революции 1917 г. вернулся в родной Оренбург, участвовал в оформлении революционных праздников, общественных зданий, читал лекции по истории искусства, принимал участие в художественных выставках. В 1935-1962 гг. работал театральным художником в Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая. По словам искусствоведов, Калмыков превращал декорации в красочные феерии. Театрализация захватывала всю его жизнь, а сценой становились улицы Алма-Аты. Поклонник Велимира Хлебникова, Калмыков запомнился алматинцам как чудак, отшельник, маргинал, сумасшедший.
В последние годы жизни, нуждаясь в деньгах, Калмыков вел аскетический образ жизни, фактически голодал, продолжая много работать. Вот свидетельство одной из многочисленных публикаций о художнике: он «писал на всем, что попадалось под руку, это мог быть кусок картона, газетный лист, бумага, книжная обложка. Свои произведения он не продавал, не предлагал галереям, а складывал их в своей однокомнатный квартире. (_) он вел дневники, в которых охарактеризовал себя как “Гений I ранга Земли и Галактики”» [Каштелюк, 2020]. Фильм Го-нопольского о С. Калмыкове так и называется - «Это я вышел на улицу!». Видимо, стремление выносить искусство на улицы и площади, в толпу сохранилось у Калмыкова с авангардистских 1920-х гг.
Трудно сказать, насколько такой имидж был защитной маской в годы сталинских репрессий и хрущевского неприятия «формализма», а насколько отвечал внутренним установкам художника на жизнетворчество. Он рисовал вполне реалистические, напоминающие Добужинского пейзажи, проникнутые лиризмом. Такова, например, картина «Театр оперы и балета в Алма-Ате» (1947). Но в целом его творчество тяготеет к гротеску, цель которого - не осмеяние, а «остране-ние» бытового взгляда на окружающее, ведь ему самому жизнь представлялась торжественным праздником Космического Бытия. Его метод условно называют «фантастическим экспрессионизмом » [Чудиновская, 2021, с. 80].
Образ Калмыкова запечатлел Юрий Домбровский в романе «Факультет ненужных вещей» (1964–1975):
Зыбин этого чудака уже знал. (…) Когда художник появлялся на улице, вокруг него происходило легкое замешательство. Движение затормаживалось. Люди останавливались и смотрели. Мимо них проплывало что-то совершенно необычайное: что-то красное, желтое, зеленое, синее – все в лампасах, махрах и лентах. Калмыков сам конструировал свои одеяния и следил, чтобы они были совершенно ни на что не похожи. У него на этот счет была своя теория.
«Вот представьте-ка себе, – объяснял он, – из глубин вселенной смотрят миллионы глаз, и что они видят? Ползет и ползет по земле какая-то скучная одноцветная серая масса, и вдруг, как выстрел, – яркое красочное пятно! Это я вышел на улицу».
И сейчас он был тоже одет не для людей, а для галактики. На голове его лежал плоский и какой-то стремительный берет, на худых плечах висел голубой плащ с финтифлюшками, а из-под него сверкало что-то невероятно яркое и отчаянное – красное-желтое-сиреневое [Домбровский, 2000, с. 61–62].
Калмыков обозначил важную для современных русскоязычных поэтов Казахстана тенденцию – смотреть на происходящее в глобальном контексте, не замыкаясь на национальной или региональной точке зрения.
В доказательство приведем следующий пример. Юрий Серебрянский выпустил в 2017 г. «Казахстанские сказки». Книга двуязычная, большого формата, с оригинальными иллюстрациями Виктора Люй-Ко3.
Сказки авторские, сам Серебрянский так объясняет жанр: «Тексты и иллюстрации не используют образы казахского фольклора. Это невозможно – конкурировать с казахским фольклором, я его люблю за глубину и мудрость, но никаких потуг на то, чтобы создать что-то альтернативное, нет. Это сказки мои, авторские. Почему “казахстанские”? Я в третьем поколении казахстанец, я вырос здесь. И в какой-то момент я подумал, что какие же сказки мои: русские – далеко, польские – да, конечно, но они там, а я здесь, казахские – тоже не мои. И вот решил написать свои сказки. Для таких же, как я» [Гумыркина, 2017].
Это не столько сказки, сколько лирические рассказы, соединяющие конкретность и вселенский масштаб. Автор поясняет: «Мимикрия под притчи и сказки дает массу возможностей для высказываний по любому поводу – это больше восточное оружие, и я им воспользовался» [Юрий Серебрянский…, 2018]. Предназначены тексты для совместного чтения взрослыми и детьми, как русскими, так и казахами.
Лирическая миниатюра, открывающая книгу, посвящена Сергею Калмыкову. Автор комментирует: «Да, это Калмыков едет на черепахе! Здорово, что в Алматы есть инициативные люди, как Рустем Бегенов, которые хотят превратить его в символ города. У Праги есть Кафка, почему у Алматы не может быть Калмыкова?» [Юрий Серебрянский…, 2018]. Характерна ссылка на Кафку, австрийского писателя, родившегося в немецкоязычной еврейской семье в Праге, причем изначально его отец говорил по-чешски.
Текст называется «Ехал на черепахе». В одном сюжете автор объединяет несколько самых ярких впечатлений своего детства: огромная черепаха, живущая в зоопарке Алма-Аты, красивые ворота в парк и встреча с художником Калмыковым. Повествование ведется от лица мальчика, зачин создает установку на достоверность: так хотелось бы перенести эпизод встречи на август,
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 2 (27)
когда так красиво и когда у мальчика день рождения, но все-таки встреча состоялась в марте. По улице города вышагивала огромная черепаха: «На спине у нее сидел нешуточный человек в берете, с длинным носом и в пиджаке без рукавов. Штаны были не широкими, они были широченными книзу. Он был похож на Буратино-мужчину, которого почему-то решила прокатить черепаха Торти-ла» [Серебрянский, 2021, с. 8]. Мальчик осмелился начать со странным человеком разговор, из которого узнал, что тот работает художником в театре. У мальчика возникает ассоциация со сказкой про Буратино (театр, черепаха, длинный нос мужчины, необычный наряд), но художник рассмеялся и сказал, что он скорее папа Карло, ведь у него много работы. Расстались они дружески. Важно отметить, что разговор происходил на равных, хотя мальчик был еще мал («Дело дрянь. Я оказался ему всего лишь по пояс»), но мужчина «беседовал со мной, как со взрослым, что было, честно говоря, мне странно. Редко со мной так беседовали» [Серебрянский, 2021, с. 9]. В парке они сели на скамейку, пока черепаха щипала траву на лужайке: «Мы уже были мы, то есть как будто мы подружились» [Серебрянский, 2021, с. 11]. Расставаясь, условились о новой встрече. При этом друзья вместе с черепахой и всей фантастической ситуацией противопоставлены представителям власти, охранникам правопорядка: «Я не успел ответить (…), так как в ушах зазвенел свисток милиционера. Черепаха подходила к перекрестку, не подавая опознавательных знаков. Государственных номеров у нее тоже, естественно, не было. Вот милиционер и переполошился.
– Все в порядке, товарищ милиционер, эта черепаха с нами!
Милиционер увидел нас, строгим взглядом обежал берет, штаны, мой октя-брятский значок и кивнул» [Серебрянский, 2021, с.10].
В книге есть сказки, объясняющие происхождение придуманного замка Кок Тобе и юрты, поясняющие (конечно, по-своему), почему половина озера Балхаш соленая, куда ушло Аральское море, почему больше не прилетают на озеро Тенгиз розовые фламинго… Замыкает книгу маленький рассказ «На других планетах всегда веселей». Здесь повторяются некоторые мотивы первой «сказки», но теперь уже мальчик вырос, а история, случившаяся с его маленькой дочкой, маркирует преемственность поколений и устойчивость особого мировосприятия, открытого ко всему новому и необычному, поверх любых границ. Огромная черепаха из первой «сказки» тут представлена маленьким, только что родившимся, еще мягким черепашонком из сна девочки. Если мальчик, герой первой истории, с улыбкой говорил о человеке-Буратино, то девочка, прощаясь с продавцом игрушек, сочинившим ей сказку про робота, говорит на прощанье: «Пока, робот! Веселых тебе путешествий!», – а повествователь отмечает, что у нее, несмотря на возраст, уже было хорошее чувство юмора [Серебрянский, 2021, с. 90]. Мальчик удивил художника тем, что знает слово «фамильярность», а девочка поражает продавца словами «университет», «эксперимент», «ингредиенты», хотя и произносит последнее слово не совсем правильно. Суть истории в том, что в большом польском супермаркете (некоторое время Серебрянский с семьей жил в Польше) девочка потеряла родителей. Она сидела в отделе игрушек и плакала. Родители говорили девочке, что, если она потеряется, не нужно паниковать. К плачущей девочке подходит работница и спрашивает: «Цо-пани-ту…» – девочка по-русски отвечает, что она и не паникует, а ждет папу и маму. И тогда к ней направили молодого продавца - русского, студента местного университета. Тот, чтобы развлечь девочку, на примере робота рассказывает свою историю: как робот много перемещался с планеты на планету, знакомился с новыми людьми, узнавал много интересного, но все равно скучал по запахам планеты своего детства. Поэтому он одобряет поступок девочки, отпустившей приснившегося ей черепашонка обратно в родную степь.
Пример «Казахстанских сказок» интересен тем, что, с одной стороны, показывает «корни» трикстерского поведения, актуализируя образ Калмыкова, с другой – демонстрирует открытость русскоязычного писателя с польскими корнями новому опыту – при сохранении привязанности к своему казахстанскому месту.
Трикстерский компонент в творчестве русскоязычных поэтов Казахстана проявляется в «кочевнической» любви к жизненной свободе. Непосредственно в текстах эта трансграничность проявляется в использовании широких культурных ассоциаций при развитии собственной лирической темы. Сошлемся только на названия стихотворений. У Каната Омара, социально заостренного поэта, название стихотворения «Апология рисовальщика» [Омар, 2023, c. 68–69] отсылает к известному фильму Питера Гринуэя «Контракт рисовальщика» (1982). Название стихотворения Павла Банникова «Немного русских в холодной воде Иссык-Куля» [Банников, 2023, с. 60-61] иронично напоминает о романе Франсуазы Саган «Немного солнца в холодной воде» (1969), где использована, в свою очередь, аллюзия к стихотворению Поля Элюара. «И я вижу, наиболее демонстративно нарушает языковые границы Ануар Дуйсенбинов4, пишущий по-русски с широким использованием слов на казахском языке, не боящийся нарушить все и всяческие табу, тяготеющий к интермедиальности (музыка, видео, текст, устное чтение)». Он победитель Большого Алматинского слэма в 2017 г.; «Рухани кенгуру» – его первая книга стихов - вышла из печати в 2022 г., но включает стихи, написанные ранее, в 2017-2019 гг. О себе Ануар говорит: «Я рос в казахской традиционной семье. Но уже тогда младшее поколение говорило по-русски, а с бабушкой и дедушкой можно было общаться только по-казахски. Это смешение идет от корней. Вот и плоды такие же. Я здесь скорее просто, чтобы их срывать, пробовать. Пытаться описать вкус» [Дуйсенбинов, 2015].
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 2 (27)
И. Гумыркина в статье «Билингвальный голос поколения» пишет о книге Дуйсенбинова: «Актуальность этих текстов в том, что каждый найдет в них себя: ребенком, искалеченным нейтралитетом и ұятом, обычным казахом, у которого есть ипотека и два кредита, живущим в стране, страдающей постколониальным комплексом. Это и смешно, и больно одновременно: осознавать себя частью эпохи, которая эскалатором движется ко всем чертям, а вместе с ней и ты, но “с каждым днем все хуже”». Исследовательница отмечает: «…между языками настолько тесная связь, что убери что-нибудь одно – посыплется вся конструкция смыслов и звучания» [Гумыркина, 2023].
Обратимся к стихотворению «февральапрель апрельфевраль сауiрақпан» [Дуйсенбинов, 2022, с. 8–10].
Первые два слова представляют собой гибрид названий двух месяцев, точно так же и третье слово: в примечаниях указано, что слово «сауiрақпан» образовано путем сложения двух слов: сауiр – февраль и ақпан – апрель. Рифма также может складываться из казахских и русских слов: сауiрақпан – растаман – карман – капкан – океан – стакан; Жэннат (Рай) – не женат – из Ада в Ад; тауба (хорошо, слава богу) – черна – неверна. Почти в середине текста одна из частей (строфо-идов) состоит из 7 строк на казахском, 5 строфоидов включают только русские слова, 6 строфоидов включают и казахские, и русские слова (части не равны по количеству строк).
Начинается стихотворение с легко скользящего 6-стопного ямба с чередованием мужских и женских клаузул:
Иду по городу, идет февральапрель гуляют голуби клюют глаза асфальту иду по городу, за мною Менестрель нашептывает песни, я запоминаю
Некую разбалансированность придает в третьей строке появление пиррихия на пятой стопе – на фоне присутствующего в первой, второй и третьей строках пиррихия на третьей стопе, а в четвертой, при сохранении пиррихия на пятой стопе, первый пиррихий приходится не на третью, а на вторую стопу. Кроме того, четные строки остаются незарифмованными. Но на протяжении большого текста ямб местами вообще перестает ощущаться. К этому можно добавить отсутствие силлабической выровненности – почти все строки разной длины. Рифма нерегулярная. Эти интонационные особенности соответствуют образу героя – беспечного фланера в духе Бодлера или М. Кузмина. Образ денди поддерживается троекратным упоминанием челки: «я посмотрел наверх, отдунув прядь со лба», «я глянул прямо – прядь сползла на лоб», «курю сквозь челку, чувствую озноб».
Но перед нами не беспечный гуляка, стихотворение разворачивает экзистенциальный конфликт, остро ощущаемый героем: он пленник настоящего, но он поэт, рвущийся в Завтра и далее, «на край Вселенной», т.е. опять мы видим лиминального героя. Вокруг него – «хипстота», которая «пищит брит-поп»
на набережной, «начальник-жлоб» и «коллега-дура», голуби, клюющие глаза асфальту, – образ, содержащий мотив насилия, словно это не голуби, а ворон, пирующий на мертвеце. Но в ином измерении пребывают другие спутники героя – покойная бабушка и Менестрель, оба беседуют с героем шепотом, и чтобы расслышать их, герой внутренне стал «тишиной самой». Отметим диссонансное сочетание (соприсутствие?) обращений к бабушке – «бабуль» и «аже», а также пришедшего из западной традиции Менестреля.
Начало стихотворения рисует окружающую героя невнятицу: спутались зима и весна, можно ходить и в шубе, и в пальто, и в куртке. Метатеза в словах, поставленных в название текста, неоднократно повторяющаяся затем, создает ощущение неуюта в апреле, холодном, как февраль: в этом мире «холодно снаружи и внутри». Приметы города заставляют вспомнить гумилевское противопоставление божественного Слова и цифр «для низкой жизни»:
иду по городу рекламные щиты курс доллара сто пятьдесят курс государства двадцать пятьдесят иду по городу в семнадцать пятьдесят…
Это мир, «который поломался / который перепутался и взбился / как венчиком…». Хотя сквозными являются глаголы «иду», «идет», но это движение в замкнутом пространстве: «здесь время попадается в капкан».
По контрасту те слова, которые нашептывают существа иных миров, приходят из бесконечности и вечности. Песня Менестреля – «край Вселенной», а мир «течет в Океан». Воображаемый диалог с бабушкой, которая, несомненно, в раю (Жэннат), сначала лишь подчеркивает зыбкость положения героя в мире «здесь»:
я посмотрел наверх отдунув прядь со лба и молча вопросил как там дела?
в ответ мне бабушка шепнула: тауба а здесь не тауба, бабуль, совсем не тауба здесь ноша тяжела, а ночь темна здесь правда не прочна, свобода неверна
Но ближе к финалу стихотворения бабушкины слова напоминают истинную суть мира и дарят надежду:
спасибо, что заставила запомнить
Я – Ануар и свет во мне зачат что Волшебство есть в каждом Имени и Слове что есть Любовь – она всего в основе
Аллюзия к философии и поэзии В.С. Соловьева снова напоминает о модернизме с его эстетической утопией. Лирический герой этого стихотворения существует одновременно в двух мирах, в эмпирическом мире и в мире искусства, предчувствуя «костер недостижимого “Ертен” (Завтра)».
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 2 (27)
Выводы. Подведем итоги. Из всего комплекса трикстерских черт у рассмотренных поэтов доминирует лиминальность, соответствующая второй фазе перехода, по Тэрнеру. Эта фаза бесстатусна и предполагает добровольное сообщество (коммунитас). Пограничное положение обусловливает и функцию медиатора, связного между разными социумами или состояниями одного социума. Такие ипостаси трикстера, как шут, хитрец, обманщик, в данном случае не реализуются, хотя в имидже лирического героя угадываются черты «карнавализации», свойственной модернизму.
Будучи «героями перехода», русскоязычные поэты Казахстана осуществляют диалог культур, не разрывающий, а обогащающий личность. Индивидуальность совмещает несколько культур, образуя неповторимый сплав. Открытый культурный горизонт дает личности свободу – если не выбора, то реализации в языковой или культурной традиции. Так, понятый «трикстер» предполагает не вражду и ксенофобию, а сотрудничество и диалог, вычеркивает идею национальной исключительности, избранности, мессианства, работает против «этноцентризма изоляционистского толка» [Тлостанова, 2006, с. 5].
Комплексная идентичность и полилингвальность упомянутых авторов есть не только результат советской языковой политики, но уходит корнями в ту древность, когда через степи пролегал Великий шелковый путь, связывавший Китай, Центральную Азию, Россию, Европу. Транскультурация, как пишет Мадина Тло-станова, есть естественный результат процессов взаимовлияния и взаимопроникновения культур в их динамическом развитии, изменчивости, подвижности [Тлостанова, 2006, с. 7].
Трикстерский компонент лишь одна из составляющих активно развивающейся сегодня русскоязычной поэзии Казахстана, не исчерпывает всего диапазона линий развития. Трудно предсказать ее будущее, слишком быстро и радикально все меняется. Так, например, весьма изменилась тональность более поздней поэзии Ануара Дунсейбинова. Согласно Тэрнеру, стадия перехода должна завершиться третьей стадией, когда «переходящий» вновь обретает стабильное состояние и получает права и обязанности «структурного» типа [Бейлис, 1983, с. 17]. Удастся ли превратить стояние «ни там, ни там» в положение «и там, и там»? На сегодняшний день, как кажется, наиболее точным является понятие «казахстанская литература на русском языке». Будет ли дальше развиваться эта поэтическая общность, сосредоточенная в основном в Алматы, или это некое временное явление, феномен изживаемого постсоветского периода, покажет время.
Список литературы Трикстерский компонент в казахстанской русскоязычной поэзии
- Банников П. На языке шавермы. Алматы: Дактиль, 2023. 88 с.
- Банников П. Преодоление отчуждения // Лйеггатура. Электронный литературный журнал. 2014. 21 декабря. URL: https://literratura.org/criticism/757-pavel-bannikov-preodolenie-otchuzhdeniya.htmlv (дата обращения: 11.11.2023).
- Бейлис В.А. Теория ритуала в трудах Виктора Тэрнера // Виктор Тэрнер. Символ и ритуал. М.: Наука, 1983. 277 с.
- Галкина Г. Ольга Марк и «Серебряный век казахстанской литературы» // Новое поколение. 16.12.2023. URL: https://www.np.kz/news/lyudi/lichnost/olga-mark-i-serebryanyj-vek-kazahstanskoj-literatury (дата обращения: 10.03.2024).
- Гумыркина И. Билингвальный голос поколения II Власть. 2022. 29 июня. URL: https://vlast.kz/books/50572-bilingvalnyj-golos-pokolenia.html (дата обращения: 01.12.2023).
- Гумыркина И. Нам нужно, чтобы признание наших талантов приходило со стороны (интервью с Ю. Серебрянским) II Интернет-газета ZONAkz 04.04.2017. URL: https://zonakz.net/2017/04/04/jurijj-serebrjanskijj-nam-nuzh-no-chtoby-priznanie-k-nashim-talantam-prikhodilo-so-storony/ (дата обращения: 15.12.2023).
- Домбровский Ю.О. Роман. Письма. Эссе. Екатеринбург: У-Фактория, 2000. 688 с.
- Дуйсенбинов А. Мир после всего: экспресс-интервью С. Тимофееву II Arterritory. 03.09.2015. URL: https://arterritory.com/ru/ekran_-scena/sut_dnja_ qa/14564-mir_posle_vsego._anuar_duisenbinov/ (дата обращения: 11.11.2023).
- Дуйсенбинов А. Рухани кенгуру. Алматы: MUSA, 2022. 160с.
- Каштелюк Ю. 85 лет назад Сергей Калмыков связал свою жизнь с Алма-Атой II Вечерний Алматы. 2020. 18 мая. URL: https://dzen.ru/a/XsJKmOH_ GwHlQX7N (дата обращения: 11.11.2023).
- Ковтун Н.В. Трикстер как герой нашего времени (На материале русской прозы второй половины XX-XXI века). М.: ФЛИНТА; Красноярск: КГПУ им. B.П. Астафьева, 2022. 408 с.
- Липовецкий М. Трикстер и «закрытое» общество II НЛО. 2009. № 6. URL: https://magazines.gorky.media/nlo/2009/6/trikster-i-zakrytoe-obshhestvo. html (дата обращения: 03.01.2024).
- Мелетинский Е.М. О происхождении литературно-мифологических сюжетных архетипов II Литературные архетипы и универсалии. М.: РГГУ, 2001. C. 73-149.
- Ниязов-Адылджян Р. Неблагонадежный немец и еврей: История художника Павла Зальцмана II Сибирь. Реалии. 2024. 2 янв. URL: https://www.sibreal. org/a/neblagonadyozhnyy-nemets-i-evrey-istoriya-pavla-zaltsmana-uchenika-filonova-stavshego-kazahstanskim-hudozhnikom/32740489.html) (дата обращения: 03.01.2024).
- Омар К. Город крадет мертвых / послесл. И. Кукулина. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2023. 108 с.
- Серебрянский Ю. В мире и нигде II Poética. 10.2023. № 2. URL: https:// licenzapoetica.name/points-of-view/critique/v-mire-i-nigde (дата обращения: 15.12.2023).
- Серебрянский Ю. Казахстанские сказки. Алматы: Аруна, 2021. 36 с.
- Тлостанова М.В. Транскультурация как новая эпистема эпохи глобализации // ВестникРУДН. Сер.: Философия. 2006. № 2 (12). С. 5-16.
- Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Наука, 1983. 277 с.
- Фатланд Э. Советистан. Одиссея по Центральной Азии: Туркменистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан глазами норвежского антрополога. М.: РИПОЛклассик, 2018. 528 с.
- Чудиновская Т.Г. «На острове Патмос»: отшельник С.И. Калмыков // Искусство Евразии. 2021. № 1 (20). С. 76-86.
- Юрий Серебрянский: Пишу все на собственном опыте (интервью) // TopPress. 2018/05/25. URL: https://toppress.kz/article/yurii-serebryanskii-pishu-vse-na-sobstvennom-opite (датаобращения: 15.12.2023).