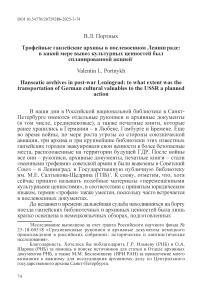Трофейные ганзейские архивы в послевоенном Ленинграде: в какой мере вывоз культурных ценностей был спланированной акцией
Автор: Портных В.Л.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Российская государственность
Статья в выпуске: 3 (85), 2025 года.
Бесплатный доступ
В течение почти двадцати лет в городе на Неве, в помещениях, находившихся в ведении Государственной публичной библиотеки (ныне Российская национальная библиотека), хранились трофейные архивные документы и библиотечные рукописи из немецких городов Гамбурга, Любека и Бремена, вывезенные в составе эшелона, груженого в основном печатными книгами. Материалы из этих трех ганзейских городов, относившихся к оккупационным зонам союзников, оказались в распоряжении советских властей, поскольку во время войны были эвакуированы немцами на территорию будущей ГДР. Впоследствии они были переданы в Москву и спустя еще более двух десятилетий возвращены в Германию по обмену. Изучение «ленинградского двадцатилетия» в судьбе ганзейских трофейных ценностей важно отнюдь не только как сугубо архивоведческий сюжет. Детальное рассмотрение подобного казуса проливает свет и на более общие вопросы, связанные с трофейной политикой советских властей: был ли вывоз культурных ценностей из Германии четко продуман от начала до конца, насколько были скоординированы действия различных органов, каковы были цели вывоза ценностей (в нашем случае, библиотечного и архивного плана)? В результате проведенного исследования было выявлено, что процесс вывоза и распределения ганзейских рукописных фондов был в значительной степени спонтанной акцией: в последний момент их отправили в Ленинград, а не в Москву, как предполагалось изначально, и сделано это было без четкой согласованности действий с принимающей организацией, которая вынуждена была долгое время держать особо ценные фонды в недостаточно хороших условиях. Вследствие этого, когда архивы ганзейских городов как непрофильные для библиотеки после долгих стараний удалось передать в архивные структуры, ГПБ заодно избавилась и от перемешанных с ними библиотечными рукописями, не желая оставлять их на хранении.
Ленинград, трофеи, рукописи, архивы, Государственная публичная библиотека, Российская национальная библиотека, Госфонд литературы, Любек, Гамбург, Бремен
Короткий адрес: https://sciup.org/149149211
IDR: 149149211 | DOI: 10.54770/20729286-2025-3-74
Текст научной статьи Трофейные ганзейские архивы в послевоенном Ленинграде: в какой мере вывоз культурных ценностей был спланированной акцией
Valentin L. Portnykh
Hanseatic archives in post-war Leningrad: to what extent was the transportation of German cultural valuables to the USSR a planned action
В наши дни в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге имеются отдельные рукописи и архивные документы (в том числе, средневековые), а также печатные книги, которые ранее хранились в Германии – в Любеке, Гамбурге и Бремене. Еще во время войны, по мере роста угрозы со стороны союзнической авиации, три архива и три крупнейшие библиотеки этих известных ганзейских городов эвакуировали свои ценности в более безопасные места, расположенные на территории будущей ГДР. После войны все они – рукописи, архивные документы, печатные книги – стали «военными трофеями» советской армии и были вывезены в Советский Союз – в Ленинград, в Государственную публичную библиотеку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ)1. К слову, отметим, что, хотя сейчас принято называть подобные материалы «перемещенными культурными ценностями», в соответствии с принятым юридическим языком, термин «трофеи» также уместен, поскольку часто встречается в послевоенных документах.
До недавнего времени дальнейшая судьба находившихся на борту поезда ганзейских библиотечных и архивных ценностей была лишь кратко освещена в немецкоязычных обзорах, подготовленных архивистами и библиотекарями, причем, как правило, без использования российских архивов2. Мы знаем, что в Ленинграде архивные документы и библиотечные рукописи, которые будут далее в центре нашего внимания, обособили от остального груза: часть (примерно две трети) уже в 1952 г. передали на хранение в ГДР, а оставшуюся часть в определенный момент перевезли в Москву и хранили в Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА). Затем советская и немецкая стороны долго вели переговоры относительно возможного обмена архивами, и, в конце концов, в 1990 г. ганзейские фонды были переданы в Германию в обмен на увезенный немцами при отступлении и все это время хранившийся в ФРГ Таллинский городской архив.
По версии немецких авторов, не подкрепленной ссылками на источники, ганзейские рукописи и документы передали в Москву (причем, по умолчанию, сразу в ЦГАДА) в 1958 г3. Изучение темы показало: не в 1958, а в 1964 г., и не сразу в ЦГАДА, а вначале в Центральный государственный особый архив СССР, созданный специально для хранения трофеев. Таким образом, ганзейские рукописные фонды находились в городе на Неве почти двадцать лет – немалая веха в истории связанных с ними послевоенных перипетий. Что может дать нам изучение этого двадцатилетия в истории ганзейских архивов? Помимо узкого краеведческого значения как части истории Любека, Гамбурга или Бремена, можно говорить и о более широком контексте: перед нами частный случай, который поможет разобраться, как и с какими целями из Германии вывозились культурные ценности, в какой мере это мероприятие было спланированным или спонтанным, а для самих ценностей – травматичным или щадящим. Был ли вывоз ганзейских материалов в Ленинград продуманной акцией с четко определенными целями? Было ли в Ленинграде найдено применение вывезенным ценностям? Почему почти двадцать лет они оставались в Ленинграде, а затем все-таки были перевезены в Москву? Как вывоз в СССР сказался на самих культурных ценностях?
1 августа 1946 г. по маршруту Берлин-Ленинград был отправлен эшелон №176/8037 с книжными трофеями. Вначале он доехал до Бреста, где ценности были перегружены на другой поезд4, а затем продолжил свой путь уже непосредственно до Ленинграда. В акте сдачи и приема груза сообщается: «Транспорт прибыл в Ленинград 28-го августа 1946 г. в 3-00, поставлен под разгрузку на платформу Московской товарной /ветка Александро-Невской Лавры/ в 11-00 и 14-00 и был разгружен в тот же день к 19-35»5. Два вагона, потерпевшие аварию6, прибыли позже. К моменту разгрузки платформа была занята 30 вагонами дров, которые пришлось убрать с платформы7.
Оказалось, что груз доехал в Ленинград не без приключений: 69 ящиков были повреждены настолько, что не подлежали восстановлению, и еще 900 пострадали, но их, все же, удалось восстановить8. От 5% до 10% всего количества книг находилось в вагонах без ящиков, и значительная их часть была выбрана и перевезена в здание Дублетного фонда библиотеки9. Такое положение не удивительно: есть сведения немецкой прессы о том, как ящики с книгами из одного поезда в другой перекладывали в Бресте пленные немцы, которые узнали об их содержимом как раз потому, что немалое число этих весьма тяжелых ящиков в процессе сломалось10. В документах тех лет упоминается, что иностранный дублетный фонд располагался тогда в помещении ГПБ в Александро-Невской Лавре11, а значит недалеко от станции выгрузки.
В составе эшелона из 42 вагонов12 были ценности, вывезенные сразу из нескольких пунктов. Ящики были обозначены литерой «А» с соответствующим номером (Таблица 1)13:
Таблица 1.
|
1 |
Книжные фонды из шахт Бернбурга |
А1 |
3717 ящиков |
|
2 |
Магдебургская городская библиотека |
А2 |
1230 ящиков |
|
3 |
Берлинская техническая библиотека |
А4 |
720 ящиков |
|
4 |
Гамбургская библиотека |
А8 |
309 ящиков |
|
5 |
Библиотека Берлинского Географического института |
А12 |
281 ящик |
|
Всего пять библиотек с общим количеством ящиков - 6257 |
|||
«Несплошная» нумерация в данном случае объяснялась тем, что примерно в то же время с той же базы Советской военной администрации в Германии (СВАГ) отправлялся еще один эшелон, в Москву (№ 176/8036), и нумерация по библиотекам происхождения была сплошной сразу для всех находившихся на базе грузов, отправленных двумя эшелонами14. В упомянутом в таблице Бернбурге находились, среди прочего, архивные и библиотечные фонды из Любека и Бремена, а под определением «Гамбургская библиотека», на самом деле, скрывалась еще и небольшая часть архива этого города.
Следует отметить, что эшелон № 176/8037 был единственным, отправленным в Ленинград, а не в Москву. Формально груз предназначался не для ГПБ, а для Ленинградского филиала Госфонда Литературы, однако в документах, связанных с отправкой, значился адрес «Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина»15. Что за организацией был упомянутый Госфонд, и почему в качестве адреса, тем не менее, значилась Государственная публичная библиотека?
Государственный фонд литературы был создан в феврале 1943 г. с целью восстановления библиотечных фондов, пострадавших или полностью утраченных во время войны16. Поначалу в дар пострадавшим библиотекам передавались книги из дублетных фондов других библиотек, а также пожертвования частных лиц, но после войны к этому добавились немецкие «перемещенные ценности». Сохранилась инструкция от 30 декабря 1945 г., согласно которой вся трофейная литература, прибывающая из Германии для последующего распределения по другим библиотекам, должна была поступать вначале в Госфонд литературы17.
Тем не менее, физически немецкие книги были доставлены в ГПБ, потому что у Госфонда литературы не было собственных помещений в Ленинграде. Аппарат и фонды Ленфилиала, по соглашению с Публичной библиотекой, располагались в помещениях резервных фондов ГПБ в Петропавловской крепости, в закрытой к тому моменту Базилике святой Екатерины (называемой в наших документах бывшим польским костелом) на Невском проспекте 32, а также на Литейном проспекте 53а18. При этом литература, которая хранилась в Ленфилиале, была отнюдь не только со спецэшелона19. Представители других библиотек могли выбирать себе литературу из имеющейся в Ленфилиале при условии, что она не была востребована ГПБ20. Ганзейские рукописные материалы и другие грузы с эшелона № 176/8037 были среди тех, что по прибытии в Ленинград находились в помещениях Публичной библиотеки, но формально относились к ведению Госфонда. Однако первоначальные планы были иные: эшелон №176/8037 изначально не должен был быть исключением и, как и все остальные эшелоны с библиотечными материалами, подлежал отправке в столицу.
Специальная комиссия, которая еще в октябре 1945 г. осматривала фонды в местах их нахождения после окончания войны на предмет целесообразности вывоза в СССР, не давала рекомендаций, куда именно стоит вывозить то, что стоит вывозить21. Отправку интересующих нас материалов, происходивших из Любека, Гамбурга и Бремена, из мест эвакуации с последующей концентрацией на складе в Берлине, организовывал Отдел народного образования СВАГ. В письме от 5 июня 1946 г., отправленном из этого отдела главноначальствующему СВАГ, мы впервые находим следы планов относительно конкретной организации-адресата: «в г. Москву в адрес Всесоюзной Библиотеки им. Ленина»22.
Именно по этой причине фонды нужно было передать Уполномоченному Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР: этой структуре, которая впоследствии будет упразднена и войдет в состав Министерства культуры РСФСР, подчинялась библиотечная система. Уполномоченным комитета на тот момент была отправленная в Германию для работы в звании подполковника Маргарита Ивановна Рудомино – знаменитая основательница Библиотеки иностранной литературы, которая сегодня названа в ее честь. К слову, именно так материалы архивного профиля, архивную, а не библиотечную принадлежность которых зафиксировала еще комиссия по отбору материалов на вывоз23, оказались на территории СССР в структуре библиотечных учреждений, подчинявшихся ведомствам, связанным с культурой, а не архивного управления, подчинявшегося МВД СССР. Будучи эвакуированными в те же места, что и библиотечные фонды, архивы оказались среди библиотечных книг и именно в этом окружении были вывезены в Советский Союз.
Решение о пункте назначения, вероятно, было изменено в последующие два месяца. В акте от 23 июля 1946 г., в котором был засвидетельствован факт передачи библиотечных фондов из ведения СВАГ в ведение М.И. Рудомино и возглавляемой ею библиотечной группы, уже говорилось, что на ящиках с книгами указан неверный адрес отправки: «Указанные фонды передаются для отправки их по адресу: Ленинград, Октябрьский вокзал, Филиал Госфонда литературы, Библиотека им. Салтыкова-Щедрина. При этом необходимо отметить, что на ящиках маркирован адрес: Москва, Белорусский вокзал. Данная маркировка является неправильной и не должна приниматься во внимание»24. В рапорте об отправке эшелона есть и более детальное объяснение ошибке: «Все ящики, отправляемые в Ленинград, помечены адресом: Москва, Белорусск. вокз. Это объясняется тем, что указанные фонды первоначально предназначались к отправке в Москву. Решением Комитета Культпросветучреждений при Совете Министров РСФСР часть фондов была переадресована в Ленинград, но в связи со срочной погрузкой эшелона провести перемаркировку ящиков не представлялось возможным»25. Не исключено, что решение перенаправить груз в Ленинград было принято за считанные дни до его передачи в ведение М. И. Рудомино: удивительно, что в 1949 г. в отчете директора Любекского архива Ахасфера фон Брандта о состоянии дел с попытками вернуть городской архив домой говорилось даже о якобы вагонах поезда с надписью «Москва» – правда, как о чем-то, что он явно не видел сам ( angeblich in Wagons mit der Aufschrift ‘Moskau’ )26.
Таким образом, в результате весьма спонтанного решения, книги проследовали вместо Москвы в Ленинград. После прибытия эшелона ящики были отправлены в различные помещения Государственной публичной библиотеки27, а приемку при этом осуществля- ла не библиотека, а упомянутый Ленинградский филиал Госфонда литературы, который располагался в ее помещениях28. Разбирали же литературу на базе ГПБ29 с привлечением внештатных сотрудников30, и библиотека могла отобрать для себя все представляющее для нее интерес31. Ящики с трофеями при приемке не распечатывались, и проверки характеристик книжных фондов, согласно сопроводительным документам, не производились32.
Госфонду предстояло распределить груз по библиотекам страны. При этом трофейные рукописи и архивные документы, похоже, изначально планировалось определить в ГПБ. Об этом говорят сохранившиеся тома с актами ИС «иностранная старая [книга]»: по мере разбора ящиков, всю рукописную часть прибывших «перемещенных ценностей» выделили как единую массу, обособленную от остальной части груза, и определили на хранение в отдел рукописей. Надежные свидетельства того, что библиотекари приступили к ящикам с архивными документами из ганзейских городов, можно увидеть в актах за последние числа декабря 1946 г33. Нужно отметить, что именно в эти дни разборка эшелона шла особенно интенсивно: возможно, для отчетности было важно обработать определенное количество именно в уходящем 1946 г. Судя по актам, разборка ящиков с ганзейскими рукописными материалами продолжалась весь 1947 г., в то время как практически все акты «ИС» за 1948 г. уже оформлялись на редкую печатную книгу. Все эти акты, в силу форсированного ритма работы, были лишь очень общими описаниями единиц хранения, которые основывались на немецких надписях на упаковке. Происходившее пока не было полноценной записью в фонд с должной атрибуцией и присвоением шифра, однако штампы ГПБ ставились уже тогда.
В то же время, возможности ГПБ принять новые грузы были весьма и весьма ограничены. Библиотеке катастрофически не хватало помещений, причем проблема возникла еще до войны. Прибывшие из Германии трофейные материалы было в буквальном смысле некуда девать. О катастрофической нехватке площадей говорил, например, непосредственно директор библиотеки Л. Л. Раков в своем письме в Совет министров СССР 20 марта 1948 г34. Он жаловался, что разговор о необходимости новых помещений начался еще до революции, но никаких мер так и не было принято. На тот момент в основном здании находилось шесть миллионов книг вместо положенных трех. С 19 февраля 1948 г. библиотека была закрыта для читателей из-за аварийного состояния зданий, и это, как утверждал директор, – первый случай за 150 лет истории библиотеки, которая продолжала обслуживать читателей даже в годы войны и блокады. Он же, в письме в Комитет Кульпросветучреждений от 19 мая
1948 г., докладывал о катастрофическом положении книгохранилищ ГПБ в здании бывшей библиотеки духовной академии в Александро-Невской Лавре: из-за изношенности канализационной сети во многих местах лопнули трубы; вследствие этого фонды, находившиеся в подвале, отсырели и покрылись плесенью35.
Мы находим и другие яркие свидетельства очень тяжелого положения библиотеки. В акте осмотра книгохранилища в Петропавловской крепости от 26 мая 1948 г. говорится, что из-за плохих условий хранения часть книг (не из числа относящихся к спецэшелону) покрылась плесенью36. В общей сложности, частично зараженных плесенью книг было около ста тысяч, причем 45 тыс. из них – активной плесенью37. В книгохранилище на Фонтанке-10 книги были сложены штабелями, очень загрязнены; там было обнаружено около трех тысяч подмокших и заплесневелых книг38. К слову, по результатам войны фонд ГПБ увеличился за счет «нового резервного фонда», состоящего из «бесхозного имущества» (кавычки стоят в самом документе!) частных лиц, покинувших Ленинград во время блокады, некоторые из которых, к слову, предъявили после войны требования возврата незаконно отобранных у них книг39. Ситуация не изменилась и с обретением библиотекой в начале 1950-х гг. здания по адресу Фонтанка-36: за это библиотека должна была освободить ряд других помещений, а потому около миллиона книг по-прежнему лежали штабелями и оставались недоступными для читателей40.
В письме Л.Л. Ракова секретарю Ленинградского городского комитета ВКП(б) упоминается, что в войну пострадало историческое здание библиотеки с главным читальным залом, поскольку в него попала фугасная бомба: от разрыва бомбы образовались трещины, есть помещения в аварийном состоянии, а книги даже некуда перенести, чтобы сделать ремонт41. В письме и.о. директора секретарю Ленинградского обкома ВКП(б) от 14 февраля 1952 г. говорилось, что здания ГПБ используются в том числе как жилые помещения42: в них проживает 160 семей, из которых 147 – посторонние люди, не работающие в библиотеке. Их квартиры иногда были расположены вперемежку с помещениями книгохранилищ. Среди прочего, жилые помещения все еще были в здании на Садовой-18: в свое время там проживало 80 семей; часть семей переселили, однако еще 32 семьи продолжали там проживать43. ГПБ был необходим жилой дом, чтобы выселить жильцов и отдать помещения под книги.
Разумеется, в такой ситуации трофейный поезд, по крайней мере, с теми гигантскими объемами литературы, какие на нем прибыли, не был для библиотеки горячо желанным даром. У нее были весьма ограниченные возможности для создания должных условий даже для самой ценной и требующей бережного отношения части груза. В координации планов и действий, связанных с вывозом книжных трофеев, явно были проблемы: комиссия, оценивавшая фонды еще в Германии, признала Любекский городской архив очень ценным для советской науки хранилищем документов по истории Ганзейского союза, напрямую связанных с историей средневекового Новгорода44, однако другие ответственные за это инстанции не продумали четко, где он будет храниться, и отправили в Ленинград, где подарку были явно не рады.
Не стоит думать, что интересующие нас рукописи и архивные документы оказались в историческом здании библиотеки, выходящем на Невский проспект. Для этого использовались иные помещения не с самыми лучшими условиями. В акте проверки данных приемки ящиков от 11 сентября 1946 г. говорится, что первым делом трофейные грузы с маркировкой А1 (фонды, извлеченные из шахт в районе Бернбурга, а значит в том числе материалы из Любека и Бремена) были размещены в здании бывшего польского костела на Невском проспекте45. 26 января 1947 г. в этом помещении случился пожар. Согласно предварительному заключению, среди уничтоженного материала была «часть ящиков с литературой трофейного эшелона, прибывшего в Ленинград в августе 1946 г.»46. В костеле была далеко не только трофейная литература, но, среди прочего, были утрачены и около 40 ящиков с маркой А1 (Бернбург)47. Тем не менее, костел не перестал использоваться как помещение для хранения книг, в том числе, трофейных со спецэшелона №176/8037: по состоянию на 6 апреля там еще находилось 4847 ящиков с этого поезда48. Освобождение костела лишь к 1 ноября было заявлено в приказе по ГПБ от 19 августа 1947 г49.
В источниках не раз встречаются сведения о том, что архивные документы и рукописи хранились в Петропавловской крепости. Собственно, после их вывоза из базилики на Невском проспекте, упоминаний других мест хранения мы не встречаем. В протоколе одного из совещаний руководства ГПБ от 30 мая 1947 г. высказывались планы до 15 июня принять от Госфонда и вывезти из крепости рукописи со спецэшелона, «предназначенные для рукописного отдела» ГПБ50, однако в письме директора Ленфилиала Госфонда в отдел комплектования от 26 августа ставилось на вид, что это так и не было сделано51. Акт обследования помещений Петропавловской крепости от 26 мая 1948 г. сообщает, что там все еще хранились рукописи со спецэшелона в количестве 200 тыс. томов, будучи «сложены в штабель в небольшом и не приспособленном для их хранения помещении»52. Хранились они в крепости в весьма стесненных условиях. Далее говорится: «обследовать указанные рукописи не представилось возможным, так как помещение настолько мало, что в него совершенно невозможно войти». По результатам обследования был сделан вывод о том, что «опасность загнивания этих книг совершенно реальна»53. В акте обследования фондов от 27 сентября 1948 г. о рукописях на первом этаже помещения крепости (видимо, тех самых со спецэшелона – именно они, согласно более раннему акту, там хранились)54 говорится: «В двух комнатах нижнего этажа, где хранятся рукописи, обнаружена большая сырость, и на книгах образовалась плесень. С потолка местами обвалилась штукатурка»55. Тем не менее, они пробыли в этих условиях несколько лет: имеется составленная 28 ноября 1951 г. характеристика «немецких рукописей, хранящихся в крепости с 1945 г.»56. Источники обычно не называют, какие именно здания крепости были задействованы, однако письмо директора библиотеки в Комитет по культпросветучреждениям от 24 декабря 1951 г. говорит о помещении бывшей Усыпальницы57.
Не удивительно, что библиотека явно стремилась избавиться, по крайней мере, от требующей особенно щадящих условий хранения архивно-рукописной части трофейного груза. Известно, что уже 17 июня 1947 г. Комитет по делам культурно-просветительных учреждений (не исключено, что с подачи ГПБ) обратился в Ленинградское областное архивное управление МВД СССР с предложением забрать в свое ведение архив города Бремена58. Местное архивное управление отказалось решать проблему за неимением свободного пространства для этого и ряда других трофейных архивов, о которых также зашла речь, и 30 июля обратилось с письмом на общесоюзный уровень59. Документ вернулся с резолюцией начальника Главного архивного управления МВД СССР: необходимо возбудить ходатайство о создании особого областного архива для хранения подобных материалов60. Видимо, идея так и осталась проектом.
Важно, что рукописи и архивные документы, т.е. все рукописные материалы в целом, находились в ведении рукописного отдела как единая масса. Вся она воспринималась, скорее, как архив (что соответствовало количественному соотношению архивных документов и рукописей), и это противоречило специализации библиотеки как хранилища. Если в масштабах прибывшего в Ленинград эшелона в целом, с учетом печатных книг, архивные материалы были очень незначительными на фоне библиотечных, теперь, при выделении рукописных материалов в отдельную группу, именно архивная составляющая станет ее доминантой. Это было на руку библиотекарям и в силу чисто бюрократических соображений.
Пытаясь избавиться от ганзейских рукописных фондов в целом, как архивов, так и библиотечных рукописей, библиотекари обобщающе говорили о них именно как об «архивах», тем самым 82
пытаясь добиться их перевода из библиотечной системы в архивную. При этом документы показывают, что и библиотека, и комитет, которому она подчинялась, осознавали наличие в массе как архивных документов, так и рукописей – стоит полагать, по умолчанию библиотечных. В приказе от 26 февраля 1951 г. Комитет по делам культурно-просветительных учреждений распорядился закрыть с 1 марта Ленинградский филиал управления Госфонда литературы. Директору ГПБ В. А. Андрееву было предписано принять от филиала на сохранность « архивные материалы и рукописные книги (здесь и далее курсив мой – В.П. ) иностранного фонда в количестве 19.645 единиц», находившиеся в Петропавловской крепости61. Специальная комиссия, готовившая исполнение этого решения, постановила « архивные материалы и рукописные книги иностранного фонда, полученные в 1947 г. с эшелоном специального назначения », «оставить в книгохранилище Петрокрепость», передав «на хранение Государственной Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина до получения особых указаний вышестоящих органов»62. Акт приемки материалов от 11 апреля сообщает, что в процессе их передачи был сделан пересчет количества единиц хранения: оказалось, что их 21.508 ед.: дело, как говорилось в комментариях, было в особенностях определения единицы учета материалов, в методике подсчета63.
Тем не менее, ни библиотека, ни Комитет, похоже, не рассматривали вариант выделения из массы библиотечных рукописей с целью их оставления в ГПБ. От груза нужно было избавиться полностью, провозгласив его «архивным»: эту позицию также разделяла как библиотека, так и Комитет. В докладной записке от 30 марта 1951 г. зав. отделом комплектования сообщал директору: «Указанный материал [архивные материалы и рукописные книги иностранного фонда в количестве 19.645 единиц – ранее по тексту в том же документе] после пересчета будет принят на сохранность. Но поскольку он не имеет отношения к профилю библиотеки, а материал чисто архивный, убедительно прошу вновь поставить вопрос перед соответствующими органами о принятии от нас этого материала»64. Тем не менее, в силу вышедшего приказа, «архивные материалы и рукописные книги на немецком языке в количестве 19.645 единиц» библиотеке пришлось принять на сохранность, о чем 4 апреля 1951 г. было доложено в Комитет по делам культурнопросветительных учреждений65. В том же ответе в Комитет была выражена надежда на то, что данная мера является заведомо временной: «Ввиду того, что материал этот исключительно архивный и к профилю Библиотеки отношения не имеет – прошу Вас поставить вопрос перед Архивным Управлением Министерства Внутренних дел СССР о передаче ему этого материала»66. Видно, что ГПБ явно утрирует «архивность» груза для демонстрации его «непрофильности» для библиотеки, причем не очень последовательно: в том же самом письме говорится, что там есть и рукописные книги, но тут же говорится о том, что материал «архивный», и поэтому должен храниться в другом месте.
Какое-то время ганзейский архив продолжал оставаться в крепости. В докладной записке заведующего отделом комплектования заместителю директора библиотеки, последовавшей за приказом от 10 ноября 1951 г. освободить занимаемые библиотекой помещения Петропавловской крепости, говорится, что там до сих пор хранятся «принятые на сохранность архивные материалы и рукописные книги иностранного фонда в количестве 21 508 единиц»67. В этих условиях 24 декабря 1951 г. директор ГПБ В.А. Андреев еще раз обратился в Комитет по делам культурно-просветительных учреждений по поводу трофейного архива, по-прежнему находящегося в Петропавловской крепости: «Возникли большие затруднения в размещении как организованных, так и неорганизованных фондов, в том числе и иностранного архива рукописных книг и материалов, переданных на хранение библиотеке при ликвидации Ленинградского филиала Управления Госфонда литературы (1-III-51 г.). У библиотеки нет возможностей выделить для указанного архива (21.805 ед.68) надлежащее хранилище и предохранить эти материалы от порчи и распада бумаги. Как видно из прилагаемой характеристики материалов архива, он не представляет для нас интереса и не может быть использован нашими читателями»69.
Характеристика фондов, составленная 28 ноября 1951 г. заведующей отделом рукописей Г.А. Озеровой, весьма любопытна70. Здесь мы достоверно узнаем, что под условными «архивными материалами» понимались, в том числе, и рукописи, принадлежавшие именно библиотекам, а не архивам. Их наличие вполне четко осознавалось: «отдельные рукописи с печатями городских и университетских библиотек этих же городов». Действительно, у библиотек интересующих нас городов были хорошо читаемые штампы. В деле оценки значимости материалов для науки, ГПБ всячески пыталась обосновать нежелание брать их на постоянное хранение. Делопроизводственные документы из архивов, как написано в характеристике, были бы полезны для изучения отдельных вопросов путем применения статистических методов, однако учитывая разрозненность материалов, представляющих «случайно вырванные звенья вековых исторических процессов», могут служить лишь для очень частных вопросов, «вряд ли актуальных для советской науки». Характеристика допускает ценность ряда рукописей, однако ввиду нехватки штата библиотека не берется их выявлять: «Возможно, что среди подавляющей массы рукописных книг богословского содержания и значительного количества 84
макулатуры можно обнаружить и ценные рукописи, но для этого потребовалась бы длительная работа высококвалифицированных специалистов, которыми в настоящее время библиотека не располагает»71.
«Борьба» за избавление от ганзейских архивов продолжалась и позднее. В этом деле руководство ГПБ последовательно проявляло настойчивость. Так, например, в документе, направленном в Главное архивное управление МВД СССР председателем Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совете министров РСФСР 18 марта 1952 г., выражена просьба «дать разрешение на уничтожение этих [ганзейских] архивов или принять их к себе на хранение», поскольку «все вышеперечисленные архивы не имеют научного значения и не могут находиться среди книжных фондов Государственной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина и Госфонда литературы Комитета»72. В письме в Министерство культуры РСФСР, в состав которого вошел Комитет по делам культурнопросветительных учреждений РСФСР, от 20 августа 1953 г. и.о. директора ГПБ Г. Г. Фирсов настаивает на том, чтобы библиотеку избавили от ганзейского архива, который к тому времени все-таки переехал на Фонтанку 36: библиотеке по-прежнему остро не хватает помещений, архивные ценности не могут храниться надлежащим образом, библиотеке как таковые не нужны, а помещение, где они лежат, нужно под типографию73. В письме из ГПБ в Министерство культуры РСФСР от 11 января 1954 г. немецкие архивные материалы, для которых в библиотеке не было приспособленных помещений, рекомендовалось передать в ГДР (видимо, подобно той их части ганзейских архивов и рукописей, которую туда уже передали ранее в надежде на обмен перемещенными архивами – сюжет, который достоин отдельной публикации)74.
Библиотека продолжала настаивать на своем, используя сложившуюся политическую конъюнктуру. Большие надежды вызвал у ГПБ начавшийся массовый возврат трофейных культурных ценностей ГДР в рамках советско-немецкой дружбы. 19 апреля 1955 г. библиотека обратилась к Министерству культуры СССР с инициативой передать в Восточную Германию не только ряд материалов, происходящих оттуда, но и архивы ганзейских городов, «в связи с актом Советского Правительства о передаче немецкому народу картин Дрезденской галереи»75. Предложение делалось повторно в 1956-1957 гг.76, однако западногерманские материалы ГДР тогда передавать не стали.
При этом судьба ганзейских материалов находилась в «подвешенном» состоянии. Власти не только не хотели передавать их в другое ведомство, но и разрешать их полноценное оформление на хранение в ГПБ. Как сообщается в письме в МИД от 25 марта 1963 г., их так и не записали в фонд: такова была в свое время воля начальства из Комитета по культпросветучреждениям77. Согласно инструкции, направленной в ГПБ 4 марта 1952 г., «трофейная литература, переданная библиотеке Госфондом, находящаяся в Петропавловской крепости» должна была быть «передана под ответственное хранение в спецфонд библиотеки»78. Было велено до особых распоряжений к этим материалам никого не пускать. В очередном запросе передать ганзейские архивы ГДР, сделанном в Министерство культуры СССР в 1957 г., говорилось, что уже двенадцать лет архивы так и лежат без использования79. Как утверждалось в уже упомянутом письме в МИД, они не имели описей и хранились в ящиках. Вряд ли, правда, это были немецкие ящики, которые уже по прибытии в Ленинград были не в лучшем состоянии: когда в 1951 г. архивы принимали у Ленфилиала Госфонда, в ящиках была лишь незначительная часть – там было всего лишь 10 ящиков80. В то же время, в справке о перемещенных немецких фондах ГПБ за 1958 г. говорится, что единицы, находящиеся в отделе редкой книги, «имеют печати ГПБ, штампы поступлений и шифры; на полках они стоят в общем ряду с основными фондами отдела»81. Выходит, редкую книгу, в отличие от рукописей, воспринимали как находящуюся в Публичной библиотеке «всерьез и надолго».
Все это наглядно иллюстрирует, что ганзейские архивы не рассматривали как объекты, находящиеся в ГПБ на постоянном хранении. Вероятно, это было связано с возможным обдумыванием других планов использования архивных материалов: в конечном итоге в конце 1970-х гг. советское руководство предложило ФРГ обменять их на Таллинский городской архив. Пожалуй, подвешенное положение, в котором были ганзейские архивы, было на руку библиотеке, которая не была обязана окончательно интегрировать нежеланный архив в свои фонды. Дело сдвинулось «с мертвой точки» лишь в 1960-е гг. В августе 1963 г. Министерство культуры РСФСР предписало ГПБ готовить архивные материалы для последующей передачи в Особый архив Главного архивного управления при Совете министров СССР82. Наконец, в конце 1964 г. передача трофеев в Особый архив состоялась83.
Подводя итог, можно констатировать: сами по себе двадцать лет, которые провели в Ленинграде ганзейские архивы и библиотечные рукописи, были большой случайностью. Признанные ценными для советской науки рукописи не были определены в какое-то конкретное подходящее для этого архивохранилище. В последний момент их вместе с огромной массой печатных книг перенаправили в Ленинград, куда привезли в частично поломанной таре. Подгото- вить должные условия для всех вывезенных из Германии книг было, конечно же, нереально: даже по грубым оценкам в документах библиотечной группы под руководством М.И. Рудомино на всех эшелонах их было около двух миллионов томов. Тем не менее, пример ганзейских архивов показывает, что даже в случае особо ценных уникальных фондов в условиях послевоенного времени детали не продумывались заранее. По всей видимости, при всем обилии проблем, стоявших тогда перед властями, было не до этого. Их определили в Государственную публичную библиотеку, где еще до войны была острая нехватка помещений. Более того, оказавшись в тех же местах эвакуации, что и немецкие библиотеки, в структуре учреждений культуры очутились архивные фонды, которые не подходили ГПБ по профилю, однако на периодические переговоры об их переводе в архивные структуры и потребовались эти почти двадцать лет. Видимо, в связи с катастрофической нехваткой ресурсов для этого, библиотека, в которой прекрасно осознавали, что в рукописной части ганзейского груза было немало библиотечных рукописей, предпочла утрировать в документах ее «архивность» и таким образом иметь больше оснований от нее избавиться.