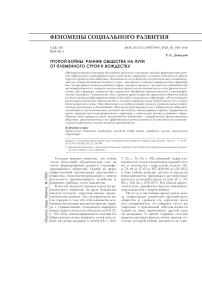Тропой войны: ранние общества на пути от племенного строя к вождеству
Автор: Давыдов Сергей Анатольевич
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Стратегия дискурса
Статья в выпуске: 1 (66), 2023 года.
Бесплатный доступ
Предпринимается попытка обосновать причины и выявить способы формирования ранних вертикально интегрированных социальных структур в условиях повышения уровня агрессии архаического общества. Основываясь на методологических посылках неоэволюционизма, автор обсуждает гипотезу о том, что процесс создания иерархических структур был инициирован элитами родового строя, которые пришли к осознанию необходимости милитаризовать все стороны жизни своих групп в целях повышения их конкурентоспособности. Для проверки гипотезы был привлечен обширный археологический и этнографический материал. Установлено, что с ростом уровня агрессии архаичных обществ вожди все более активно формировали вокруг себя новые социальные структуры, обеспечивавшие реализацию принципа единоначалия и высокую вертикальную мобильность для всякого отличившегося в войне. Это привлекало на сторону вождя сильных и решительных людей, готовых рисковать и действовать. Изменение расстановки сил в архаическом обществе, находящемся под постоянным внешним давлением, стимулировало процесс прорастания новых вертикально-интегрированных структур в социальный организм родового строя. Итогом этого процесса стало возникновение вождества - иерархически организованного общества, приспособленного для эффективного ведения войны и основанного на институционализированной власти военного предводителя.
Архаическое общество, вождество, военный лидер, война, иерархия, племя, социальная структура
Короткий адрес: https://sciup.org/140300081
IDR: 140300081 | УДК: 316 | DOI: 10.53115/19975996_2023_01_038-048
Текст научной статьи Тропой войны: ранние общества на пути от племенного строя к вождеству
Общество. Среда. Развитие № 1’2023
Сегодня хорошо известно, что война стала печальной обыденностью уже на этапе формирования раннего стратифицированного общества. Одной из форм общественной организации доклассового общества, имплементированной в новую реальность производящего хозяйства и военного грабежа, стало вождество.
В пользу высокого уровня агрессии архаического общества на фазе вождества свидетельствуют многочисленные археологические данные. Так, историческая наука говорит о том, что в большинстве изученных на сегодня вождеств оружие, наряду с украшениями, становится маркером социального статуса их обладателя [30; 27, с. 163–165], военизированным становится образ жизни самых широких слоев населения, включая женщин и детей [38, с. 244;
7; 35, с. 75; 16, с. 36], военный лидер становится не только верховным правителем, но и носителем сакральной власти [45, р. 72; 48, р. 17; 65, р. 237–239; 66, р. 158–161], а тема войны выходит далеко за пределы повседневности, проникая в религиозные ритуалы и погребальные культы [7, с. 55; 28, с. 116; 32, с. 276–277]. Тем самым, археологические артефакты прочно связывают мир вождества с миром войны.
Но если в настоящее время связь между социальным развитием архаического общества и уровнем его агрессии мало кем оспаривается, то говорить столь же уверенно о причинной обусловленности одной из этих переменных другой едва ли возможно. С одной стороны, сегодня широко распространена точка зрения, согласно которой войны являются не при- чиной, а следствием социально-экономического развития доклассового общества. Так, многие специалисты в области социальной философии, антропологии и социологии сходятся во мнении, что процесс усложнения архаического общества был тесно связан с повышением демографической нагрузки на территорию, увеличением богатства и возникновением возможности его насильственного отчуждения, что и привело к росту вовлеченности древних людей в военные конфликты [42]. С другой стороны, сегодня существует и противоположная позиция. Она обсуждается в работах антропологов и сводится к тому, что именно «военные действия являются горючим, движущей силой, которая приводит в действие политическую эволюцию. Они осуществляют это посредством разрушения старых мелкомасштабных структур, позволяя построение более крупных <…> и более сложных политических единиц…» [20].
Вероятно, в ближайшее время не следует ожидать окончательного решения вопроса о том, стало ли усложнение древнего общества следствием повышения уровня его агрессии и увеличения масштабов вооруженных конфликтов, или наоборот, милитаризация жизни общества и рутини-зация войны были вызваны ростом социальной дифференциации и стремлением военных лидеров укрепить свою власть. Однако даже при таком положении вещей рассмотрение войны в качестве значимого фактора социогенеза архаического общества может представляться вполне допустимым, а описание механизмов влияния этого фактора на процесс формирования вождества – имеющим определенную исследовательскую перспективу.
Почему вождества могут носить «мирный» характер
Антропологам и историкам, работающим с археологическими данными и древними текстами, хорошо известны примеры (хотя и немногочисленные) обществ, сумевших создать сложную иерархически организованную социальную структуру, но при этом не характеризовавшихся высоким уровнем агрессии. Объяснить это можно особенными обстоятельствами, при которых формировались «мирные» вождества.
Одно из таких обстоятельств – соседство вождества с сильным и развитым оседлым народом. Скажем, культура Гут-тиуды – страны вестготов [55, р. 406] на Дунае и в Северном Причерноморье – к
IV в. н. э. в своем социально-экономическом развитии достигла уровня римской провинции, но носила преимущественно мирный характер. В ней применялись передовые по тому времени технологии ремесленного и сельскохозяйственного производства, плотность населения была высокой, а обилие римской монеты, обращавшейся в ее границах, указывает на склонность готов к мирным способам обогащения [17, с. 122, 170, 269; 41, с. 200–206].
Объясняя это, важно иметь в виду, что такими германцы были не всегда. Так, еще двумя столетиями ранее – во II в. н.э. – Публий Корнелий Тацит писал о германцах как о народе, постоянно ведущем междоусобные войны, в ходе ко -торых «все побежденное предается истреблению» [37, с. 57]. Написанный 100 лет спустя – в 291 г. н.э. – панегирик Мамер-тина содержал описание беспрерывных конфликтов, в которые были вовлечены две политически независимые группы готов [29]. Хорошо известно также, что в 332 г. готский союз тервингов совершил акт агрессии против многочисленных и воинственных сарматов [8, с. 60]. Можно предположить, что своего рода переломным моментом в истории готов стало то, что в этом конфликте на стороне сарматов выступили римляне. Римская армия, ведомая кесарем Константином II, разбила готское войско, уничтожив многие тысячи готских воинов [2]. Вследствие этого, а также давления со стороны гуннов, тервинги были вынуждены признать свое зависимое положение и заключить с Римом договор, согласно которому обязаны были предоставлять римлянам по требованию вооруженных бойцов, получая взамен ежегодные подарки, а также право торговать с приграничными римскими территориями [10, с. 95–96]. Именно с этого периода вестготы на время перешли преимущественно к мирному образу жизни. Племенное войско тервингов стало комплектоваться большей частью из представителей родовой аристократии и редко превышало своим числом 5 тысяч воинов, а внешний вид вестготов и их воинственность стали вызывать у римлян снисходительную насмешку[70, р. 256–284]. Интересно отметить, что едва Восточно-Римская империя начала терять былое могущество, вестготы вновь обратились к агрессивной стратегии и в 410 г. под предводительством Алариха вторглись в Италию и заняли Рим [18, с. 267–290].
Отношения Рима и вестготов являются далеко не единственным примером того,
Общество
как более сильному в культурном и экономическом отношении соседу удавалось вовлечь в орбиту мирной жизни приграничное вождество. Подобную роль в отношении болгарских и славянских племен Подунавья в VII–VIII вв. н. э. сыграла Византийская империя, такое же влияние X– XII вв. н. э. она оказала на Киевскую Русь [31], Россия уже в XVIII–XIX вв. сделала куда более миролюбивыми народы Северного Кавказа [14, с. 504, 578, 718] и т. д.
Долгое время считалась, что сниже- ние уровня милитаризации вождества могло быть вызвано его относительной
Общество. Среда. Развитие № 1’2023
изолированностью от воинственных соседей. Действие этого фактора рассматривалось на примере вождеств, созданных индейцами майя. Но на деле они, похоже, оказались не таким уж и мирным, а при столкновении с более агрессивными соседями не нашли в себе сил мобилизоваться и попросту прекратили свое существование.
Так, власть в вождествах майя, как можно судить, передавалась в рамках правящих династий. Об этом свидетельствуют некоторые археологические находки, в частности, надписи, найденные в городе Яшчилан и иероглифические блоки на стелах из Пьедрас-Неграс [63]. Однако, несмотря на высокий уровень социальной дифференциации в обществе майя, оно, по мнению некоторых исследователей, носило относительно «мирный» характер.
Например, Сильваниус Морли полагал, что культура майя, в силу своей относительной изолированности от соседей, не создала институтов социального контроля и армии, не имела навыков ведения войны [60, р. 144–146]. Люди занимались подсечно-огневым земледелием и проживали в небольших населенных пунктах, а обществом управляли мудрые жрецы-звездочеты [59]. Похожей точки зрения придерживается и авторитетный исследователь Центральной Америки Росс Хэссиг [52, р. 71–81]. Он, в частности, отмечал отсутствие среди памятников материальной культуры майя тех, которые недвусмысленно указывали бы на милитаризацию их жизни и военизированный характер их социальной структуры. На этой основе он делал вывод, что майя были значительно более миролюбивыми, чем окружавшие их соседи, а также представители культур Теотиуакана и ацтеков [52, р. 171–179]. Широкую известность в ряду работ, отстаивающих взгляд на мирный характер майя, получили труды Джона Эрика Томпсона.
В них автор отрицал наличие прямых свидетельств, указывавших на агрессивности майя, с упорством трактуя фиксировавшиеся на археологических памятниках изображения знати с оружием в руках исключительно как ритуальные сцены из жизни правителей [67, р. 81].
Впрочем, сегодня миролюбие майя ставится под сомнение. Например, группа археологов из США под руководством Дэвида Вебстера, проводившая раскопки древнего города Бекан на западе полуострова Юкатан, подтвердила возникшие еще в 30-х гг. XX в. предположения о том, что майя возводили фортификационные сооружения. В результате раскопок было установлено, что вся центральная часть городища была окружена валом и рвом. В некоторых местах высота фортификационных сооружений составляла более 10 метров, ширина насыпей была от 3,5 до 4,5 метров, а их общая протяженность – 1 890 метров [68, р. 99–100]. Наличие оборонительных укреплений, конечно, недвусмысленно свидетельствует о том, что население майя все же было знакомо с ведением военных действий, а масштаб инженерных сооружений косвенным образом указывает на интенсивность и широту вооруженных конфликтов.
В пользу такого предположения свидетельствуют и другие данные, притом весьма многочисленные. Так, надпись на деревянной балке над дверным проемом культового сооружения IV в. в Тикале повествует о войне между правителями Мульсткого царства (столица в городе Тикаль) и царства Саиль (столица в городе Наранхо) [34, с. 209–210]. Хорошо известно также о многочисленных и ожесточенных столкновениях между царствами Баакаль (с центром в городе Паленке) и Попо (центр в городе Тонина) [56, р. 181; 58, р.185]. Только за период с 687 по 693 гг. и только на левом берегу Усумасинты было зафиксировано до семи масштабных военных конфликтов, в которые были вовлечены 4 крупных центра майя в союзе с более мелкими политиями [33, с. 87–102]. В целом за период с III по IX в. н.э. современными специалистами отмечается не более 15 лет, не оставивших свидетельств тех конфликтов, в которые вступали военно-политические центры майя. Все остальное время – это время их постоянной войны друг с другом за гегемонию в регионе [54].
Таким образом, имеющиеся в нашем распоряжении данные говорят скорее о достаточно высоком уровне агрессии в куль- туре майя. Это важно, поскольку она являет собой пример очень немногочисленной серии обществ, сумевших создать достаточно сложную иерархически организованную социальную структуру и при этом слывущих относительно мирными. Важно принять во внимание и то обстоятельство, что относительно не выраженная милитаризация общества майя рассматривается специалистами как особенность, выделяющая его среди других обществ, стоящих на схожей ступени развития. Также важно и то, что именно эта его особенность, по мнению специалистов, положила конец существованию культуры майя, сделав ее легкой добычей более агрессивных тольтеков, вторгшихся с севера в Центральную Мексику и создавших в VIII–IX вв. н. э. на руинах культуры майя свою новую империю [59, р. 501].
В целом, имеющиеся в нашем распоряжении сведения о считающихся «мирными» вождествах, по-видимому, не способны опровергнуть распространенное в современной науке представление о высокой степени милитаризованности этой формы социальной организации. В этом сходятся и археология, и история, и антропология. С одной стороны, предположения о возможности существования неагрессивных вождеств, развивающихся изолированно, не находят убедительных подтверждений. С другой стороны, случаи, когда вождества действительно не отличались высоким уровнем агрессии, хорошо объясняются силой того умиротворяющего воздействия, которое был способен оказать на них более развитый и сильный сосед. Не менее важным свидетельством принудительного миролюбия вождества является и то, что ослабление центра нередко провоцировало окружающую его варварскую периферию на агрессию по отношению к бывшему более сильному соседу. Исключение здесь составляли, пожалуй, только возглавлявшиеся военным предводителем союзы племен, созданные с целью противодействия цивилизующему центру. Если социальная организация этих социальных образований не достигала уровня, соответствующего вождеству, то, как полагают Л.Е. Гринин и А.В. Коротаев, созданные на их основе союзы оказывались недолговечными, а власть военного лидера уменьшалась или вовсе исчезала с ослаблением потребности в защите от влияния центра[13, с. 320]. Но подобные исключения могли бы служить подтверждением общего правила, прочно увязывающего понятие вождества с понятием войны.
Выдвижение военного лидера
Сегодня имеются основания говорить о том, что одним из значимых факторов формирования вождества явилось формирование общественного запроса на выдвижение военного лидера.
Необходимость объединения усилий под предводительством решительного и удачливого воина для успешного ведения боевых действий понимали уже в древности. Например, еще в середине IV в. н.э. Марцеллин Аммиан объяснял неубедительность военных достижений готов конфедеративным характером их общества, невысокой способностью многочисленной готской знати к скоординированным действиям и перед нападением на Рим в 364 г. н.э. [1, с. 394], и в период боевых действий Атанариха против гуннов в 375 г. н.э. [1, с. 543]. Слабая способность готов к действию в рамках иерархических структур рассматривается в качестве фактора, снижавшего их боевой потенциал, и в других источниках [53, р. 107; 10, с. 125, 194]. Впрочем, в некоторых случаях потребности в успешном проведении военных акций все же воспринимались готской верхушкой как более важные в сравнении с ее желанием сохранить в неизменности свою традиционную власть как лидеров родового строя. И тогда они были вынуждены соглашаться на свое участие в иерархической структуре, действующей в режиме единоначалия и возглавляемой так называемыми iudex [43, с. 708] или δικαστής [53, р. 39] – «судьями».
К аналогичным следствиям осознание необходимости в выдвижении лидера с широкими полномочиями для эффективного ведения войны приводило и в обществе номадов. Например, в §§ 123–125 «Сокровенных сказаний» монголов описывается, как, посоветовавшись между собой, представители кочевой знати Сача-бек, Алтан, Хучар, и другие, присягая Темуч-жину, обещали ему:
«На врагов передовым отрядом мчаться, Для тебя всегда стараться
Жен и дев прекрасных добывать, Юрт, вещей вельмож высоких, Дев и жен прекраснощеких, Меринов статьями знаменитых брать И тебе их тотчас доставлять» [21, с. 42].
В целом можно согласиться с Робертом Карнейро, полагавшим, что в большинстве известных истории и антропологии случаев именно необходимость ведения боевых действий поднимала перед древним обществом проблему выдвижения
Общество
Общество. Среда. Развитие № 1’2023
военного лидера, наделенного широкими полномочиями [44, р. 17], и уже только после этого община постепенно «теряет свою автономию по отношению к военным предводителям, (вследствие чего последние – С.Д.) становятся во главе одного из важнейших преобразований в эволюции культуры» [51, р. 35].
Формирование военной аристократии
Если отдельные военные кампании, даже интенсивные и продолжительные и пусть даже возглавляемые авторитетными военными предводителями, не всегда приводили к разрушению племенной организации древнего общества, то в условиях, когда войны велись непрерывно, утверждение новых иерархических структур становилось практически неизбежным.
С одной стороны, новые принципы общественных отношений находили поддержку у родовой аристократии, понимавшей необходимость поступиться частью своих традиционных привилегий ради участия в функционировании вертикально-интегрированных структур, гарантировавших им сохранение высокого социального положения.
Так, к примеру, произошло в Древней Ирландии, где в V в. н. э. усиление власти верховного военного лидера коренным образом изменило социальную организацию всего общества. Если изначально туат – основная социальная единица древнеирландского общества – был независимым, объединял членов одного рода и возглавлялся выборным вождем, то с возрастанием значения войны в жизни древних ирландцев туат был переформатирован и включен в социальные структуры более высокого порядка. Из объединения родичей он превратился в привязанное к территории воинское подразделение, а лидер туата стал заключать своего рода «вассальный договор» с лидером туата более высокого порядка [61, р. 55; 40, с. 24].
С другой стороны, процесс формирования иерархических структур вождества находил опору у представителей самых широких слоев общества, притом у наиболее деятельной его части. Ведь, несмотря на то, что вождество поддерживало сильную социальную дифференциацию, оно одновременно открывало широкий коридор для социальной мобильности. Высокий социальный статус теперь становился доступным не только для представителя родовой аристократии, но и для любого отличившегося в бою – вне зависимости от его происхождения.
Например, испанские хронисты Гонсало Фернандес де Овьедо и Паскуаль де Андагоя свидетельствовали, что в Панаме XVI в. «простые воины, которые совершают великие подвиги на поле боя <...> награждаются благородным титулом военного капитана [çabra]. Вождь впоследствии награждал этих выдающихся воинов женщинами, территорией и ставил под их команду подчиненных. Таким образом, война стала средством, которое простолюдины могли использовать для вхождения в элитный сектор общества» [64, р. 128]. Археолог Самуэль Лотроп, знакомый с практиками социальной мобильности в данном регионе по рассказам местных жителей, отмечал, что «позиции в военном руководстве присваивались воинам на основе их храбрости и достижений в войне. Эта стратегия военного и социального продвижения гарантировала, что в распоряжении воюющих вождей всегда был корпус амбициозных, боеспособных бойцов, жаждущих возможности совершать великие подвиги на войне» [64, р. 128].
Похожая картина наблюдалась и на Фиджи, где до прихода европейцев боевые действия также были частым явлением и отличались ожесточенностью, а выдающиеся военные подвиги высоко оценивались. Например, воину, забившему насмерть врага, присваивали почетный титул Koroi [69, р. 43]. Если же отличался в бою воин, который уже имел высокий ранг, то присваиваемые ему титулы были поистине грандиозными: «делитель такого-то и такого-то района», «расточитель такого-то побережья», «принесший смерть населению такого-то острова» и тому подобные [69, р. 43–44].
Надо оговориться, однако, что на Фиджи все-таки существовал предел тому, как высоко могло вынести человека его воинское мастерство и доблесть. Происхождение воина оставалось важным фактором его социального положения [69, р. 25, 27]. Аналогичные ограничения существовали и в кочевых вождествах. Например, Н.Н. Крадин определенно фиксировал в обществе хунну существование барьеров в возможностях повышения социального статуса воина. Границы его восходящей социальной мобильности определялись его происхождением и его местом в кланово-родовой группе [24, с. 148–149]. Однако Крадин отмечал, что эти ограничения не были тотальными. В первую очередь статус хунна обусловливался его боевыми заслугами, его доблестью и репутацией удач- ливого воина. Война открывала ему перспективы социального роста, но при этом не прощала ему провинностей и проявлений трусости: за это любой мог лишиться своего положения [24, с. 180–181].
В целом имеющиеся в нашем распоряжении данные указывают на то, что война формировала новый облик элит архаического общества и обеспечивала возможность быстрого социального роста для сильных, решительных и мужественных людей. Война наделяла их социальными, экономическими и символическими ресурсами, предоставляя военной аристократии все возможности для того, чтобы она смогла стать движущей силой деконструкции родового строя и встать в авангарде дальнейших социальных преобразований.
Узурпация власти военным предводителем
Особая роль в процессе социальных преобразований принадлежала верховному военному предводителю. Роль эта сильно отличалась от той, что исполнял избираемый народом на определенный срок и стесненный институтами родового строя племенной вождь. Вождь нового типа со всей решительностью осуществлял действия, выходящие за рамки привычного образа военного предводителя.
Иногда он принимал на себя исполнение новых функций, дополнявших его основную функцию военного лидера.
Например, сегодня можно понять, насколько вырос авторитет военного предводителя в Древнем Израиле в период правления Давида. Вступив во власть в качестве военного вожака, Давид возложил на себя обязанности организатора строительных работ по возведению фортификационных сооружений в приграничных областях еврейской территории. Археологические исследования показывают, что в основной массе древнееврейские укрепления представляли собой каменные стены-катакомбы с сетью внутренних ходов – каковыми они были, к примеру, в городище Хирбет, располагавшемся всего в 12 километрах от форпоста филистимлян города Гефа и потому требовавшего усиленной инженерной защиты [49, р. 25]. Естественно, проведение масштабных общественных работ подобного рода требовало легитимации права военного предводителя отчуждать от домохозяйств необходимые для строительства материальные и трудовые ресурсы, и, следовательно, поднимало престиж военного лидера, увели- чивало социальную дистанцию между ним и основной массой общинников.
Но иногда действия вождей, направленные на укрепление их власти, отличались куда меньшей созидательностью, и были связаны исключительно с принуждением и репрессиями. Действуя так и опираясь на подчиненных воинов, которые были «слабо связаны с традиционными общественными структурами и ориентированы на личную преданность своему военачальнику» [22, с. 36], вожди добивались для себя все больших привилегий. Например, военные предводители Скандинавии уже в середине XIII в. присвоили себе право самостоятельно назначать своего преемника, в то время как прежде престол доставался избранному вождю [15, с. 481, 501, 524, 571, 573]. Силовой ресурс применяли и военные предводители номадов. Например, по мнению В.В. Бартольда, в ранние периоды тюркского каганата «всякая власть в действительности являлась узурпацией» [4, с. 427], и лишь впоследствии была институционализирована, но уже на новых принципах. Аналогично, если лидерство первых Чингизидов легитимировалось выборами, то, укрепив свою власть, они создали удельную систему, в которой предводитель выделял старших сыновей еще при жизни, а младшему завещал собственный улус-удел [3, с. 146].
В ряде случаев действия вождей по узурпации власти носили явно провокационный характер, показывая готовность военного лидера ставить себя выше традиций. Один из них описан Григорием Турским в «Истории франков». Автор повествует о том, как в результате грабежа одной церкви из Суассона франки, кроме прочего, захватили чашу редкой красоты. Древний обычай требовал поделить все награбленное имущества поровну. Но вождь франков Хлодвиг попросил своих воинов помимо его доли отдать ему и эту чашу без дележа. Большинство воинов не возражали, но один из них призвал своего вождя, как это требовала традиция, получить свою долю по жребию и разрубил чашу пополам своей секирой. Дождавшись удобного момента Хлодвиг расколол череп обидчику со словами: «Вот так и ты поступил с той чашей в Суассоне». Когда тот умер, он приказал остальным разойтись, наведя на них своим поступком большой страх [11, с. 160–161].
Подобные действия вождя подавляли волю к сопротивлению не только у массы не вовлеченных в военные структуры общинников, но и у его ближайшего окруже-
Общество
ния, открывая ему новые возможности для укрепления власти. Как отмечал в связи с этим Роберт Карнейро, именно «принуждение, а не просвещенная заинтересованность, есть механизм, который шаг за шагом направлял политическую эволюцию от автономных общин к государству» [20, с. 57], «только благодаря прямому использованию силы <…> могли возникнуть во-ждества…»[19, с. 165].
Но, конечно, одного желания военных лидеров и их ближайшего окружения стать во главе новой социальной организации было недостаточно. Как отмечал Калерво Оберг, в условиях преобладания социальных структур родового строя положение вождя в архаическом обществе, по сути, оставалось бы прежним. К такому выводу он пришел, анализируя социальную организацию тлингитов, верхушка которых не сумела сломать автономии домохозяйств, в результате чего на северо-западном побережье Америки «никакой политической организации не появилось, вожди оставались церемониальными фигурами, экономическими лидерами или военачальниками родственных групп» [62, р. 476]. Это дает основания полагать, что для формирования вождества требовалось еще одно условие: усилия военного лидера по созданию милитаризированных структур должны были находить свою легитима- цию в том значении, которое они имели в деле обеспечения безопасности общества.
Общество. Среда. Развитие № 1’2023
Милитаризация социальной структуры с целью защиты сообщества
И действительно, при определенных обстоятельствах осознанная большинством необходимость защиты общества от военных угроз служила катализатором ускоренного развития общества в рамках его новой политической организации.
Например, сегодня хорошо изучены обстоятельства, в которых формировалось вертикально-интегрированное общество в Древнем Израиле.
С одной стороны, создаваемые войной опасности и риски побуждали евреев искать защиты в многолюдных и хорошо защищенных центрах и развивать технологии ремесленного производства для изготовления оружия. Как полагал А. Фауст, именно «проблема безопасности вызывала отток людей из сельских поселений и концентрацию населения в больших центрах» [46, р. 155]. И действительно, в результате проведенных археологических исследований было установлено, что в период с XI по X в. до н. э. на место небольших лишенных фортификационной защиты сельских поселений (Избет Сартах, Тель Масос, Шило, Хирбет Раддана и др.) приходят окруженные укреплениями города (Тель-эс-Цу-вейд, Мегиддо, Хацор, Лахиш, Танаах и др.), и именно с этого времени в городах отмечается рост производства изделий из железа [57, р. 172–186]. Рост урбанизации населения Древнего Израиля и сопровождающий его рост профессиональной дифференциации создавали социально-экономическую основу для формирования сложного стратифицированного общества, в котором власть могла быть сконцентрирована в руках правителя, стоявшего на вершине социальной пирамиды.
С другой стороны, в этот же самый период – в XI – начале X в. до н.э. – здесь формируются и военно-политические предпосылки для формирования вождества. Так, известно, что Давид предпринял решительные меры по формированию хорошо организованной армии. Костяк его составила профессиональная армия – дружина из «храбрых» или «сильных Давида» под предводительством Иоава, включавшая в том числе и наемников под началом Ва-нея [37]. Важно отметить, что этнический состав армии был неоднороден. Помимо евреев в нее входили критяне, гефяне, филистимляне, хетты и аммонитяне. Это имело важное значение, поскольку такая армия теряла свойственную народному ополчению связь с племенными структурами и, функционируя на принципах единоначалия, становилась надежной опорой военного предводителя, основой его власти над общинниками. В итоге, грамотно использовав и расширив свои возможности как военного лидера, Давид за период своего правления сумел создать в Древнем Израиле надстройку над племенными отношениями в виде стабильно работающих иерархических структур, которые организовывали людей в общество, обладающее большинством признаков вождества и даже рядом черт государства [47, р. 328].
Важно отметить, что война не только создавала предпосылки для формирования социальной структуры нового типа. Она самым непосредственным образом определяла тот облик, который в ходе преобразований принимало общество.
В ряде случаев социальная структура приобретала особенности, которые становилась прямым следствием войны и служили для победителей способом закрепить свое господствующее положение.
Наиболее известным примером здесь является общество, созданное спартиата- ми. Большинство исследователей сходятся во мнении, что милитаризованный характер его структуры был обусловлен не только соображениями обороны от внешней угрозы, но, прежде всего, необходимостью держать в повиновении численно превосходящих илотов – потомков греков-ахейцев, владевших югом Пелопоннеса до вторжения туда дорийцев [5, с. 84–92].
Не менее яркий пример являет собой общество, созданное проживающим в высокогорьях Папуа-Новой Гвинеи народом баруйя. По описанию Мориса Годелье, оно возникло, «по-видимому, в XVIII в. в ходе войн. Вследствие этих войн избежавшие уничтожения восемь кланов одного из племен, йуйе, оставили места своего проживания и нашли приют у другого племени, андже. В результате переселенцы изгнали приютивших их андже. В настоящее время племя включает в себя пятнадцать кланов, восемь из которых являются потомками переселенцев, захвативших чужую землю, а семь – потомками автохтонных кланов – их союзников в борьбе с андже или примкнувших к ним семей… Руководят инициациями представители кланов победителей, – и в этом состоит основа “политико-религиозной” организации системы, созданной баруйя» [50, р. 42–43].
Милитаризация социальной структуры общностей, нацеленных на военную агрессию
Говоря о прямом влиянии войны на формирование социальной иерархии, необходимо обратить внимание еще на одно обстоятельство. Похоже, что оно наблюдалось не только в случаях, когда сообщество пыталось защитить себя или закрепить результаты своих побед. Такое наблюдалось и тогда, когда группа только ставила перед собой захватнические цели. Здесь бросается в глаза явно выраженный милитаризованный характер социальной структуры вождеств – в особенности тех, которые отличались высоким уровнем агрессии.
Один из примеров – социальная организация монголов.
С одной стороны, чингизидам достаточно быстро удалось побороть автоно -мию вождей-хаанов и создать стабильно работающую вертикаль власти. Интересы централизации власти требовали принятия решительных мер, направленных на переподчинения родов, некогда подконтрольных собственной аристократии [9, с. 96], верховному предводителю. Бывшие аристократы и свободные воины – нуке- ры – в значительной степени утратили свою независимость и превратились в нойонов, наделяемых властью уже не силой традиции или благородством происхождения, а волей начальника. Именно начальник теперь не только утверждал их в статусе, но и узаконивал их право владеть аилами с населением, а также пользоваться кочевьями [9, с. 92, 111].
С другой стороны, бросается в глаза военизированный характер социальной структуры монголов. Так, еще Чингисхан ввел деление всего населения на «десятки», «сотни», «тысячи» и «тьмы». При этом представители монгольских родов и племен были нередко рассредоточены по разным подразделениям и соединениям, имели различную территориальную локацию. Иногда, правда, родовой аристократии удавалось сохранять в своем подчинении членов своего рода. Но и в этом случае их власть приобретала узаконенный верховным предводителем вид, принимая форму власти нойона над собственным родом или племенем [9, с.104–105, 110–111].
Похожий облик имела социальная структура хунну. Их орда, помимо ряда хуннских племен, включала в себя и несколько союзнических, а фактически подчиненных племен, возглавляемых родовыми вождями.
Все кочевники объединялись в «десятки», «сотни», «тысячи» и «тумены» [6, с. 49]. В свою очередь, «тумены» являлись составными частями «крыльев» – правого, левого и центрального. «Военачальник левого крыла занимал восточную часть хуннских владений, а командующий правым крылом – западную часть. Первый из них был старшим по отношению ко второму, поскольку восточная сторона считалась более почетной, чем западная» [39, с. 107]. Каждое «крыло» делилось на две части, которыми предводительствовали сянь-ван и лули-ван, а власть над ним вершил чжуки-князь или сянь-ван [36, с. 11]. Наивысшими привилегиями в орде обладали представители знатного хуннского рода Люанти, которые занимали ведущие позиции в административном аппарате вождества. На вершине социальной пирамиды восседал шаньюй, «одаренный небесной благодатью» и «подчиненный (только – С.Д. ) небу» [26, с. 10].
В целом можно согласиться с мнением Н.Н. Крадина, что социальная организация большинства объединений номадов имела много общих черт. И монголы, и хунну, и Сяньби, и Тоба, и Муюн, и каганаты тюрок и уйгуров характеризовались
Общество
многоуровневой иерархией, преимущественно триадным принципом социальной дифференциации в верхних стратах общества, и десятичным – в нижних [25, с. 127, 135–138]. Как представляется, это повышало уровень адаптации социальной структуры кочевников к задачам успешного ведения войны, поскольку такая структура обеспечивала быструю мобилизацию больших масс населения, быстрое прохождение и беспрекословное исполнение приказов, делегирование полномочий на нижестоящие уровни управления, открывала перспективы социального роста для тех, кто отличился в бою.
Резюме
Таким образом, результаты изучения археологических данных, литературных памятников и наблюдений антропологов позволяют определить систематическое ведение военных действий в качестве значимого фактора формирования в архаических обществах вертикально-интегрированных социальных структур.
Наш анализ показывает, что родовой строй не был в полной мере приспособлен для ведения войны, ставшей широко распространенным явлением на поздних этапах развития архаического общества. Рыхлые конфедерации родов и племен, не связанные принципом единоначалия и дисциплиной, были ослаблены в своей способности вести борьбу за выживание. Они неизбежно должны были или коренным образом трансформироваться, или вовсе уйти с авансцены истории, уступив свое место обществам, структура которых была лучше приспособлена к решению этой задачи. Обществами, структура которых оказалась весьма хорошо приспособленной для ведения войны, стали вождества.
Формирование вождеств представляло собой довольно длительный процесс. На первых этапах потребности войны выдвигали на передний план из представителей родовой аристократии военного лидера, полномочия которого все еще были ограничены институтами родового строя. Но по мере того как военные действия «подпитывали сами себя» [12, с. 219] и становились все более интенсивными, авторитет военного предводителя возрастал, а вместе с ним возрастала и его власть. Вождь окружал себя наиболее активными, сильными и решительными людьми, желавшими быстро повысить свой материальный и социальный статус «в обход» коридоров вертикальной мобильности, существовавших в их роде, фратрии или племени, тем самым создавалась социальная организация, которая некоторое время сосуществовала параллельно со структурами родового строя. Такое сосуществование могло наблюдаться до тех пор, пока традиционные структуры оставались крепкими. Но война создавала социальные предпосылки для их коренной перестройки. С одной стороны, она способствовала разрушению социальной структуры родового строя, а с другой – стимулировала прорастание в социальный организм новых социальных структур, имеющих иерархическую организацию, реализующих принцип единоначалия и обеспечивающих высокую вертикальную мобильность для всякого отличившегося в войне. Закономерным результатом социальных трансформаций стало возникновение вождества – вертикально интегрированного общества, хорошо приспособленного для эффективного ведения войны и основанного на институционализированной власти лидера.
Общество. Среда. Развитие № 1’2023
Список литературы Тропой войны: ранние общества на пути от племенного строя к вождеству
- Аммиан Марцеллин. Римская история / Пер. с лат. Ю.А. Кулаковского, А.И. Сонни; науч. ред., вступ. ст. Л.Ю. Лукомского. 3-е изд-е. - СПб.: Алетейя, 2000. - 558 с.
- Аноним Валезия. Извлечения. - Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/ Апоп_Уа^Лех^рМтМ=10726 (18.01.2019)
- Бартольд В.В. История Туркестана // Сочинения. Т. II. Ч. I. - М.: [Б.и.], 1963. - С. 107-166.
- Бартольд В.В. Обозрение истории тюркских народов // Сочинения. Т. V. - М.: [Б.и.], 1968. - С. 396-465. Беккер К.-Ф. Мифы древнего мира. - М.: Эксмо, 2016. - 672 с.
- Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 1. - Алматы: ТОО «Жалынбаспасы», 1998.
- Богаченко Т.В., Максименко В.Е. Погребения «женщин с оружием» эпохи раннего железного века на Дону (методологические аспекты проблемы изучения) // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 9. - Волгоград: ВГУ, 2008.- С. 48-61.
- Вдовиченков Е. В. Ардараганты и лимиганты (к вопросу об отношениях зависимости у сарматов) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. № 11 (25). Ч. II. -Тамбов: Грамота, 2012. - С. 59-61.
- Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов: монгольский кочевой феодализм. - Л.: [Б. и.], 1934. - 223 с.
- Вольфрам X. Готы. От истоков до середины VI века (опыт исторической этпографпп) / Пер. с пем. -СПб.: Ювента, 2003. - 653 с.
- Григорий Турскпй. История франков. Кп. II. - M.: Наука, 1987. - 464 с.
- Грпппп Л^. Государство п исторический процесс. Политический срез исторического процесса. -M.: КомКнига, 2007.
- Грпппп Л^., Коротаев Д.В.Соцпальпая макроэволюцпя: гепезпс п трансформация Mир-Системы. 2-е пзд. M.: ЛИБРОКОM, 2013. 568 с.
- Гумилев Л.Н. Древняя Русь п Великая степь. - M.: AСТMосква, 2008. - 839 с.
- Гуревпч Д.Я., Кузьмепко Ю.К., Смпрппцкая О.Д., Стеблин-Каменский M.M. Стурлусоп. Круг Земной. - M.: Ладомир-Наука, 1995. - 685 с.
- Eпимахов Д.В. Рапппе комплексные общества Севера Центральной Eвразии (по материалам могильника Каменный Дмбар-5). Кп. 1. - Челябинск: Челябинский дом печати, 2005. - 192 с.
- Зппьковская И.В. Королевство Эрмапарпха: псторпя п археология. - Саарбрюккеп: LAP, 2011. - 444 с.
- Иордап. О происхождении п деяппях готов. - СПб.: Длетейя, 2013. - 512 с.
- Карпейро Р.Л. Теория ограничения: разъяспеппе, расшпреппе п повая формулировка // Политическая антропология традиционных п современных обществ: Mатериалы Mеждународной конференции (Владивосток, 16-17 апреля 2012 г.) / Отв. ред. Н.Н. Крадпп. - Владивосток: Издат. дом Дальневосточного федерального уп-та, 2012. - С. 162-189.
- Карпейро Р.Л. Теория происхождения государства // Раппее государство, его альтернативы п аналоги: Сборппк статей / Под ред. Л^. Грппппа [п др.]. - Волгоград: Учитель, 2006. - С. 55-70.
- Козпп СА. Сокровенное Сказаппе. Mонгольская хроппка 1240 г. Т. 1. - M.A.: Изд-во Aкадемии Наук СССР, 1941.
- Крадин Н.Н. Вождество: современное состояние и проблемы изучения // В кн.: Ранние формы поли-тпческой организации. - M.: [Б. п.], 1995.
- Крадпп Н.Н. Империя хуппу. 2-е пзд. - M.: [Б. п.], 2021. - 312 с.
- Крадпп Н.Н. Империя хуппу. - Владивосток, 1996. - 278 с.
- Крадпп Н.Н. Кочевые общества (проблемы формацпоппой характеристики). - Владивосток, 1992. - 240 с.
- Кычанов E^. Кочевые государства от гуппов до мапчжуров. - M.: Восточная литература, 1997.
- Mатренин С.С., Тпшкпп A.A. Булап-кобппская культура Горного Aлтая // Социальная структура рапппх кочевппков Eвразии. - Иркутск: ИрГТУ, 2005. - С. 152-182.
- Mиняев С.С. «Социальная планиграфия» погребальных памятников сюппу // Проблемы археологии скпфо-спбпрского мпра (социальная структура п общественные отношения. Ч. I. - Кемерово, 1989. - С. 114-117.
- Папегпрпк Mамертина, произнесенный в депь рождения августа Mаксимиана. - Иптерпет-ресурс. Режпм доступа: http://ancientrome.ru/antlitr/panegyrici/transl3-f.htm (18.02.2020)
- Петрепко В.Г., Mаслов В^., Капторовпч AJ. Погребеппе зпатпой скпфяпкп пз могпльппка Новоза-веденное-II (предварительная публикация) // Aрхеологические памятники раппего железного века Юга Росспп. - M.: ИA РAН, 2004. - С. 179-210.
- Повесть временных лет / Сост., примеч. п указ. A.T. Кузьмина, В.В. Фомппа. Вступ. ст. п пер. A.T. Кузьмина; отв. ред. ОА. Платонов. - M.: Ип—стптут русской цпвплпзацпп; Родпая страна, 20l4. - 544 с.
- Полосьмак Н.В. Всадппкп Укока. - Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2001. - 336 с.
- Сафропов A^. Военные походы у древппх майя: организация п логпстпка. Краткие сообщения Института археологпп РAН. Вып. 231. - M.: Языки славянской культуры, 2013. - 252 с.
- Сафропов A^. Опыт п перспективы применения геоинформационных систем в реконструкции исторической политической географпп древппх майя // Восток, Eвропа, Aмерика в древности: Сборппк научных трудов XVII Сергеевских чтеппй. Вып. 2. - M.: Изд-во MT^ 2012. - С. 205-217.
- Стрпжак M£. О жепскпх погребениях с оружием кочевппков Прпуралья п Поволжья в VI - начале IV вв. до п. э. // Вооружение сарматов: Региональная типология п хропологпя. - Челябинск: ЮУрГУ, 2007. - С. 71-75.
- Таскпп В.С. Mатериалы по псторпп сюппу. Вып. 2. - M.: Наука, 1973.
- Тацпт К. Соч.: В 2 т. Т. 1: Aгрикола. Германия. Исторпп. - СПб.: Л.Ф. Пантелеев, 1886. - 337 с.
- Фиалко E.E. Скифские амазонки по письменным и археологическим источникам // Боспорский фе-помеп: Проблемы соотношения письменных п археологических источников: Mатериалы Mеждуна-родпой паучпой конференции / Отв. ред. В.Ю. Зуев. - СПб.: [Б. п.], 2005. - С. 242-247.
- Худяков Ю.С. Особенности воеппой организации у помадов // История п современность. - 2015, № 1. - С. 104-113.
- Шкунаев С.В. Общппа п общество западных кельтов. - M.: [Б. п.], 1980.
- Щукин M. Б. Готскпй путь. Готы, Рпм п черпяховская культура. - СПб.: Фплол. фак-т СПбГУ 2005. - 575 с.
- Энгельс Ф. Происхождение семьп, частной собственности п государства. - M.: Изд-во политической литературы, 1976. - 224 с.
- Ambrosius Mediolanensis Sanctus. De Spiritu Sancto Libri Tres Ad Gratianum Augustum. Lib. 1 // Patrologia Latina. - Paris, 1845. - Р. 703-742.
- Carneiro R.L. The Circumscription Theory: A Clarification, Amplification, and Reformulation// Social Evolution and History. Vol. 11, No 2. - March 2012. - M.: Uchitel. - P. 5-30.
- Davydov S. The Chief and His Sacral Power // Wisdom. Vol. 6. - 2016, № 1. - P. 72-78.
- Faust A. Abandonment, Urbanization, Resettlement and the Formation of the Israelite // Near Eastern Archaeology. Vol. 66. - 2003, № 4. - Р. 153-165.
- Flanagan J.W. Chiefs in Israel // Community, Identity, and Ideology: Social Science Approaches to the Hebrew Bible / Ch.E. Carter, C.L. Meyers (eds.). - Indiana, 1996. - P. 311-334.
- Frankfort H. La Royauté et les Dieux. - Paris: Payot, 1961.
- Garfinkel Y., Ganor S. Khirbet Qeiyafa. Vol. 1. Excavation Report. 2007-2008. - Jerusalem, 2009.
- Godelier M. Les tribus dans l'Histoire et face aux Htats. - Paris, CNRS Hditions, 2010. - 88 p.
- Haas J. Introduction to Part II. In Haas, J. (ed.) From Leaders to Rulers. - New York: Kluwer Academic/ Plenum Publishers, 2001. - P. 35-36.
- Hassig R. War and Society in Ancient Mesoamerica. - Berkeley: University of California Press, 1992. - 337 p.
- Heather P., Matthews J. The Goths in the Fourth Century. - Liverpool, 1991. - 211 p.
- Martin S., Grube N. Maya Superstates // Archaeology. 1995, № 6. - Pp. 41-46.
- Lehmann W.P.A Gothic Etymological Dictionary. - Leiden, 1986. - 712 p.
- Martin S., Grube N. Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya. - London; New York: Thames and Hudson, 2000. - 240 p.
- McNutt P.M. The Forging of Israel. Iron Technology, Symbolism, and Tradition in Ancient Society. -Sheffeld, 1990. - P. 172-186.
- Miller M., Martin S. Courtly Art of the Ancient Maya. - New York: Thames and Hudson, 2004. - 303 p.
- Morley S. The Maya New Empire // Cooperation in Research. - Washington: Carnegie Institution of Washington, 1938. - P. 533-565.
- Morley S., Brainerd G. The Ancient Maya. 3rd ed. - Stanford: Stanford University Press, 1956. - 494 p.
- O'Corrian D.Ireland before the Normans. - Dublin, 1972.
- Oberg K. Types of Social Structure Among the Lowland Tribes of South and Central America. // American Anthropologist. - 1955, No 57. - P. 472-487.
- Proskouriakoff T. Historical Implications of a Pattern of Dates at Piedras Negras, Guatemala // American Antiquity. Vol. 25. - 1960.
- Redmond E.M. Tribal and Chiefly Warfare in South America. Ann Arbor: Museum of Anthropology. -University of Michigan, 1994. - 128 p.
- Roux J. L'origine celeste de la souverainte dans les inscriptions paleolitiques de Mongolie et de Siberie // The Sacral Kingship. - Leiden, 1959. - P. 237-239.
- Roux J. La religion des Turc et des Mongols. - Paris, 1984.
- Thompson J.E.S. The Rise and Fall of Maya Civilization. - Norman: University of Oklahoma Press, 1954. - 287 p.
- Webster D. Defensive Earthworks at Becan, Campeche, Mexico: Implications for Maya Warfare; New Orleans: Tulane University, Middle American Research Institute, 1976. - 134 p.
- Williams T. Fiji and the Fijians. - London: Hodder & Stoughton, 1870.
- Wolfram H. History of the Goths / Transl. by T.J. Dunlop. - Berkeley: University of California Press, 1987. - 627 p.