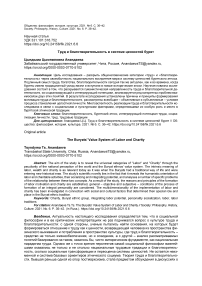Труд и благотворительность в системе ценностей бурят
Автор: Цындыма Цымпиловна Анандаева
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6, 2021 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования – раскрыть общечеловеческие категории «труд» и «благотворительность» через своеобычность национального восприятия мира и систему ценностей бурятского этноса. Подлинный смысл труда, богатства, благотворительности сегодня так же актуален, как и во времена, когда буряты имели традиционный уклад жизни и вступали в новые исторические эпохи. Научная новизна исследования состоит в том, что раскрывается гуманистическая направленность труда и благотворительной деятельности, их социализирующий и интегрирующий потенциал, анализируется ряд конкретных проблем взаимосвязи двух этих понятий. В результате исследования установлены причины и принципы формирования мотивации труда и благотворительности, рассмотрены всеобщие – объективные и субъективные – условия процесса становления целостной личности. Многоаспектность реализации труда и благотворительности исследована в связи с социальными и культурными факторами, определившими их особую роль и место в бурятской этнической традиции.
Благотворительность, бурятский этнос, интегрирующий потенциал труда, социализация личности, труд, трудовые традиции
Короткий адрес: https://sciup.org/149134190
IDR: 149134190 | УДК: 331.101:316.752 | DOI: 10.24158/fik.2021.6.6
Текст научной статьи Труд и благотворительность в системе ценностей бурят
Забайкальский государственный университет, Чита, Россия, ,
Transbaikal State University, Chita, Russia, ,
Введение. Актуальность настоящего исследования определяется тем, что в социальной философии и в ее критических интерпретациях не раз поднимался вопрос о культуре труда и благотворительности: с одной стороны, ученые пытались найти основания, на которых будет формироваться отношение к труду как к ценности, возвращающей человека из пространства физического выживания и потребления в пространство культуры, где труд и благотворительность – средство не только жизнеобеспечения, но и созидания, а с другой – анализ рассматриваемых понятий базировался на таком, казалось бы, чисто эмпирическом фундаменте, как национальная парадигма труда. Однако же с точки зрения перспектив самой социальной философии важнейшими оказались не только и не столько национальные трудовые традиции и благотворительность, сколько социальные трансформации и переоценка системы ценностей. Не остается неизменной и система базовых ориентиров этнического социума. Теория труда и благотворительности, бывшая раньше одной из опор постмарксизма, стала предметом обсуждения в дискуссиях о социальной политике, идеологии эгалитаризма, социальной и экономической справедливости [1]. Не будет преувеличением сказать, что проблема формирования мотивации к труду и благотворительности является одной из наиболее актуальных в системе общественных наук. Интерес к ней обусловлен тем, что именно с формированием модели государства благосостояния связаны надежды на упрочение стабильности существования, установление принципиально новых отношений между обществом и государством, между различными социальными слоями.
На этапе современности в общественных науках снова были реабилитированы и в аналитическом, и в нормативном отношении понятия «труд» и «благотворительность». Они стали рассматриваться в качестве знаковых составляющих современной культуры.
Частью дискуссий о труде и благотворительности стала проблематика трудовой миграции, социальной безопасности и этничности. Растет социальное неравенство, и в рамках установок на материальные ценности всем, не успевшим победить в условиях рыночного отбора, внушается их несостоятельность, неприспособленность к современным условиям, неуспешность.
Обозначенные аспекты проблемы указывают на необходимость социально-философского исследования феномена труда и благотворительности в контексте этнической культуры. Достижение цели исследования предполагает выполнение следующих задач, среди которых: во-первых, анализ и интерпретация категорий «труд» и «благотворительность» в контексте этнического мировоззрения; во-вторых, обоснование значимости трудовой и благотворительной деятельности в социализации личности и интеграции общества; в-третьих, раскрытие социально-гуманистического аспекта труда и благотворительности, обнаруживающих линии пересечения и заметную взаимообусловленность. Для реализации поставленных задач использовался разнообразный теоретический материал (социально-философский [2], исторический [3], биографический [4], религиоведческий [5], этнографический [6]).
Основными методами исследования были избраны социально-философский, исторический, системный анализ.
Практическая значимость работы состоит в возможности использования ее результатов в разработке теоретических и практических курсов по социальной философии, этнопсихологии, бурятской этике и другим смежным социогуманитарным направлениям.
Труд как основа формирования целостной личности и нравственного самосознания народа. Духовно-нравственная атмосфера жизни каждого этноса формируется исторически как результат и объективное отражение многочисленных перипетий его хозяйственного, социокультурного и политического опыта. Уклад жизни, окружающая среда, типы хозяйствования, трудовая деятельность, обычаи определяют не только условия процесса воспитания подрастающего поколения, но и его содержание. Бурятская семья всегда придавала огромное значение процессу трудового воспитания, считая необходимым понимать его как дело жизни, поскольку в нем воплощается существо самого человека. Эта идея содержится в формуле: «ХYн болохо ба-гаhаа, хYлэг болохо унаганhаа» («Человеком становятся уже с детства, рысаком - с жеребенка»). Установка на труд в бурятском мире - удивительное явление. Согласно ей труд необходим человеку не только для достижения практических целей, но и для того, чтобы стать для него истоком нравственной силы и потомственного достоинства.
В бурятской семье осуществлялся дифференцированный подход к мальчикам и девочкам в процессе их трудового обучения и воспитания. В этой связи сразу же заметим, что все виды трудового обучения и воспитания, применяемые к детям, уже учитывали будущие различения мужского и женского труда.
Неоспоримая заслуга в формировании основных жизненных идеалов детей принадлежит родителям. Бурятская мудрость гласит, что родители, прививающие своим детям навыки трудолюбия, обеспечивают их лучше всякого наследства. Отсюда, кстати сказать, нравственный императив: «Ухи хYYгэдee бороор Иургаха» (бур. боро - серый, перен.: «воспитывать детей выносливыми и неприхотливыми»). О высоком статусе и престиже традиционных категорий конструктивно-деятельностного потенциала человека свидетельствуют смысловые вербальные формы: «Долоон голтой хүн» («У него семь жизненных центров (аорт)»), «Алтан гартай хүн» («У него золотые руки»), до сих пор бытующие у бурят в позитивном, похвальном контексте. Напротив, значения слов «бира^й», «Иогногор», «Иула», «hYлгYй», «тулюур», «ядуу» имеют смысл какой-то ущербности и незрелости человека, отсутствия у него внутреннего стержня. Также речь может идти об уровне мастерства, в котором конституируется значение «дYй дYршэл» («опыт, навык, сноровка»), и о другом, низком уровне мастерства - «дYй муутай» («неумелый, неискусный, беспомощный»).
Утверждая, что труд - нечто первостепенное в воспитательном процессе, народная мысль признает, что известная связь между трудолюбием и честью имеет место: «Нэрээ хухаранхаар, яИаа хухарИан дээрэ» («Чем опозорить имя, лучше кости поломать»); «Эрхые Иуранхаар, бэрхые hypa» («Чем привыкать к нежностям, лучше научиться труду»); «Ажалша xyh нэрэеэ нэмээхэ, аашатай xyh хYHдэеэ буураха» («Труженик приумножает свою честь, легкомысленный человек теряет уважение»). Иногда выражениями «hэлэн хатарха» («бесполезно бегать»), «хайша хэрэг юумэ хэхэ» («делать кое-как») характеризуется беспринципное, безответственное отношение не только к труду, но и к жизни.
В представлениях о труде, сформировавшихся в ходе деятельности многих поколений бурят-скотоводов, систематических наблюдений за процессом труда, фазами его начала, продолжения, завершения и т. д., нас особо интересуют не их конкретные и, вероятно, неповторимые своеобразные регламентации, а всеобщие воспитательные интенции, которые делают эти представления требованиями и благодаря которым конституируются специфические этнические качества, обусловленные трудовой сферой.
Прояснению сути труда посвящены следующие формулы: «ТYргэн тYYхэй, удаан даамай» («Что сделано в спешке, то непрочно, что сделано постепенно, то прочно», дословно: «Скорый -сырой, долгий - надежный»); «Hураhан юумэ hураар татуулха^й» («К чему привыкнешь, от того и ремнем не оторвешь»); «Ехээр хэхэ гээ hаа багаhаань эхилэ» («Хочешь много сделать - начинай с малого»); «MYнee хэхэ юумэеэ Y^ee 6y болго» («Что можно сделать сегодня, не откладывай на завтра»); «ТYмэрэй халуун дээрэ дабта» («Куй железо, пока горячо»); «Эхилбэл - дууhаха хэрэгтэй, бэдэрбэл - олохо хэрэгтэй» («Начал - надо довести до конца, ищешь - надо найти»); «Yдэрee гээhэн Yглeeнь гэмшэхэ» («Сегодня день потеряешь, завтра раскаешься»).
Реализация требований, заложенных в представленных выше высказываниях, обеспечивает воспитание определенных личностных качеств, значительную сформированность и прочность каркаса этнической концепции труда, содержащего в себе элементы многовековых трудовых традиций.
Обосновывая нравственную допустимость положительного отношения к богатству и предприимчивости, старшие давали наставления младшим: «Ажал хэрэгээ амжалтаар шэмэн ябагты» («Свои дела украшайте (подкрепляйте) достижениями»); «Хара хYлhee гаргажа, хамаг юумэеэ ологты» («Добро наживайте свое потом») и т.д. При этом хозяйственный или коммерческий успех они относили не столько к врожденным качествам - сметливости и находчивости, сколько к особым усилиям в организации труда, предприимчивости и опыту. Таким образом, старанию, радению и упорству («шармайлга») принадлежит главная роль в результатах труда: «Наймаа найман хYлтэй, наймаашан хоер хYлтэй» («Торговля имеет восемь ног, торговец - две ноги»); «Орол-доhон xyh олзо олохо» («Кто старается, найдет счастье»); «Ажал хэхэдэ - ама тоhодохо, ажалгYй hуухада - аяга хооhодохо» («Потрудишься - рот в масле, не потрудишься - пусто в чашке»); «Мал хараhан - ама тоhодохо» («Будешь ухаживать за скотом - будешь всегда сыт»); «Унаhан малгайгаа абангуйгеер хYДэлхэ» («Работать, не поднимая упавшей шапки»); «ХYДэлмэридэ хYДэржэхэ, ажалда атаржаха» («В работе крепнуть - в деле процветать»).
К этому важнейшему положению добавляются некоторые уточнения. Отношение к труду не исчерпывает его целостной сущности. Но при этом различия в таких отношениях могут быть поставлены в связь с моральными установками: «ХYДэлжэ олоhон - хYДэр бYхэ» («Заработанное крепко лежит»); «ХYДэлмэришэ хYHэй хYлhэн гоожохо, хомхой хYHэй шYлhэн гоожохо» («У работяги течет пот, у жадины текут слюни»); «Ажалша xyh арад зондоо хYHдэтэй, хYДэлмэришэ xyh xyh зондоо туhатай» («Труженик достоин уважения, трудящийся человек полезен народу»).
Умудренный житейским опытом глаз простого бурята издавна очень строго отличал благоприобретенное богатство от неправедно нажитого. Этот опыт обнаруживается в пословицах и поговорках. И не только отрицательный, но и позитивный, побуждающий не поступаться честью и совестью ради благополучного, безбедного существования: «YлYY хараад, булуу химэлхэ» (букв.: «Пожелал большего - поглодал кости; погонишься за большим, потеряешь последнее»); «Худал охор хYлтэй юм» («У лжи короткие ноги»); «Хулууhан xyh хоер нугэлтэй, хулуулгаhан xyh хорин нугэлтэй» («На укравшем два греха, на потерпевшем - двадцать»); «3yy хулууhан - гYY хулууха» («Кто украдет иголку, тот украдет и кобылу»); «Булхайлжа эдиhэн бYлшангаараа га-раха» («Неправдой нажитое через икры выходит»); «ХYлhэ гарган^й олоhон юумэн хYHэй зеери болохогYй» («Легко нажитое не будет богатством»); «ХYHгэн олзо - хeehэн, бэлэн зеери - бYлхин» («Легко добытое - пена; готовое имущество - жила») и т.д. Это призыв к тому, чтобы честно трудиться, полагаясь на свое ремесло, вместо того чтобы любыми путями, ценой своего человеческого достоинства добывать себе пропитание.
Жизнь человека труда всегда была на виду, известно, с какой решительностью он отстаивает свое достоинство, с каким радением он относится к делу, проявляет творческую активность и дисциплинированность, а поэтому в народном сознании сложился устойчивый образ уверенного в себе человека и даже человека жизнестойкого, несмотря на все перипетии жизни.
Уровень мастерства, отношение к труду (трудоспособность, целеустремленность, настойчивость) включаются в трудовые заслуги, совокупный результат труда составляет жизненный успех человека. Таким образом, жизненный успех не случайность, а достижение самого человека. И это очень важный тезис для нашего времени. Не следует уповать на счастливое стечение обстоятельств, дары судьбы, но самому нужно честно и мужественно идти навстречу удаче. Напротив, есть категория людей, за которыми уже прочно закрепилась репутация вертких бездельников, потерявших стыд и совесть, не говоря уже о способности пойти на самые подлые поступки ради того, чтобы быть сытым и пристроенным в жизни. Подчеркивается, что различные аспекты этических содержаний (например, различие честного и обманного, достойного и унизительного, плодотворного и никчемного) в этом случае остаются в стороне, ибо они не интересуют человека, занятого чисто меркантильными переживаниями. Также утверждается, что без воли ничто в жизни человека не состоится - ни богатство, ни уважение, ни карьера: «Yгырхэ баяжаха хоер Yбэл зун хоертол» («Обеднеть и разбогатеть, словно зима и лето»); «ХооИон тогоон хонги-роошо, хубхай амитан ИаймИарааша» («Пустой котел больше гремит, пустой человек подлизывается»); «Yгытэй хYн YнэгYй» («Бедняк неуважаем»); «YгырхэгYй - баян эрдэмИээ» («Быть безбедным - от хорошего знания»).
В основе этических учений бурят лежит идея об уязвимости самой природы человека, его подверженности разного рода соблазнам, сопровождающим его и встроенных в единство жизненного цикла. Суть дела усматривается вот в чем: несовершенство и слабость человеческой натуры, конечно же, не сбрасываются со счетов; однако не в них корень зла, а в излишней самоуспокоенности. Это лень, стремление к праздности и безделью. Казалось бы, в таких условиях человек обречен на подчиненное положение в жизни. Между тем труд понимается в такой превращенной системе ценностей как тяжкое наказание, переживается как непосильное бремя, освобождение от которого и дает человеку счастье. Тот, кто привык к праздному образу жизни, не стыдится своей лени и никчемности.
Многие проблемы людей имеют внутренние причины, над которыми необходима тщательная работа. Народная мысль вскрывает те человеческие качества, которые препятствуют развитию личности, превращая ее жизнь в пассивное и безответственное существование: «Залхуугай гэртэ тYлеэн Yгы, залгидагай гэртэ эдеэн Yгы» («Во дворе лентяя нет дров, в доме прожорливого нет еды»); «Залхуу хYнэй тогоон хооИон» («У бездельника котел пуст»); «Залхуу хYн зайгааша» («Бездельник - бродяга»).
Раскрывая смысл нравственного учения бурят, важно делать проекции на современные ситуации, не только выявляя исторические координаты размышлений, но и подчеркивая общечеловеческое, непреходящее содержание этических категорий в учении бурятского этноса.
Интегративный потенциал трудовых традиций бурят. Сознательное отношение бурят к труду вырастает из естественного, органичного порядка жизни. Трудовая деятельность этого этноса исторически связана с циклическим (круглогодичным) пастбищным скотоводством, разведением крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов, овец и коз, получивших общее название «табан хушуун мал» («пять видов скота»). Трудовой цикл населения был неразрывно связан с природно-климатическими условиями. Скот являлся основой существования бурят, мерилом богатства, средством платежа, важнейшим товаром. Тонкое и вместе с тем глубокое замечание относительно ценности пяти видов скота в традиционном бурятском обществе делает Ж.Т. Тумунов: «Считалось счастьем, - пишет он, - если хозяин имеет стадо, состоящее из животных всех пяти видов домашнего скота... Такой хозяин имел коня для езды, корову с приплодом на молоко и мясо, овцу на мясо в период сенокоса, шерсть и овчину на одежду» [7, с. 74]. Ясно, что эта область хозяйственной практики требовала особых знаний по уходу и содержанию каждого вида скота, а значит, и многообразных приемов и способов конструктивизации деятельности, соответствующей технологии производства и переработки мяса, молока, шкуры, кожи, шерсти.
Наконец, совместное выполнение трудоемких хозяйственных работ, которое, требуя строго производственной методологии и нравственной ответственности, утверждало ощущение причастности к общему делу, обеспечивало повседневные контакты и взаимопонимание с членами трудовой ассоциации, - фактор, во многом определивший «лицо» бурятского этноса. Если речь идет о мужском труде, считается возможным говорить об объединении усилий для осуществления таких ответственных операций хозяйственного цикла, как, например, перекочевка, заготовка сена, сбор урожая и т.д. Объединение усилий женщин может произойти при выполнении ими следующих работ: выделка кожи, стрижка овец, катание войлока и т.д.
В цикле работ Л. Линховоина, посвященных материальной культуре агинских бурят, одна имеет подзаголовок «Домашнее ремесло. Обработка кожи и шерсти». В ней автор показывает, что многие хозяйственные занятия предполагали высокую степень интеграции труда: «Вся ра- бота по обработке шерсти и производству войлока выполнялась сообща с помощью родственников и соседей - это было событие и повод собраться вместе не только ради работы» [8, с. 217]. Только совместные усилия позволяли осуществить эти чрезвычайно сложные для одного человека операции. Можно даже говорить о трудовой ассоциации как «большой семье», сплоченной и единой на основе естественных человеческих чувств, прежде всего уважения к труду, исключающего праздность и безделье. Ту же атмосферу, как известно, создавали и в семье.
Богатство и предприимчивость в контексте религиозно-нравственных представлений и благотворительной деятельности бурят. Отношение бурят к благотворительности вскрывает не менее значимый мировоззренческий пласт их коллективного сознания -именно здесь обнаруживаются наиболее важные, связанные с практической деятельностью убеждения человека. Труд в понимании бурят связан с категориями «богатство», «достаток». За этим концептом следует благотворительность. Однако очень важно понять, что же движет людьми, обладающими богатством, при осуществлении благих дел. Насколько самозабвенно и искренне человек стремится к тому, чтобы восторжествовала идея справедливости, или насколько невозможно человеку оптимально осуществить благие замыслы, поскольку его беспокоят лишь стремление к богатству любыми путями, к славе, к почестям, к выгоде, или насколько совместимо благодеяние с реалиями сегодняшней жизни - таких вопросов будет немало. Народная этика не отрицает богатства и не прославляет бедность - ведь подлинное богатство добывается неустанным трудом, а бедность происходит от бездействия. Чем является для человека богатство - средством осуществления благих целей (помощи родным, своему народу) или, наоборот, он не способен держать судьбу в своих руках, становясь пленником своего богатства? Тот, кто добывает богатство нечестным путем, тот, как считается в народе, и тратит его без пользы: «ХарамнаИан юумэн хара нохойн аманда орохо» («Что пожалеешь, то попадет в пасть черной собаки»).
Немалое значение имеет тот уже упомянутый факт, что бурятам не свойственно стремление к накопительству. Им ненавистны такие черты характера, как жадность, алчность, зависть: «Харуу хYнэй хутага мохоо байдаг» («У скупого человека и нож бывает тупым»); «Харуу хYн хойто наИандаа Yгытэй ядуу ябадаг» («Скаредники в будущей жизни рождаются бедняками»); «Харуу хYнэй Ианаан ДYYPЭДЭГГYЙ, хара нохойн гэдэИэн сададаг^й» («У жадного душа ненасытна, а у злой собаки - брюхо»). Подлинное богатство добывается знанием, умением, честным трудом: «Хочешь быть богатым - учись ремеслу. Богатство со временем иссякает, а умение - нет».
Важно заметить, что в бурятском языке существует много дефиниций и фразеологических единиц, выражающих свойства характера и интенции человека в отношении к материальным ценностям. Слово «шунахай» имеет значения: 1. Алчный, жадный, корыстный. 2. Хищный, кровожадный [9]. Все они проистекают из семантики слова «злоупотреблять». Примером его использования является выражение «шунахай сэдьхэлтэй», приблизительно соответствующее русскому «быть падким до чего-либо». Такова еще одна фиксируемая народом бурят грань темы труда.
Проблемы морали, социальной справедливости, личной ответственности в дискурсе бурятского мировидения содержат в себе образцы этической парадигмы буддийской философии. Этот нравственный смысл жизни человека становится условием ее полноты. Уместно спросить: как преодолеть жесткое противоречие между активным занятием предпринимательством и буддийским благочестием, стремлением к богатству и моральным принципом умеренности? Представляется, что для этого имелись не только экономические, психолого-престижные и карьеристские предпосылки. Люди, которым удавалось найти рациональную формулу комбинирования материальных и духовных ценностей в конкретных обстоятельствах жизни, заслуживали уважения как со стороны окружающих, так и в последующих поколениях потомков. Примером подобного вывода может служить то, что в структуре бурятского этнического сознания концепт «ɣйлын ɣрэ» (кармическое воздаяние) (бур. урэ - 1. Плод, семя, зерно. 2. Результат, следствие, продукт; бур. уйлэ - 1. Дело, действие, поступок. 2. рел. Деяние. 3. Беда, несчастье. 4. Математическое действие [10])) выступает в качестве принципа этической обусловленности. Он является своего рода конституирующим в жизненной философии, а совесть, твердое слово, честь - не только его применением в частных случаях жизни, специфических актах конкретного индивида (действие), но и гарантией благоденствия и преуспевания его потомков (воздаяние). В торгово-деловой сфере именно тем, кто живет воздержанно, кто не тратит денег впустую, кто следует строгим нормам буддийской морали, доверяют и готовы с ними сотрудничать. Существовало множество пословиц о твердом слове: «ХэлэИэн угэдее хурэхэ, эхилИэн ажалаа бутээхэ» («Дал слово - надо сдержать, начал работать - надо довершать»); «ХэлэИэн угэеэ Ианажа ябабал, эндуурхэгуй, хэИэн ажалаа танижа ябабал, зобохогуй» («Если помнить об обещанном слове - не ошибешься, если поднатореть в своем деле - не будешь бедствовать»).
Утверждение духа солидарности и социальной справедливости было обусловлено традиционными основаниями, и важнейшая заслуга в процессе реализации благотворительности принадлежит этической и правовой системам. В рамках бурятского общества обязанность помогать сиротам и вдовам была «узаконена» на уровне общественного сознания.
Важно для бурятской традиции и следующее: наличие потребности самой личности делать пожертвования в пользу общества совершенно не зависимо от того, насколько успешно ее продвижение в делах или стабильно финансовое положение.
Примечательна в отношении благотворительности история выдающегося бурятского ученого-востоковеда, путешественника и общественного деятеля Гомбожаба Цыбикова, удостоенного высшей награды Русского географического общества - золотой медали и премии Н.М. Пржевальского. Его успешная научная карьера стала возможной во многом благодаря тому, что зем-ляки-агинцы финансово участвовали в строительстве Читинской гимназии, в которой он получил блестящее образование [11, с. 21].
Известно много фактов крупных пожертвований бурят в пользу буддийских монастырей, больниц, гимназий и школ. Для военных периодов истории страны характерны благотворительные акции бурятского населения в виде сбора денежных средств в фонд обороны, в том числе и в целях обеспечения фронта и оборонных промышленных предприятий различными видами промышленного и сельскохозяйственного сырья [12].
Заключение. Возвращаясь к оценке места труда и благотворительности в структуре ценностей бурятского этноса, можно сформулировать пять основных положений.
Во-первых, эта форма культуры труда, осуществляющая функции социализации, а потому поддающаяся регулированию обществом, была типологически совместима с духовно-нравственным воспитанием, о чем бы ни заходила речь - об оценке результатов труда, основных жизненных идеалах, характеристике человеческих качеств.
Во-вторых, в отличие от других видов деятельности, основанных на индивидуальном устремлении, труд и благотворительность опираются на интегрирующую функцию. Причем следует иметь в виду, что под интеграцией понимается здесь не только взаимопомощь, но и любые другие внешние средства: элемент социального инвестирования; механизм формирования социально ответственного бизнеса; средство социальной реабилитации наиболее уязвимых категорий населения; инструмент разрешения возникающих проблем.
В-третьих, труд и благотворительность являются особыми социокультурными феноменами, обусловленными традиционными основаниями и отражающими социальную мобильность и гражданскую активность бурят на основе принципов личной ответственности, солидарности и социальной справедливости.
В-четвертых, труд и благотворительность не просто укладываются в систему ценностей бурят, но и соответствуют той общей интенции, которая стоит за формированием целостной личности как таковой: обеспечить возможность полноценной социальной жизни в той сфере, которая затрагивается данными видами деятельности. Особо востребованной стала буддийская философия, обогатившая бурятскую культуру системой базовых ориентиров, пытаясь противопоставить ее миру стяжательства, наживы и бездушного потребления. Благодаря такому пониманию труд и благотворительность для бурят выступают средством воспитания и лекарством от социальных болезней общества. Своеобразным «ограничителем» лени, праздности, безделия и других пагубных привычек выступает этнопедагогика.
В-пятых, все сказанное позволяет еще раз сжато сформулировать суть труда и благотворительности как положительно ориентированной практической жизнеустроительной деятельности, определить их актуальность в современной бурятской культуре и уточнить, в чем их отличие от представлений других этносов. Суммируем главные моменты, касающиеся труда и благотворительности бурят и демонстрирующие способ их этнического мировидения: умение ставить цели и с четкой последовательностью добиваться их осуществления, неизменно сохраняя чувство собственного человеческого достоинства. Разумеется, это удается далеко не всем. Суровые природно-климатические условия и особенности кочевой жизни определили жесткую требовательность к результатам труда, дисциплинированность, выносливость, непритязательность рассматриваемого этноса. Трудолюбие характеризуется бурятами как добродетель, залог материального благополучия, понимается как своеобразный гарант благосостояния семьи, близких людей.
Изучение общих закономерностей и различных нюансов феноменов труда и благотворительности позволяет не только лучше представить их современное состояние, но и наметить возможные тенденции их будущего развития. Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более детальном изучении подобных прогнозов.
Список литературы Труд и благотворительность в системе ценностей бурят
- Сидорина Т.Ю. Социальная политика – попытка философской интерпретации // Вопросы философии. 2005. № 12. С. 20–29.
- Там же.
- Буряты : монография / отв. ред. Л.Л. Абаева, Н.Л. Жуковская. М., 2004. 633 с. ; Громыко М.М. Отношение к богатству и предприимчивости русских крестьян XIX в. в свете традиционных религиозно-нравственных представлений и социальной практики // Этнографическое обозрение. 2000. № 2. С. 86–99 ; Михеев Б.В. Благотворительность бурят в годы Первой мировой войны // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 11 (266). С. 119–122 ; Тумунов Ж.Т. Очерки из истории агинских бурят. Улан-Удэ, 1988. 176 с.
- Доржиев Ж.Д., Кондратов А.М. Гомбожаб Цыбиков. Иркутск, 1990. 236 с.
- Гальшиев Э.Х. Зерцало мудрости. Памятник бурятской литературы начала XX в. Улан-Удэ, 2006. 352 с.
- Линховоин Л. Лодон багшын дэбтэрhээ. Улан-Удэ, 2014. 464 с. ; Тумунов Ж.Т. Этнопедагогика агинских бурят. Чита, 1998. 162 с.
- Тумунов Ж.Т. Очерки из истории агинских бурят …
- Линховоин Л. Указ. соч. С. 217.
- Бурятско-русский словарь : в 2-х т. / сост. Л.Д. Шагдаров, К.М. Черемисов. Улан-Удэ, 2010. Т. 2: О–Я. 708 с.
- Там же. Т. 1: А–Н. 636 с.
- Доржиев Ж.Д., Кондратов А.М. Указ. соч. С. 21.
- Михеев Б.В. Указ. соч. ; Тумунов Ж.Т. Очерки из истории агинских бурят …