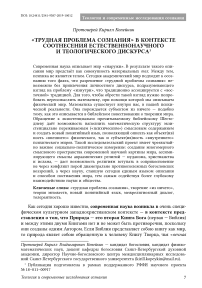"Трудная проблема сознания" в контексте соотнесения естественнонаучного и теологического дискурса
Автор: Копейкин Кирилл Владимирович
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Теология и современные исследования сознания
Статья в выпуске: 2 (4), 2019 года.
Бесплатный доступ
Современная наука описывает мир «снаружи». В результате такого описания мир предстаёт как совокупность материальных тел . Между тем, психика не является телом. Сегодня академический мир подходит к осознанию того факта, что разрешение «трудной проблемы сознания» невозможно без привлечения личностного дискурса, подразумевающего взгляд на проблему «изнутри», что традиционно ассоциируется с «восточной» традицией. Для того, чтобы обрести такой взгляд нужно попробовать переосмыслить математику, при помощи которой мы описываем физический мир. Математика существует внутри нас, в нашей психической реальности. Она порождается субъектом из ничего - подобно тому, как это описывается в библейском повествовании о творении мира. Обращение к экзистенциально прочитываемому библейскому Шестодневу даёт возможность наполнить математическую структуру экзистенциально переживаемым («психическим») смысловым содержанием и создать новый понятийный язык, позволяющий описать как объект(ив) ность «внешнего» физического, так и субъект(ив)ность «внутреннего» психического миров. Такой исследовательский проект имеет чрезвычайно важное социально-политическое измерение: создание многомерного смыслового пространства современной научной картины мира, ассимилирующего смыслы авраамических религий - иудаизма, христианства и ислама, - даст возможность религиям вступать в соприкосновение не через конфликт порой диаметрально противоположных богословских воззрений, а через науку, ставшую сегодня единым языком описания и способом постижения мира, тем самым содействуя более глубокому взаимодействию науки и общества.
«трудная проблема сознания», творение «из ничего», теория множеств, новый понятийный язык, межрелигиозный диалог, толерантность
Короткий адрес: https://sciup.org/140294843
IDR: 140294843 | DOI: 10.24411/2541-9587-2019-10012
Текст научной статьи "Трудная проблема сознания" в контексте соотнесения естественнонаучного и теологического дискурса
Как сегодня хорошо известно, современная наука возникла в очень специфическом культурном западнохристианском контексте — в контексте представления о том, что Природа — это вторая книга бога (первая — Библия) и между этими двумя Книгами нет и не может быть противоречия, поскольку они созданы одним Автором. Если Библия представляет собою книгу как мир, то природа являет собою обращенную к человеку Книгу Творца, чья « вечная
сила... и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы » (Рим 1:20). В результате естественнонаучное «прочтение» Книги Природы оказывается функционально похоже на исследование библейского текста.
В семиотике, исследующей знаковые системы, знаки могут быть осмыслены либо в своих взаимоотношениях с другими знаками, т. е. синтагматически, либо в своем отношении к обозначаемому предмету, т. е. семантически, либо в отношении к создателю или адресату сообщения, т. е. прагматически. С известной долей условности можно сказать, что раннехристианское богословие было занято прежде всего изучением прагматики книги Природы. Было осознано, что мир представляет собою текст 2 , поэму Творца3, обращенную к человеку. Это очень нетривиальная мысль! Мы являемся частью мира и при этом претендуем на то, что можем этот мир постичь как целое — не просто найти способ приспособиться к миру, но встать на такую точку зрения, которая в итоге позволит понять смысл мироздания, замысел Творца. Представим себе, что Пьер Безухов и Андрей Болконский, будучи персонажами романа Л. Н. Толстого «Война и мир», обсуждают структуру этого произведения и художественный замысел Толстого. Невероятно — но ведь мы, по существу, занимаемся тем же! Будучи частью Книги Мира, находясь «внутри» неё, мы стремимся понять законы природы и, в конечном счете, замысел Создателя. И именно то, что человек сотворен по образу и подобию Божию (Быт 1:26–27), а мир вложен в сердце человека (Еккл 3:11)4, даёт нам надежду на возможность прочесть Книгу Творца и постичь божественный замысел.
Средневековое богословие, исследовавшее символизм мироздания, изучало семантику различных «элементов» книги Природы5. Это также чрезвычайно нетривиальная мысль — мысль о том, что, во-первых, мир можно разделить на отдельные элементы, существующие относительно независимо друг от друга, и, во-вторых, о том, что каждый из этих элементов обладает своим собственным значением — не тем, которое мы на него проецируем, но тем, которое вложено в него Самим Творцом.
Пафос научной революции XVII столетия состоял в том, что от исследования семантики и прагматики мироздания новая объективирующая наука обратила свой взгляд к изучению синтагматики книги мира. Собственно, суть «объект(ив)ного» «западного» метода познания состоит в том, что мы описываем мир не по отношению к человеку, что неизбежно вносило бы элемент субъективности, а описываем отношения одних «элементов» мира к другим, точнее, — проекции различных элементов мира на измерительные приборы. Такое проецирование одних частей мира на другие называется измерением. Оно позволяет сопоставить элементам реального физического мира не существующие в природе математические объекты — числа, и дальше описывать мир (точнее — отношения между его элементами) при помощи математики. Получающиеся в результате физические теории оказываются теориями отношений. При этом вопрос о том, «что» именно соотносится между собой как бы «выносится за скобки» самой физики. В силу описанной «относительности» математические (структурные) теории физического мира открыты для содержательной интерпретации.
«минималистская» интерпретация классической физики — материалистическая. Тщательно проанализировав предпосылки новоевропейского естествознания, Иммануил Кант (Immanuil Kant, 1724–1804) в работе «Метафизические начала естествознания» показал, что начиная с эпохи Нового времени метафизика природы превращается в метафизику материи . вплоть до начала хх столетия материалистическая интерпретация физики себя оправдывала. но после возникновения теории относительности и, особенно, квантовой механики, ситуация радикально изменилась.
В 1905 г. вышла в свет работа Альберта Эйнштейна (Albert Einstein, 1879– 1955) «Зависит ли инерция тела от содержащейся в нём энергии?». В ней Эйнштейн приходит к выводу, что «масса тела есть мера содержащейся в нём энергии», что выражается самой, пожалуй, известной физической формулой E0 = mc2. Если задуматься, вытекающие из этой формулы последствия просто поразительны! Масса, фактически, представляет собою меру материи. Будучи субстанцией, материя существует сама по себе; она и её мера — масса — суть величина абсолютная. Физика выяснила, что материя переходит в энергию. Энергия же является характеристикой не субстанции, а процесса . Кроме того, энергия зависит от системы отсчёта и потому не может быть характеристикой субстанции. Поскольку масса эквивалентна энергии, то она так же не может быть характеристикой субстанции. Следовательно, рушатся все субстанциальные (материалистические) философии! Материи (как субстанции) нет — вот главный вывод, который следует сделать из специальной теории относительности!
Квантовая механика стала следующим колоссальным прорывом в нашем постижении природы реальности . Прежде считалось, что весь мир состоит из «объективно существующих» физических «тел», подчиняющихся непреложным законам природы. Исследуя мироздание, мы постигаем законы, управляющие этими телами. При этом мы можем столь «деликатно» наблюдать природу, что способны не вносить никакого возмущения в исследуемые системы. Но в квантовой механике ситуация оказалась абсолютно иной. Во-первых, выяснилось, что квантовомеханические объекты невозможно описать детерминистически, как описывали системы, подчиняющиеся законам классической физики. При этом оказалось, что необходимость использования вероятностного описания связана не с «приблизительностью» нашего способа описания, как то было в статистической физике, а с некоторой «свободой», как будто присущей микрообъектам. В 1967 г. математики Саймон Коушн (Simon Bernhard Kochen) и Эрнст Спекер (Ernst
Paul Specker, 1920–2011) доказали теорему о квантовой контекстуальности 6, суть которой сводится к следующему: состояние квантовой системы не может быть описано ни детерминистически, ни независимо от экспериментальной установки. В 2004 г. Саймон Коушн вместе с Джоном Конвеем (John Horton Conway) доказали теорему о свободной воле 7. Она гласит, что если физики-экспериментаторы действительно обладают свободой воли, т. е. их выбор того, что они будут измерять, не детерминирован предшествующей историей Вселенной, то результат произведённого над квантовомеханической системой измерения также не будет детерминирован предыдущей историей Вселенной, т. е. будет абсолютно непредсказуемым. Конвей утверждает, что этот результат является ярким свидетельством в пользу того, что проблески жизни и свободы есть в каждом элементе мироздания8.
Несомненно, что та физическая реальность, которая описывается квантовой механикой, совсем не похожа на материю в традиционном смысле этого слова. Но что это такое? Мы до сих пор этого не понимаем, хотя с момента возникновения квантовой механики прошло почти 100 лет9! Джордж Гринштейн (George Greenstein) и Артур Зайонц (Arthur Zajonc), авторы книги «Квантовый вызов», подчёркивают, что квантовые явления вынуждают нас к радикальному пересмотру наших представлений о физическом мире, который, к сожалению, пока так и не произошёл10. Выдающийся российский физик Нобелевский лауреат академик виталий лазаревич гинзбург (1916–2009) относил проблему интерпретации нерелятивистской квантовой механики к числу «трёх “великих” проблем современной физики»11, существование которых, по его словам, означает, что «пока вопросы не выяснены, ни в чём нельзя быть уверенным»12.
Но дело не только и не столько в проблеме переосмысления наших представлений о мироздании. Ситуация гораздо сложнее! Сегодня самые востребованные научные проекты — и, подчеркнём, самые финансируемые — это проекты исследования мозга и сознания. Но хотя ежегодно в мире растёт число лабораторий, анализирующих принципы работы мозга (в частности, в рамках американского проекта The BRAIN Initiative , европейского The Human Brain Project , японского Brain/MINDS и китайского China Brain ), однако ответа на вопрос, что такое сознание и как оно связано с функциями мозга (то, что Гинзбург называл «третьей великой проблемой физики»), по-прежнему нет. Дело в том, что мы по-прежнему представляем мир как совокупность материальных тел . Однако в мире материальных тел , по сути, нет места психическому . Действительно, в отличие от объективно существующих «тел» сознание субъективно — мы его переживаем . И абсолютно непонятно, как эта субъективность может появиться в объективном мире. Дэвид Чалмерс (David John Chalmers) формулирует главный вопрос, касающийся проблемы сознания, следующим образом: Почему объективные процессы в мозге не «идут в темноте», а «аккомпанируются» субъективным опытом? Если мозг может обрабатывать входящую информацию и преобразовать её в действия без каких-либо субъективных переживаний, то зачем вообще нужна субъективность?13 Кроме того, психическое, в отличие от физического, всегда на что-то направлено , интенционально . Если физические тела просто есть , то сознание всегда о чём-то : я о чём-то думаю, переживаю по поводу чего-то, из-за чего-то расстраиваюсь. Но если мозг и нейроны — это такие же физические тела , как и все остальные объекты материального мира, подчиняющиеся «объективно существующим» законам природы, то совершенно непонятно, как они могут порождать свойственные человеческой психике субъективность и интенциональность? «Если мозг — это просто атомы и пустота, — вопрошает один из влиятельнейших современных американских философов Джон Сёрл (John Roger Searle), — то как он может быть о чём-то ?»14.
Сёрл убеждён, что основное направление в философии сознания последних трёх четвертей века представляется очевидно ложным15. Он утверждает, что как картезианский дуализм, так и материалистический монизм — ложны. Дуализм, уверен Сёрл, не согласуется с современной научной картиной мира (прежде всего — в силу каузальной замкнутости физической картины Вселенной). Материалистический же монизм, несмотря на свою очевидную неспособность решить проблему сознания, является наиболее распространенным воззрением по причинам, скорее, психологического характера.
настойчивые попытки решить проблему сознания, оставаясь в рамках материалистической парадигмы, обусловлены не научными, но прежде всего «идеологическими» причинами — страхом перед возможностью допущения реальности «психического», от чего один шаг до приятия реальности «духовного». Действительно, если только допустить, что психика не «порождается» мозгом, а может существовать самостоятельно (оставляя пока в стороне вопрос о статусе такого самостоятельного существования), то сразу же возникает вопрос: не означает ли это, что существование психики возможно и без тела? Но тогда правомерно задать вопрос и о возможности посмертного существования души, и о правомочности отпевания и молитв за усопших, о существовании ангелов как бестелесных душ. Поскольку же это всё априорно считается обскурантизмом и «мракобесием», то размышлять в этом направлении просто запрещено!
Сегодня на исследования мозга и «трудной проблемы» сознания, как её стали называть с лёгкой руки Чалмерса16, направляются колоссальные ресурсы. И до сих пор поиск идёт в направлении поиска «материального субстрата» сознания, а значит, по мнению Сёрла, которого называют «живым классиком философии сознания», — в ложном направлении. Но цена ошибки очень велика: стоимость проектов исследований мозга составляет миллиарды долларов, и выбор ложного пути дорого обойдётся инвесторам! Выдающийся российский математик академик Игорь Ростиславович Шафаревич (1929–2017) отмечал, что вопрос о возможности компьютерной симуляции деятельности мозга (на что, собственно, направлен европейский The Human Brain Project ; в большинстве других проектов мозг также рассматривается как некий сложно устроенный гаджет ) есть, по сути, другая постановка вопроса о материальности мира17. Начиная с середины ХХ века, исследователи постоянно обещали нам, что искусственный интеллект будет создан «в ближайшее десятилетие». Ну и где он?! Хронические неудачи всех этих попыток свидетельствуют о том, что наши материалистические представления об устройстве мироздания являются ложными. Только расширение пространства научного поиска и включение в него теологического дискурса позволит преодолеть те материалистические «шоры», которые сегодня являются объективным препятствием на пути исследования сознания.
Ка же это может быть сделано? Как уже было сказано, математические (структурные) теории физического мира открыты для содержательной интерпретации . При этом уникальность нынешней ситуации заключается в том, что сегодня мы, похоже, дошли до пределов возможностей структурного познания. Этому есть два подтверждения — как теоретическое, так и экспериментальное.
теоретическое обоснование достижения предела возможностей структурного познания было дано крупным российским математиком академиком Людвигом Дмитриевичем Фаддеевым (1934–2017). Рассмотрев на основе теории деформации алгебраических структур переходы от классической механики к специальной теории относительности и квантовой механике, он показал, что квантовомеханическая и релятивистская революции в физике с точки зрения математики являются деформациями неустойчивых структур в устойчивые с параметрами деформации ħ и 1/с2. Устойчивость математических структур квантовой механики и теории относительности означает, что равновесие достигнуто, и дальнейшее движение по прежнему пути поиска всё более и более глубоких структур невозможно18.
Экспериментальное подтверждение достижение пределов структурного познания заключается в том, что квантовая механика, описывающая наиболее глубокий из достигнутых к настоящему моменту уровней реальности, свидетельствует о принципиальной невозможности обнаружения более «глубоких» структур. Выдающийся ирландский физик Джон Белл (John Stewart Bell, 1928–1990), размышляя над парадоксом Эйнштейна– Подольского–Розена19, в 1964 г. написал неравенства, экспериментальная проверка которых позволила бы различить две возможные ситуации. Вариант первый: если некие неравенства, получившие впоследствии название неравенств Белла, не нарушаются, то физическая реальность такова, что могут существовать не наблюдаемые нами локальные скрытые параметры, предопределяющие результат эксперимента. При этом, поскольку эти параметры являются скрытыми , то для нас результат измерения выглядит случайным; его вероятность может быть рассчитана с помощью обычных формул квантовой механики. Вариант второй: если неравенства Белла нарушаются, то реальность такова, что не может существовать никаких локальных «скрытых параметров», а измеряемые величины не существуют до осуществления процедуры измерения, а возникают в результате самой измерительной процеду-ры20. Нарушение неравенств Белла означает, что никакая физическая теория локальных скрытых переменных никогда не сможет воспроизвести все предсказания квантовой механики.
В 60-е и 70-е годы приборные возможности ещё не позволяли провести наблюдения подобного рода. Впоследствии целая серия экспериментов — решающим из которых был опыт, проведенный в 1982 г. группой под руководством выдающегося французского физика-экспериментатора Алена Аспэ (Alain Aspect) — выявила нарушение неравенств Белла21. Этот совершенно невероятный результат означает, что у нас не просто не получается обнаружить более глубокие структуры мироздания по причине несовершенства приборов или в силу недостатка энергии — этих более глубоких структур просто нет (заметим, что такими структурами, в определённом смысле, являются кварки, но они не существуют в свободном виде). Крупный американский физик Генри Сэпп (Henry Pierce Stapp) утверждает, что «теорема Белла — самое глубокое открытие науки»22, а видный американский физик и философ Абнер Шимони (Abner Shimony, 1928–2015) настаивает: «Философское значение неравенств Белла заключается в том, что они допускают практически прямую проверку иных картин мира, отличающихся от той картины мира, которую дает квантовая механика. Работа Белла позволяет получить некоторые прямые результаты в экспериментальной мета-физике»23. С мнением Шимони согласен и известный французский физик-теоретик, лауреат Темплтоновской премии 2009 г. Бернар д’Эспанья (Bernard d’Espagnat, 1921–2015), увидевший в экспериментах по проверке неравенств Белла «первый шаг к возникновению экспериментальной мета-физики»24. Нарушение неравенств Белла означает, что достигнут предел структурного познания; более «глубоких» структурных элементов мироздания, которые обладали бы самостоятельным «объективным» существованием, не существует. Отсюда, в свою очередь, следует, что обнаруживаемые нами структуры мироздания являются фундаментальными, онтологическими. Если на заре формирования квантовой механики ещё были надежды на то, что в будущем удастся создать более «детальную» теорию, свободную от индетерминизма (так, в частности, думал Эйнштейн), то сегодня мы с неизбежностью приходим к выводу, что это невозможно.
Означает ли это, что мы достигли принципиального предела познания и «наука закончилась»? Вовсе нет! Дальнейшее развитие науки возможно в направлении исследования содержания этих онтологических структур, в изучении процесса их возникновения. Для этого естественнонаучный объективирующий «западный» взгляд на мир «со стороны» должен быть восполнен (без утраты научной объективности) взаимодополнительным взглядом «изнутри», который традиционно ассоциируется с «восточной» традицией. Я убеждён, что такое синтетическое «двумерное», «стереоскопическое» воззрение на мир может быть обретено посредством «наполнения» формальной (структурной) физической теории экзистенциально переживаемым смысловым содержанием. Примечательно, что более полувека назад нобелевский лауреат Юджин Вигнер (Eugene Wigner, 1902–1995), обсуждая пределы и перспективы развития науки, указал на две важнейшие дисциплины, создающие взаимодополнительные картины мира: физику и психологию. Физика описывает внешний по отношению к человеку объект(ив)ный мир, психология — субъект(ив)ную реальность мира внутреннего. В полной картине мироздания, утверждал он, оба эти взгляда должны быть согласованы. Вигнер высказал надежду на то, что в будущем мы сможем объединить физику и психологию в одну, более глубокую дисциплину25.
Постепенно академический мир подходит к осознанию того факта, что разрешение «трудной проблемы сознания» невозможно без привлечения личностного дискурса, подразумевающего взгляд на проблему «изнутри», что традиционно ассоциируется с «восточной» традицией. В сентябре 2017 г. в Пизе (Италия) прошёл симпозиум, ставший первым из серии запланированных мероприятий, имеющих целью запуск термина «Mindscience» в качестве альтернативы термину «Neuroscience». Принявшие в нём участие исследователи высказали убеждение в том, что целостное изучение разума и сознания должно объединить подход «от третьего лица», типичный для западных наук, и так называемый подход «от первого лица», разработанный на Востоке на основе интроспекции и медитации. С целью начала такого диалога организаторы симпозиума пригласили принять в нём участие Далай-ламу26. В том же 2017 г. состоялись две встречи (в августе и в октябре) российских исследователей в области нейробиологии, нейрофизиологии, генетики, философии и психологии с Далай-ламой и буддийскими монахами в рамках программы «Фундаментальное знание: диалог российских и буддийских учёных»27.
Причины обращения учёных к мистической традиции Востока понятны: безличный буддийский подход, как им кажется, можно без проблем сочетать с объективизмом европейской науки. Однако именно без-личностность буддийского дискурса и мешает постичь личностный характер психично-сти. Хорошим примером малопродуктивности такого «формально-восточного» подхода может служить выдержавшая множество переизданий книга Фритьоф Капра (Fritjof Capra) «Дао физики»28. Параллели, которые усматривает автор между современной физикой и мистическими традициями Востока, так и остались просто параллелями. Отсутствие непосредственных пересечений не позволило получить сколько-нибудь значимый результат29. лишь обращение к той традиции, на почве которой и появились первые ростки современной науки, — традиции библейской (также восточной!), — может позволить прояснить метафизические предпосылки и теологические экспликации новоевропейского естествознания и, тем самым, решить «трудную проблему сознания».
Поясню, что я имею в виду. Как уже было сказано, современная наука возникла в контексте представления о том, что Библия — это первая Книга Бога, а Природа — вторая. Более того, как утверждал один из отцов-основателей современной науки Френсис Бэкон (Francis Bacon, 1561–1626), изучение книги Природы даёт ключ к более глубокому уразумению библии. Что же дало исследование второй Книги Бога? главный вывод естествознания, который впервые был сформулирован Галилео Галилеем (Galileo Galilei, 1564–1643), заключается в следующем: книга Природы написана на языке математики. Но самое главное, как подчёркивал Галилей, математическое познание мира «по объективной достоверности равно божественному» 30. Если задуматься — это поистине поразительно! Именно «идеальная» математика даёт самое верное описание физической реальности! значит, именно математика является ключом к библии! Но что такое математика, какова её природа?
Среди множества взглядов на природу математики можно выделить два крайних воззрения. Первое и, пожалуй, самое распространённое представление состоит в том, что математика возникает в результате абстрагирования от реальности. Второй взгляд характерен, скорее, для профессионально работающих математиков: потрясающая «упругость» математических конструктов вынуждает предположить, что они действительно существуют, но существуют в какой-то особой «идеальной» сфере. К сожалению, обе эти противоположные точки зрения не только не позволяют прояснить онтологический статус математических объектов, но и не дают возможности понять причины «непостижимой эффективности математики» в описании физической реальности31. Действительно, неясно, «где» существуют абстракции, какова их онтологическая природа? Они субъективны? Но тогда почему эти субъективные конструкты так хорошо описывают объективную реальность. Абстракция — это всегда упрощение32, а между тем математика даёт фантастически точное описание реальности в широчайшем диапазоне масштабов — от 10-19 до 1026 м, т. е. в диапазоне, бесконечно далёком от сферы нашего обыденного опыта, от которого мы только и можем «абстрагироваться». Если же математические объекты существуют якобы в особой «идеальной» реальности, то тогда совершенно непонятно, «где» — «где» в онтологическом смысле этого слова — существует эта реальность? Разве принцип «бритвы Оккама» — Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem33 — не требует искать простейшее объяснение, по возможности без примысливания дополнительных умозрительных конструктов наподобие «идеальной» математической реальности? Что же касается эффективности использования математики для описания физической реальности, то опять-таки непонятно, каким образом находящиеся в «идеальном» мире математические объекты оказываются способны так хорошо описывать мир реальных тел?
Трезвый взгляд на математику с неизбежностью приводит к выводу, что математические объекты существуют в нашей психической реальности, в человеческом разуме. В этом смысле математика «субъективна» и «идеальна» — в реальном физическом мире математики нет. Мы можем увидеть 2 стула или 3 яблока, но не числа 2 или 3; уж тем более невозможно увидеть число π и заметить, что 1 + 1/3 — 1/5 + 1/7 — 1/9 — 1/11 + 1/13 — 1/15 + … = π/4, а eiπ = –1. С другой стороны, математика универсальна в том смысле, что она едина для всех людей. Действительно, вышеприведённые математические тождества справедливы для всех независимо от этнической или конфессиональной принадлежности. В этом смысле математика «объективна». При этом математика не существует «в голове» исследователя в готовом виде — она им порождается, причём зачастую порождается с большим трудом. Логично предположить, что универсальность и «объективность» математики свидетельствуют в пользу того, что те (психические) силы, которыми создаётся математическая реальность, одинаковы у всех людей. «Объективируя» математику, мы отчуждаем её от себя и, таким образом, «омертвляем» её. Но можно попробовать взглянуть на математику не просто как на статичную вне-временную конструкцию, а исследовать сам процесс её порождения психикой математика-творца и, таким образом, наполнить её «живым», динамическим, «психическим» содержанием.
Как же это возможно? Исследовать процесс порождения математики в сознании её творца чрезвычайно затруднительно. Всё дело в том, что мы слиты со своей психикой, мы не можем выйти за её пределы и взглянуть на неё со стороны, как не можем мы выйти за пределы Вселенной. Но мы можем взглянуть на то, в чём запечатлевается динамика психической жизни. Это, во-первых, как уже было сказано, математика — одновременно и «субъективная» (находящаяся в психической реальности), и «объективная» (в силу своего универсализма). Во-вторых, это сакральные тексты, к числу которых относится и Библия — Священное Писание трёх так называемых авраамиче-ских религий: иудаизма, христианства и ислама.
Для правильного понимания природы и особенностей библейского текста следует отметить, что главная цель сакрального текста — это не донесение до читающего некой информации «о Боге», но оказание воз-действия на того, кто вступает во взаимо-действие с ним, и, в конечном итоге, — с Творцом, Который считается подлинным Автором текста, стоящим «за» авторами, например, библейских книг. Сакральный текст, существующий, прежде всего, в литургическом контексте34, направлен на то, чтобы воздействовать на человека, вкушающего слово Писания35, и, в конечном итоге, преобразить сам способ бытийствования человека (характерно, что в Библии нет слова «религия», ибо библейское Откровение учит познанию Бога (Ис 53:11) — познанию как при-общению в едином со-действии, со-единению в со-бытии).
Естественно, что для того, чтобы такое воздействие могло эффективно осуществляться, сакральный текст должен учитывать особенности функционирования человеческой психики на глубинном уровне. Наиболее очевидным способом манифестации сознания является язык. Чаще всего язык воспринимается просто как средство передачи информации; информация же, вообще говоря, безлична и потому «объективна». Это, безусловно, так, но у языка есть и ещё одна чрезвычайно важная функция — повелевающая, предписывающая. Эта «волевая», «знаменующая» функция языка ярко проявляется в так называемых перформативных высказываниях, представляющих собой не сообщения, а действия36. Примером перформативных высказываний служат выражения наподобие «каюсь», «благословляю», «славословлю», которые не сообщают о чём-то (и потому не имеют истинностного значения), но сами являются действиями (в отличие от высказываний типа «он кается», «он благословляет», «он славословит», которые могут быть истинными или ложными). Перформатив всегда личностен; он подразумевает, что это именно «я каюсь», «я благословляю», «я славословлю». Такие высказывания привлекли к себе внимание лингвистов во второй половине ХХ века после публикации работ британского философа языка Джона Остина (John Langshaw Austin, 1911–1960)37 (бывшего, кстати, учителем Сёрла). Можно сказать, что перформатив является внешним языковым способом выражения интенциональности сознания. наивысшей же, если так можно выразиться, «степенью перформативности» обладают именно сакральные тексты.
Перформативность языка чрезвычайно ярко проявляется в математике. Действительно, единственное «орудие» математика — это слово . Когда математик говорит: «пусть χ будет такое, что …» — он своим словом задаёт как закон существования математических объектов, так и то «пространство», в котором эти объекты бытийствуют. Именно словом как орудием создаётся математика, пронизывающая всю нашу технократическую цивилизацию. И именно запечатлённая в математике перформативность языка может помочь наполнить естественнонаучную математическую (структурную) теорию содержательным экзистенциальным смыслом. Но как описать эту перформативность, где найти адекватный язык?
Здесь опять-таки на помощь может прийти обращение к библейскому тексту. Именно перформативность библейского языка даёт возможность описать интенциональность психической экзистенции.
библия начинается с Шестоднева — повествования о творении мира богом из ничего словом творца38. Если допустить, что Библия — это действительно Откровение (какой бы смысл не вкладывать в это утверждение), то это означает, что Творец открывает Свой взгляд на мироздание с той стороны, «изнутри» бытия. если человек хочет понять этот текст, он должен попытаться встать на позицию творца, по образу и подобию которого он сотворён. Есть ли в человеческом опыте что-то, сопоставимое с опытом творения из ничего, творения словом, причём творения, переживаемого самим творцом «изнутри»? Конечно, любое литературное, поэтическое творчество есть творение словом, творение, переживаемое «изнутри». Но это всё-таки творение «из чего-то» — из накопленного жизненного опыта, пережитых эмоций и т. п. Единственный известный мне опыт творения «из ничего» — это математика!
Разумеется, изначально математика возникала из некоторой практики, в определённом смысле — «экспериментально». В процессе такого «экспериментального» построения математики создавались мысленные идеальные объекты, начинавшие жить собственной жизнью и всё более устремлявшиеся к «чистому» идеальному знанию. «Чистое» творение математики, к которому стремится «идеальный» математик, означает отказ от использования каких-либо понятий, возникающих в результате взаимодействия с внешней действительностью. Фактически, «чистое творение» математики синонимично творению «из ничего». математик начинает своё творение «чистой» математики, отвернувшись от всего внешнего и обращая своё сознание в возникающую в душе пустоту. Сама постановка задачи, осознание этой чистоты, рождает понятие «ничто», которое уже не есть «ничто», но некое понимание, а значит «нечто» — пустое множество Ø39. Творение пустого множества Ø из ничего и есть первый акт творения. Известный французский философ Ален Бадью (Alain Badiou) дал аксиоме существования пустого множества (в аксиоматике Цермело-Френкеля) поэтическое именование «Первая экзистенциальная печать», подчёркивая её исключительную важность для онтологии: в отличии от остальных аксиом она явно постулирует существование — существование ничто 40 .
Следующие акты построения математического универсума являются уже не творением из ничего, но деланием из прежде созданных математических конструктов. Это делание совершается математиком волевыми творческими (перформативными) актами по определённым законам — законам, обусловленным структурой сил его души. По всей вероятности, природа этих (психических) сил, которыми создаётся математическая реальность, как уже было сказано, едина для всех людей. Только так можно объяснить то, что «субъективная» математика оказывается столь универсальной и общезначимой.
Способ действия этих сил описывается на языке аксиом теории множеств, являющейся фундаментом современной математики. Можно поставить вопрос: каковы эти силы не только структурно, но и содержательно? ответить на этот вопрос может помочь сопоставление актов творения математического универсума с перформативной динамикой Шестоднева.
Обращение к экзистенциально прочитываемому библейскому Ше-стодневу в «математическом» контексте творения математики словом математика-творца из ничего даёт возможность наполнить математическую структуру экзистенциально переживаемым («психическим») смысловым содержанием и создать новый понятийный «не-вещный», символический в исходном смысле слова — со-единяющий — «двумерный» язык, позволяющий описать как объект(ив)ность «внешнего» физического, так и субъект(ив)ность «внутреннего» психического миров.
Можно сказать, что если до сих пор человек шел преимущественно по пути «внешнего» развития, чреватого цивилизационными кризисами, по пути освоения и преодоления окружающего космоса, то сегодня сама логика познания вынуждает нас обратиться к постижению того мира, что, по слову Писания, вложен в сердце человека (Еккл 3:11)41.
Исследование структуры внешнего мира привело к открытию колоссальной атомной энергии. Понимание структуры психики позволит открыть доступ к огромной энергии «ядра» человеческой души, ничуть не меньшей, чем энергия расщепления атома и, при этом, что чрезвычайно важно, этически «заряженной».
такой исследовательский проект имеет и чрезвычайно важное социально-политическое измерение: создание многомерного смыслового пространства современной научной картины мира, ассимилирующего смыслы авраамических религий — иудаизма, христианства и ислама, даст возможность религиям вступать в соприкосновение не через конфликт порой диаметрально противоположных богословских воззрений, а через науку, ставшую сегодня единым языком описания и способом постижения мира, тем самым содействуя более глубокому взаимодействию науки и общества. Это придаст позитивный характер как диалогу науки и религии, так и диалогу различных религиозных традиций, тем самым обеспечивая межрелигиозное согласие и социальную стабильность, и станет эффективным средством формирования толерантности, органично включённым в светскую систему образования, способствуя предупреждению межнациональных и межконфессиональных конфликтов.
Список литературы "Трудная проблема сознания" в контексте соотнесения естественнонаучного и теологического дискурса
- Галилей Г. Диалог о двух главнейших системах мира — птоломеевой и ко-перниковой / Пер. А. И. Долгова. М.; Л.: ОГИЗ СССР, Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1948.
- Гинзбург В. Л. О сверхпроводимости и сверхтекучести (что мне удалось сделать, а что не удалось), а также о «физическом минимуме» на начало XXI века // Успехи физических наук. 2004. Т. 174. Вып. 11. С. 1240-1255.
- Игнатий Богоносец, сщмч. Послание к Филадельфийцам // Писания мужей апостольских. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2008. С. 358-363.
- 41 Копейкин К. В., прот. Что есть реальность? Размышляя над произведениями Эрвина Шрёдингера. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014.
- Киприан (Керн), архим. Антропология святителя Григория Паламы. М.: Паломник, 1996.
- Клышко Д. Н. Квантовая оптика: квантовые, классические и метафизические аспекты // Успехи физических наук. 1994. Т. 164. Вып. 11. С. 1187-1214.
- Копейкин К. В., прот. Что есть реальность? Размышляя над произведениями Эрвина Шрёдингера. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014.
- Мир сознания и сознание мира // В мире науки. 2018. № 5-6. С. 4-17.
- Один народ, одна страна, и один Бог, и одна Церковь. Интервью с академиком Игорем Ростиславовичем Шафаревичем. URL: http://www.pravoslavie.ru/4531. html (дата обращения: 10.10.2019).
- Ambrosius Mediolanensis. In Psalmum Primum Narratio, 33 (754) // PL 14. Col. 983.
- Aspect A., Grangier P., Roger G. Experimental Tests of Realistic Local Theories via Bell's Theorem // Physical Review Letters. 1981. Vol. 47. № 7. P. 460-463.
- Aspect A., Dalibard J., Roger G. Experimental Tests of Bell's Inequalities Using Time-Varying Analyzers // Physical Review Letters. 1982. Vol. 49. № 25. P. 1804-1807.
- Austin J. L. How to do Things with Words: The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955. Oxford: Clarendon Press, 1962.
- Badiou A. L'Être et l'Événement. Paris: Seuil, 1988.
- Bell J. S. John S. Bell on the Foundations of Quantum Mechanics / Ed. by M. Bell, K. Gottfried, M. Veltman. Singapore, 2001.
- BellJ.S. On The Einstein — Podolsky — Rosen Paradox // Physics. 1964. Vol.1. № 3. P. 195-200.
- Capra F. The Tao of Physics. An Exploration of the Parallels between Modern Physics and Eastern Mysticism. Fontana, 1976.
- ChalmersD.J.Moving forward on the problem of consciousness // Journal of Consciousness Studies. 1997. Vol. 4. № 1. P. 3-46.
- Chalmers D. J. The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory. Oxford University Press, 1996.
- Conway J. H., Kochen S. The Free Will Theorem // Foundations of Physics. 2006. Vol. 36. № 10. P. 1441-1473. DOI: 10.1007/s10701-006-9068-6. URL: https://arxiv.org/pdf/ quant-ph/0604079.pdf.
- Conway J. H., Kochen S. The Strong Free Will Theorem // Notices of the American Mathematical Society. 2009. Vol. 56. № 2. P. 226-232. URL: https://www.ams.org/ notices/200902/rtx090200226 p.pdf.
- d'Espagnat B. Toward a Separable «Empirical Reality»? // Foundations of Physics. 1990. Vol. 20. № 10. P. 1147-1172.
- Einstein A., Podolsky B., Rosen N. Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete? // Physical Review. 1935. Vol. 47. № 10. P. 777-780.
- Faddeev L. A Mathematician's View of the Development of Physics // Proceedings of the 25th Anniversary Conference — Frontiers in Physics, High Technology and Mathematics 31 October — 3 November 1989 / Eds. H. A. Cerdeira, S. O. Lundqvist. Singapore, 1990. P. 238-246.
- Freedman S. J., ClauserJ. F. Experimental Test of Local Hidden-Variable Theories // Physical Review Letters. 1972. Vol. 28. № 28. P. 938-941.
- Frenkel A., Bar-Hillell Y. Foundations of Set Theory. Amsterdam: North-Holland Publishing Company; Warszawa: PWN-Polish Scientific Publishers, 1958.
- Greenstein G., Zajonc A. The Quantum Challenge: Modern Research on the Foundation of Quantum Mechanics. Jones & Bartlett Publishers, 2005.
- John Conway — discovering free will (part III) / Submitted by Thomas R. URL: https://plus.maths.org/content/john-conway-discovering-free-will-part-iii (дата обращения: 10.10.2019).
- Kaiser D. How the Hippies Saved Physics: Science, Counterculture, and the Quantum Revival. New York, 2011.
- Kochen S., SpeckerE. P. The problem of hidden variables in quantum mechanics // Journal of Mathematics and Mechanics. 1967. Vol. 17. № 1. P. 59-87.
- Kuratovskij K., Mostovskij A. Set Theory. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1967.
- Scheidl et al. Violation of Local Realism with Freedom of Choice // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2010. Vol. 107. №46. P. 19708-19713.
- Searle J.R. Mind, Brains and Science. Harvard University Press, 1984.
- Searle J.R. The Rediscovery of the Mind. MIT Press, 1992.
- Shimoni A. Contextual Hidden Variables Theories and Bell's Inequalities // The British Journal for the Philosophy of Science. 1984. Vol. 35. № 1. P. 25-45.
- StappH. Bell's theorem and world process // Il Nuovo Cimento B. 1975. Vol. 29. № 2. P. 270-276.
- The Mindscience of Reality. URL: https://mindscience.unipi.it/en/homepage (дата обращения: 15.09.2019).
- Weihs G. et al. Violation of Bell's Inequality under Strict Einstein Locality Conditions // Physical Review Letters. 1998. Vol. 81. № 23. P. 5039-5043.
- WignerE.P. The Limits of Science // Proceedings of the American Philosophical Society. Vol. 94. № 5. P. 422-427.
- Wigner E. P. The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences // Communications on Pure and Applied Mathematics. 1960. Vol. 13. P. 1-14.