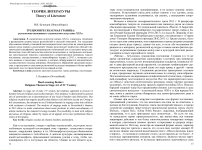Труднопересекаемая граница: религиозная тематика в сценическом искусстве XXI в.
Автор: Кузнецов Илья Владимирович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 3 (38), 2016 года.
Бесплатный доступ
В сценическом искусстве начала XXI в. сложилась тенденция к размыванию границ между религиозной и светской тематикой. Эта тенденция обусловлена общей установкой постмодернистского искусства на деконструкцию всякого рода границ и различений. Однако религиозное творчество обладает органической спецификой, принципиально отличающей его от светского искусства. Вследствие этого обстоятельства попытки использовать в театральных постановках христианскую тематику сталкиваются с сопротивлением материала. Анализ постановок, осуществленных в новосибирских театрах в 2013 г., позволяет сделать выводы о смысловых позициях, в которых обнаруживается неадекватность художественного подхода материалу. Возможность обращения средствами искусства с предметами и смыслами религиозной культуры оказывается более проблематичной, чем это представляется на первый взгляд.
Религия, светское искусство, театр, границы, постмодерн
Короткий адрес: https://sciup.org/14914557
IDR: 14914557
Текст научной статьи Труднопересекаемая граница: религиозная тематика в сценическом искусстве XXI в.
Как-то естественно, говоря о «рубеже тысячелетий», вести речь на излюбленную культурой постмодерна тему «границ», «смыслового пограничья», «нарушения границ» и т.п. Метаморфозы культуры обыкновенно ожидаются именно в этой области. А деятели культуры, ангажированные идеей метаморфоза, прикладывают активные усилия к тому, чтобы эксплицировать его в доступных им областях. Однако не все области куль-12
туры легко подвергаются трансформации, и не всякую границу можно отменить. В настоящей статье речь пойдет именно о тех случаях, когда эксперимент художника сталкивается, так сказать, с внутренним сопротивлением материала.
Возьмем в качестве экспериментального среза 2013 г. В репертуаре новосибирских театров он ознаменовался как минимум двумя не совсем обычными премьерами. Это театральный спектакль «Месса» Л. Бернстайна, поставленный в Новосибирском государственном театре оперы и балета Резней Калныней (премьера 29.01.2013 г.) и пьеса В. Леванова «Святая Блаженная Ксения Петербургская в житии», поставленная в «Старом доме» Тимуром Насировым (премьера 28.02.2013 г). Трудно сказать, было ли это простым совпадением, или современная социокультурная ситуация создает своего рода «тренд», однако что есть, то есть: обе постановки обращаются к материалу религиозной культуры и самим своим фактом претендуют на размывание границы между нею и культурой светской, реализующейся в опыте европейского театра.
«Месса» - безусловно, грандиозная постановка. Сложная и в то же время органичная современная сценография, в которой, при минимуме перестановок, только за счет изменения режима подсветки, изменялся образ и даже фактурный рельеф предметов, создающих конфигурацию сценического пространства: в одной сцене это хоры храма, в другой - намек на египетские пирамиды. Соединение различных оркестровых составов и хора, придающее звучанию исключительное по спектру многообразие. Последовательное выдерживание полифонической стилистики, отражающей специфику постмодерного искусства. Все эти характеристики сделали «Мессу» поистине синтетическим зрелищем, между прочим заставив вспомнить, что по изначальному проекту первой половины XX в. Новосибирский оперный театр был предназначен именно для постановок в духе синтетического искусства - эстетической моды 1920-х гг. Как нередко бывает, новое в данном случае обнаружило под своим фундаментом даже и не очень забытое старое.
Однако при всем том затруднял восприятие сам формат постановки, призывавший учитывать, что мы находимся все-таки не на спектакле, а именно на богослужении. Конечно, таков сам авторский замысел, и таково устройство сценария: присутствуют канонические разделы мессы «Kyrie Eleison», «Agnus Dei», «Dona Nobis Pacem»; персонаж, изображающий священника, то и дело приглашает всех помолиться... Но если это так, то немедленно теряет привлекательность, как неуместная, вся пышная машинерия действия и тем более многочисленные концертные номера, в которых участвовали помимо прочего и персонажи из разряда откровенной нечисти. Поэтому, несмотря на заданный формат мессы, характер действия приучал зрителя к мысли, что он все-таки смотрит концерт. И когда под занавес над сценой высвечивался текст: «Месса окончена, идите с миром», - то возникало сомнение: полно, уж не пародия ли это была?.. А поскольку пародирование литургии, как известно, является частью мрачного оккультного ритуала, то на выходе приходилось задумываться: куда мы, собственно, попали? И уж чему-чему, а катарсису это точно не способствовало.
«Месса» Бернстайна и еще один этого же года (NB!) спектакль Новосибирского государственного театра оперы и балета, оратория А. Онеггера «Жанна д’Арк на костре», «посвящены не просто религиозной теме - они разворачивают ее в социально-политическом, клерикальном аспекте. <.. > При этом сложнейшая культовая проблематика решается весьма даже мас-скультовыми средствами»1. - Во-первых, нельзя не согласиться с процитированным суждением музыковеда. Во-вторых, представляется, что эта «масскультовость» имплицитно заложена в самом замысле синтетической постановки. Писатель Владимир Маканин, размышляя в интервью о судьбе художественной литературы и жанра романа в современной культуре, указывал на деструктивную роль в этой судьбе синтетических искусств, «подменяющих» изначальную эстетику слова простым движением по видеоряду. «Всякое комплексное, синтетическое искусство быстро набирает силу, достигает своего максимума, а потом прекращает движение. <...> Я сравниваю такое искусство с мулом: замечательное животное, которое очень хорошо работает, но не дает потомства. Мул первый был цирк, мул второй - опера, мул третий - кино. А письмо, живопись и музыка - это изначальные искусства»2. Отношение «синтетических» искусств к «изначальным» по самой природе является инструментальным: они используют, скажем, художественное повествование, чтобы выбрать из него или фабулу, необходимую для конструкции зрелища; или яркого героя - для тех же целей. Поэтому сценарий или либретто никем всерьез не рассматриваются в аспекте их самостоятельной художественной ценности... А в нашем случае то же инструментальное отношение применяется не к искусству, а к богослужению. И его сущность выхолащивается так же, как разрушается поэзия «Онегина» в либретто Константина Шиловского.
Но главная проблема даже не в синтетизме «Мессы». Другой спектакль, о котором речь ниже, на наш взгляд, обнажил более фундаментальную проблему принципиальной несводимое™ культурных практик, относящихся соответственно к религиозной и светской культуре.
Постановка пьесы Вадима Леванова «Святая Блаженная Ксения Петербургская в житии» в театре «Старый дом» изначально явилась экспериментальным шагом, осваивавшим маргинальные участки искусства в широком смысле слова. И дело здесь, прежде всего, в самом материале, т.е. в пьесе. Драматург сделал своим предметом образ известной в России святой, при жизни подвизавшейся на пути юродства. Кроме того, в названии пьесы использован термин «житие», недвусмысленно указывающий на жанровую основу произведения, восходящую к русской средневековой книжности. А чтобы усилить контекст христианской религиозной культуры, автором был введен еще и подзаголовок «пьеса в клеймах», так что сведущая аудитория должна понимать: перед нею икона, превращенная в нарратив.
Но такой предмет находится за пределами компетенции искусства, т.е. деятельности в перспективе эстетического идеала. И жанр жития тоже не 14
преследует эстетических задач. Не случайно широко известная автобиография, созданная в конце XVII в. мятежным протопопом Аввакумом и вызывающе обозначенная им как «житие», никем именно в качестве жития не воспринимается: слишком много в ней этнографических зарисовок, пристрастной эмоциональности, речевого юродства и прочих приемов, не свойственных религиозной книжности3. Принадлежащее же к последней житие - это именно «повествовательная икона». Т.е. этикетная конструкция, а не фигуративное образование. Ее задача - не жизнеподобие, но указание на трансцендентную реальность. И восприятие этой конструкции предполагается соответствующее.
Опыт русского искусства XIX в. уже продемонстрировал проблематичность совмещения двух названных способов творчества. Гоголь в поздние годы жизни попытался их совместить, но поплатился за это своим талантом художника. Д. Мережковский писал о последнем сочинении Гоголя: «В “Переписке” нам слышится именно конец, совершенство, “неповторяе-мость” Пушкина, то есть конец всей русской литературы и начало того, что за Пушкиным, за русской литературой, - конец поэзии - начало религии»4. Гениально неудачную попытку в том же направлении предпринял Достоевский. Как известно, в романе «Идиот» писатель намеревался изобразить «положительно прекрасного человека» - и констатировал, что «это задача безмерная», поскольку «на свете есть одно только положительно прекрасное лицо - Христос»5. «Прекрасное есть идеал», - настаивал Достоевский в цитируемом письме к С.А. Ивановой. Верно; только писатель еще не убедился тогда, что эстетический идеал и религиозный - не одно и то же. Поэтому под его пером возник Мышкин, человек высоких душевных качеств, но больной, т.е. лишенный внутренней гармонии, которую святость непременно подразумевает. И больше ни сам Достоевский, ни кто-либо другой святых писать не брался: только по-разному трактуемых праведников, а это все-таки явление мирское.
И вот в начале XXI столетия Вадим Леванов снова попытался создать средствами искусства образ святой. И начались затруднения дискурсивного характера. Авангардному искусству, вообще говоря, во все времена было свойственно тяготение к выходу за пределы социокультурных конвенций художественности. Вспомним модернизм: художники обратились к прагматике бытовой декорации и лубка. В техническом аспекте обратной стороной стремления к изощренности оказывалась тяга к примитивизму. В тематическом же отношении кругозор художника радикально расширялся за счет предметов, прежде заведомо неуместных или маргинальных в искусстве (в том числе и табуированных). В числе этих предметов, осознаваемых как эстетически маргинальные, было и явление праведности, переосмыслить которую по-своему пытались и Лев Толстой («Отец Сергий»), и вслед за ним Леонид Андреев («Жизнь Василия Фивейского»), и Максим Горький («Мать»), Во всех случаях имела место попытка преодоления границы между искусством и не-искусством («жизнью», «бытом», «действительностью» и т.д.), обычная для всякого авангарда.
Но то было в Серебряном веке, когда аудитория заведомо состояла из людей, погруженных в контекст христианской культуры и понимавших место в ней искусства. А сегодня из двухсот человек, сидящих в зрительном зале, едва ли четверть понимает существо разницы между иконой XIV в. и картиной кисти Шишкина. И эстетический эксперимент драматурга приводит не туда, куда, осмелимся предположить, было задумано. Принципиальная специфика предмета не осознается аудиторией. Независимо от намерений автора, зритель начинает видеть в героине странноватую обитательницу «дна». Именно это ему подсказывает его зрительский опыт: знакомство с бесконечными бомжами и уголовниками - персонажами «новой драмы». Ксения, похоже, в их ряд вписывается (и постановка Тимура Насирова этому способствовала). Бездомные пьяницы, разбойники, какие-то не то кликуши, не то святые - все это, оказывается, существа одной породы. Спрашивается, поставить рядом Ксению и рыночных оборванцев -разве к этому стремился драматург? Но массовый зритель воспринимает происходящее на сцене именно так.
Конечно, говоря все это, мы исходим из лестного предположения, что автор пьесы не пытался отрешиться от сугубой специфики предмета и представить Ксению «просто как человека». Так поступают с фигурами крупнейших деятелей искусства и культуры сценаристы Голливуда, и результат оказывается до оскомины предсказуем. Гуманистическая трактовка персонажа в подобных случаях не дает ничего, кроме смысловой редукции. Пушкин когда-то раздраженно отозвался о копании толпы в житейских мелочах Байрона после его смерти: «врете, подлецы: он и мал, и мерзок не так как вы - иначе». Он имел в виду то, что гений искусства выше мерок и представлений черни. Но и гений религиозного подвига тоже превосходит эти мерки. Когда его изображают «просто как человека», от гения ничего не остается, а получившийся антропологический экземпляр может выглядеть весьма мизерно.
Так что пьеса Вадима Леванова не просто создает «подводные камни» для постановщика, она вся сплошной такой «камень». Мы не станем судить о достоинствах и недостатках спектакля, однако одно обстоятельство нельзя обойти вниманием: это манера подачи текста. Потому что еще одна специфическая особенность пьесы связана с ее необычной речевой фактурой. Один из фрагментов текста (внутри клейма «Злыдни») представляет собой причет или заклинание, умело стилизованное в фольклорном духе. В постановке оно звучало прекрасно: завораживающая фоника и ритм, создающие абсолютно иррациональный образ, были акцентированы многоголосием и формировали отдельный целостный сценический эпизод. Использование похожего приема в других фрагментах действия (а текст к этому дает основания) позволяет говорить, что задуманный режиссером сквозной образ «хора» состоялся... Однако основной массив текста пьесы, тоже намеренно дистанцированный от повседневной литературной речи, звучал иначе. Его стилистика, насыщенная архаизмами, приближена к языку XVIII столетия. Язык этот непрост для восприятия. Поэтому артикуляция его должна бы быть предельно четкой. В спектакле этого не было. Действию была задана очень высокая динамика, в результате чего большая часть текста не проживалась, а второпях проговаривалась актерами. Что же касается зрителя, то о нем в этой связи, кажется, попросту забыли. Воспринимать скороговорку сумароковской эпохи - занятие не из простых; и если не знать заранее текст пьесы, то на слух половина его просто не доходит до сознания. Лишь в нескольких последних «клеймах» («Марфуша», «Подкидыш», «Успение») темпоритм замедлялся, текст становился понятен - а вместе с тем, добавим, появлялась и психологическая достоверность в актерской игре.
Все сказанное выше порождает мысль о невозможности соединения религиозной культуры и светского искусства. Граница между ними не так легко преодолима, как может показаться человеку, привыкшему мыслить в постмодернистской системе координат, размеченной в соответствии с фидлеровским девизом: «Пересекайте границы, засыпайте рвы». Очень верно высказался по этому поводу историк Александр Зубов: «В основе религии лежит вера, и в основе театра тоже. (Вспомним знаменитое «Не верю!» Станиславского.) Поэтому религия и театр “играют на одном поле”, где одно существует неизбежно за счет другого. Компромисс здесь маловероятен». П.А. Флоренский вообще противопоставлял религиозное и театральное мироощущения, поскольку первому, с его точки зрения, свойствен реализм, а второму - иллюзионизм. Этот «иллюзионизм», который обыкновенно называется «фигуративностью», и вообще-то противен основам религиозной культуры. В разные времена и в разных культурных ареалах запрет на внешний натурализм изображения соблюдался с разной степенью строгости. Этот запрет связан с буквальным пониманием ветхозаветной заповеди: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли» (Исх. 20: 4). В русской иконописи до XVI в. включительно лики изображались в соответствии с каноном, и действовал принцип «обратной перспективы»6. (В культуре ислама запрет на фигуративно сть проводился еще более последовательно: в ряде стран вообще не допускалось изображение живых существ.) Только с XVIII столетия вошел в обиход стиль «фряжского письма», приближенный к европейской живописи с ее прямой перспективой и натуралистическим жизнеподобием. Поэтому в случае с материалом религиозной культуры постмодернистское безразличие к предмету оборачивается проблематичностью самого художественного акта. Представляется, что «тренд», о котором шла речь в этой статье, обладает весьма сомнительной продуктивностью.
Список литературы Труднопересекаемая граница: религиозная тематика в сценическом искусстве XXI в.
- Яськевич И.Г. Тенденция, однако//Новосибирский ОКОЛОтеатральный журнал. 2013. №4 (14). С. 47
- Иванов А. Владимир Маканин: «Кино -это мул номер три»//Волгоград.ru. 2006. 11 октября. URL: http://www.volgograd.ru/theme/info/culture/wet/75984.pub (дата обращения: 29.04.2016)
- Кузнецов И.В. Книжность Древней Руси (XI-XVII вв.): Учебно-методическое пособие. Новосибирск, 2013. С. 78-82
- Мережковский Д.С. Гоголь: творчество, жизнь и религия. СПб., 1909. С. 151
- Достоевский Ф.М. Письмо С.А. Ивановой от 13.01.1868 г.//Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 28. Кн. 2. Л., 1985. С. 251
- Флоренский П.А. Обратная перспектива//Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. С. 43-106