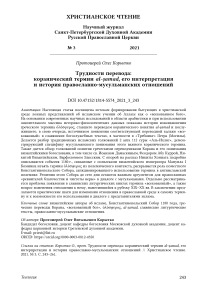Трудности перевода: коранический термин al-amad, его интерпретация и история православно-мусульманских отношений
Автор: Корытко Олег Витальевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 3 (98), 2021 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья посвящена истокам формирования бытующих в христианской среде ложных представлений об исламском учении об Аллахе как о «всекованном боге». На основании современных научных исследований в области арабистики и при использовании значительного массива историко-филологических данных показана история возникновения греческого термина ὁλόσφυρος, ставшего переводом коранического понятия al-ṣamad и послужившего, в свою очередь, источником появления соответствующей переводной кальки «всекованный» в славянских богослужебных текстах, в частности в «Требнике» Петра (Могилы). Делается разбор традиционных исламских толкований 2 аята 112 суры «Аль-Ихляс», демонстрирующий специфику мусульманского понимания этого важного коранического термина. Также дается обзор толкований понятия греческими переводчиками Корана и его понимания византийскими богословами, в том числе св. Иоанном Дамаскиным, Феодором Абу Куррой, Никитой Византийским, Варфоломеем Эдесским. С опорой на рассказ Никиты Хониата подробно описываются события 1180 г., связанные с попытками византийского императора Мануила I Комнина изъять термин ὁλόσφυρος из полемического контекста, раскрывается роль поместного Константинопольского Собора, санкционировавшего использование термина в антиисламской полемике. Решения этого Собора до сего дня остаются важным аргументом для православных «ревнителей благочестия и чистоты веры» в диалоге с мусульманами. Отдельно рассматрива- ется проблема появления в славянских литургических книгах термина «всекованный», а также вопрос изменения отношения к нему, наметившийся к рубежу XIX-XX вв. В заключении предлагаются практические шаги для изменения отношения в православной среде к самому термину и к возможности его использования в диалоге с представителями ислама.
Византийские авторы об исламе, константинопольский собор 1180 года, греческие переводы корана, «всекованный бог», ὁλόσφυρος, al-ṣamad, славянские литургические тексты, православно-мусульманские отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/140257067
IDR: 140257067 | DOI: 10.47132/1814-5574_2021_3_243
Текст научной статьи Трудности перевода: коранический термин al-amad, его интерпретация и история православно-мусульманских отношений
«Одному ли Богу поклоняются православные христиане и правоверные мусульмане?» Этот вопрос о тождестве объектов религиозного почитания часто возникает у последователей обеих авраамических традиций. Споры на эту тему выплескиваются иногда в медиапространство, поднимая волну эмоциональных рассуждений о степени радикальности доктринальных отличий. Разница в вероучениях, безусловно, вполне очевидна. Цель этой статьи — не в их разборе. На примере истории толкования ключевого для ислама понятия мы постараемся дать своеобразный срез православномусульманских отношений, складывавшихся на протяжении нескольких столетий. Таким понятием является al-samad , которое в славянских текстах чаще всего переводится как «всекованный» . Оно оказалось настоящим камнем преткновения для христианских авторов разных эпох, писавших об исламе.
Некоторые православные полемисты нередко пишут о якобы состоявшейся церковной рецепции толкования данного термина. Ссылаясь именно на литургическую традицию, отраженную в ряде чинопоследований, они заявляют о том, что исламское учение содержит представление о некоем рукотворном божестве.
Так, в наиболее известном славянском требнике, составленном митр. Петром (Могилой) в 1646 г., содержится особый чин принятия в православие иноверных из числа мусульман. Составной частью этого чина является «Образ отрицания сарацинскаго, си есть турецкаго зловернаго нечестия» , в котором архиерей, совершающий чин, предлагает обращаемому признать ложность прежних взглядов и публично от них отречься: в частности, отказаться от признания Мухаммада пророком, а Корана — боговдохновенным писанием, проклясть сподвижников Мухаммада, его жен и даже детей и т. д. И среди всего изложенного в этом весьма пространном чине имеется упоминание о «некоем боге всекованном».
Святитель вопрошает:
Отрицаеши ли ся всех льстивых и хульных учителей турецких и всех богохульных… басней Мехметовых и понем бывших всех, яже суть о богу некоем всекованном…
Отвещает:
Всех сих отрицаюся, и яко богомерзка суща, проклинаю я (цит. по: [Требник Петра Могилы]).
В этой связи закономерно возникают два вопроса: о каком «всекованном боге» идет речь в чине? и как связано данное понятие с исламским вероучением?
Нельзя не отметить, что многие ревнители не по разуму , используя в качестве аргумента в том числе и ссылку на «всекованного бога», до сих пор популяризируют ложное представление о том, что мусульмане поклоняются некоему «мысленному идолу», а следовательно, они сродни язычникам. К сожалению, подобные взгляды встречаются и у некоторых наших православных миссионеров1.
Несостоятельность такой точки зрения очевидна. Но чтобы развеять всякие сомнения, следует обратиться к современным научным данным и сделать обзор того, что известно сегодня об источниках происхождения данной формулировки из чи-нопоследования. При этом особое внимание необходимо уделить проблеме интерпретации исламского вероучения византийскими авторами. В настоящей статье мы постараемся показать, что интерпретация соответствующего коранического отрывка в христианских полемических текстах пошла по пути искажения и произвольного толкования мусульманского учения. В ней также будет приведено аутентичное исламское понимание коранического термина al-samad .
-
I. История появления перевода «всекованный»
Слово «всекованный» является переводом на славянский язык греческого слова ὁλόσφυρος2, которое стоит в соответствующем чине присоединения3 мусульман к православию, бывшем в употреблении в Константинопольской Церкви. Хотя точную дату создания византийского чина назвать сложно4, можно утверждать, что, скорее всего, он возник не позднее сер. IX — нач. X в. на волне активной полемики с исламом. Одним из таких ярких авторов-полемистов был философ Никита Византийский, живший в IX в. и написавший ряд произведений, направленных против ислама. Одно из них — «Опровержение Корана»5 — могло оказать, по мнению некоторых исследователей [Versteegh, 1991], определенное влияние и на содержание чина оглашения мусульман, а также на суждения других авторов, вступавших впоследствии в богословские диспуты с последователями Мухаммада.
Чем же столь примечательно творение Никиты Византийского? Христианские полемические произведения, в которых критиковалось исламское учение, появлялись и ранее, практически с момента первых контактов мусульман с Византией. Ценность творения Никиты Византийского заключается в том, что в его работе мы впервые находим свидетельства существования в то время некоего греческого перевода священной книги мусульман. Этот перевод Корана Никита активно использует в своем труде. В «Опровержении» процитированы почти 200 стихов (аятов), при этом 18 глав (сур) приведены целиком.
Среди процитированных Никитой сур особое место занимает 112-я сура «Аль-Ихляс»6. Несмотря на свою краткость (состоит всего из четырех стихов), она имеет огромное догматическое значение для ислама. В ней сформулирован принцип единобожия как краеугольный камень, столп мусульманской веры. Сура эта настолько важна для ислама, что по своей значимости приравнивается к одной трети всего Корана7. Приведем ее в одном из распространенных вариантов перевода на русский язык.
-
(1) Скажи: «Он — Аллах Единый,
-
(2) Аллах Самодостаточный (al-ṣamad) .
-
(3) Он не родил и не был рожден,
-
(4) и нет никого, равного Ему».
(Пер. Э. Р. Кулиева.)
Именно 2-й аят данной суры стал камнем преткновения для перевода на греческий. Всё дело было в загадочном арабском слове al-ṣamad , которое анонимный автор греческого перевода и передал как ὁλόσφυρος.
Но, прежде чем перейти к коллизиям греческого перевода, обратимся сначала к мусульманской экзегезе al-samad , поскольку очевидно, что корректная интерпретация того или иного понятия в религиозной традиции возможна лишь в рамках самой традиции.
-
II. Мусульманское понимание al-ṣamad (112:2)
Наименование al-samad является одним из 99 «прекрасных имен»8 Аллаха, в связи с чем оно представляет для мусульман особую значимость. Как же сами мусульмане понимают al-ṣamad ?
Если мы сравним русские переводы смыслов, начиная с первого перевода, выполненного с арабского оригинала генералом Д. Н. Богуславским, и заканчивая последним по времени коллективным трудом экспертов, привлеченных Духовным управлением мусульман Республики Татарстан, то обнаружим, что разброс значений, которые используют переводчики для передачи al-ṣamad , достаточно большой. На месте al-samad мы встречаем и «вечный», и «крепкий», и «ни в чем не нуждающийся», и «самодостаточный».
|
Пер. Д. Н. Богуславского (1871) |
Бог вечный . |
|
Пер. Г. С. Саблукова (1878) |
Крепкий Бог. |
|
Пер. И. Ю. Крачковского (1920-е) |
Аллах, вечный. |
|
Пер. В. Пороховой (1991) |
Извечен Аллах один, Ему чужды любые нужды , Мы же нуждаемся лишь в Нем. |
Пер. М.-Н. О. Османова (1995; перераб. изд. 2011) Аллах ни в чем не нуждающийся .
Пер. Э. Р. Кулиева (2002) Аллах Самодостаточный .
Пер. ДУМ Республики Татарстан (2019) Аллах Самодостаточен .
Разнообразие переводов объясняется тем, что слово al-ṣamad встречается в тексте Корана только в этом аяте, а потому его толкование вне других контекстов представляется довольно затруднительным. Впрочем, это обычная ситуация для hapax legomena9. В библейских текстах, как мы помним, их тоже немало. Взять хотя бы слово ἐπιούσιον из молитвы Господней, переведенное на славянский язык как «насущный», но оставляющее вместе с тем немало возможностей для самых различных интерпретаций.
В мусульманских толкованиях Корана ( тафсирах ) встречаются разные подходы к объяснению al-ṣamad. В целом можно разделить все комментарии на три основные группы:
-
A. толкование «цельный, без полостей»;
-
B. расширительное толкование («вечный», «единый», «крепкий»);
-
C. толкования с опорой на этимологию слова.
Но, безусловно, все комментаторы исходят из того, что слово необходимо трактовать в общем контексте 112-й суры. Обратимся к наиболее значимым тафсирам: аль-Табари (IX в.), аз-Замахшари (XII в.), ибн Касира (XIV в.) и аль-Джалалайн (XV в.).
-
A. «Цельный, без полостей»
Одним из известных тафсиров является труд аль-Табари, который и по сей день считается ценнейшим источником по толкованию Корана, основанным на предании [Кулиев, 2010, 296]. Аль-Табари составил свой тафсир на рубеже IX–X в., собрав и обобщив толкования ранних мусульманских богословов и использовав при этом известные ему примеры словоупотреблений из доисламской поэзии.
Табари приводит толкования, восходящие к авторитетным источникам, о том, что al-ṣamad означает «нечто цельное, не имеющее внутри полости» [Фролов, 2014, 378-379]. Такие толкования были сообщены, в частности, от ближайших сподвижников Мухаммада — ибн ‘Аббаса и Икримы ибн Абу Джахль, а также от ранних исламских богословов Хасана аль-Басри и Муджахида ибн Джабра.
Примечательно, что Табари использует al-ṣamad также в толковании к 30-му аяту 2-й суры10, в котором рассказывается о появлении человека. Объясняя соответствующее место, Табари приводит следующую историю, услышанную от ибн Масуда, ближайшего ученика мусульманского пророка. Когда мятежный джинн Иблис11, обеспокоенный сотворением человека, испытывает его в буквальном смысле на прочность: сначала он ударяет Адама — получается звук, как при соприкосновении с глиняным горшком, а затем проходит сквозь всего человека. Завершив эти странные действия, Иблис успокаивает ангелов: «Не бойтесь его. Ваш Господь цельный ( samad), а этот — полый ( ajwaf ). Воистину, если мне дадут власть над ним, я совершенно его уничтожу» [The Commentary of the Qur’ān by al-Ṭabarī, 1987, 215].
Общая идея комментаторов, строящих толкования на противопоставлении цельный ⇔ полый , заключается в том, что у Творца отсутствуют какие-либо изъяны, ведь Ему, в отличие от человека, у которого есть соответствующие внутренние органы, не требуется ни пища, ни вода, ни воздух. Именно эти смыслы отражают переводы «самодостаточный», «ни в чем не нуждающийся» и отчасти — «крепкий». Развивая эту мысль, толкователи пишут, что Создатель — единственный, Кто ни в чем не нуждается, тогда как все нуждаются в Нем12.
Но, смущаясь слишком яркой «вещественной» образностью по отношению к Всевышнему, комментаторы впоследствии предпочитали больше рассуждать об общем значении единства и вечности Бога, которое должна была передать эта метафора отсутствия полостей. Как показала история, опасения мусульманских теологов были не без оснований. Именно это толкование было взято на вооружение византийскими авторами, которые в полемических целях исказили его до неузнаваемости. Об этом подробнее мы расскажем чуть ниже.
-
B. Расширительное толкование
Некоторые комментаторы объясняют значение al-samad через общую идею, которую несет 112-я сура: манифестацию абсолютной единственности Аллаха, которая раскрывается в следующих за 2-м аятом стихах Корана: «Он не родил и не был рожден, и нет никого, равного Ему» (пер. Э. Р. Кулиева).
По сути, это дальнейшее развитие идеи об исключительности и самодостаточности Творца, существующего вне времени и пространства13.
-
C. Толкования с опорой на этимологию слова
Наиболее интересными являются толкования, в основе которых лежат попытки проследить этимологию ṣamad . Необходимо отметить, что в трудах ряда христианских авторов высказывалось довольно смелое предположение о том, что греческий перевод ὁλόσφυρος отражает еще доисламское понимание ṣamad , а следовательно, несет в себе отпечаток языческих представлений древних арабов14.
Конечно, язык не свободен от исторических наслоений, но он все же развивается и меняется, как и любой другой живой организм. Со временем одни слова «отмирают», а старые — обрастают новыми смыслами. Все это — предмет кропотливых исследований филологов и историков. Обратимся к некоторым из них и посмотрим, имеет ли греческое ὁλόσφυρος отношение к исконному значению ṣamad . Но прежде разберемся, что же сами мусульманские толкователи думают о происхождении слова.
Комментаторы аль-Табари и ибн Касир приводят несколько авторитетных мнений, принадлежащих, в частности, известному ученому-филологу VIII в., основоположнику куфийской грамматической школы Абу Джа’фару аль-Руаси, ближайшим сподвижникам основателя ислама — ибн Мас’уду и ибн ‘Аббасу, а также ученым из следующего за ними поколения мусульман Зейду ибн Асламу и Абу Ва’или. Все они видят смысловую связь samad с существительным sayyid «господин, вождь», а также с глаголом yuṣmadu «стекаться, устремляться (к)». Махмуд аз-Замахшари, чей комментарий к Корану «Аль-Кашшаф» по праву считается одним из замечательных образцов научной критики коранического текста [Звегинцев, 2007, 65], также разделяет это мнение.
Таким образом, al-ṣamad обозначает «Того, к Кому устремляются все твари со своими нуждами, проблемами и просьбами», «Господина совершенного в Своем господстве, Благородного, совершенного в Своем благородстве, Великого, совершенного в Своем величии», «Господина, достигшего предела господства» [Фролов, 2014, 380–382]. Именно в таком значении, утверждает Табари, данное слово зафиксировано в поэзии. А если это так, заключает он, «то эта версия занимает первое место среди других, так как слова истолковываются согласно их употреблению в языке, на котором ниспослан Коран» [Фролов, 2014, 381]. Ниже мы еще вернемся к этому ценному замечанию Табари.
Большой интерес в связи с разбором тафсиров представляет статья профессора арабских и исламских исследований Тель-Авивского университета д-ра Ури Рубина, касающаяся вопроса происхождения al-samad [Rubin, 1984]15. Ури Рубин сетует, что западные ученые, занимающиеся проблемами понимания коранического текста, часто игнорируют мусульманский тафсир, считая множественность толкований, которые предлагают исламские комментаторы, свидетельством более позднего происхождения этих объяснений, а потому — не заслуживающими доверия. И в этом смысле, как отмечает профессор Рубин, 112-я сура — пожалуй, самый яркий и типичный пример такого отношения.
Остановимся подробнее на важнейших идеях, изложенных в данной статье, а также на интересных филологических наблюдениях автора, которые, без сомнения, дополнят картину этимологических толкований, изложенных выше.
Проанализировав арабские источники, относящиеся в том числе и к доисламскому периоду, Ури Рубин приходит к заключению, что al-ṣamad, будучи одним из атрибутов Бога, употребляется в Коране в своем точном доисламском значении. Разнообразие же интерпретаций, встречающихся у более поздних толкователей Корана, по мнению У. Рубина, лишь отражает системные попытки мусульманских богословов переосмыслить данное понятие в рамках исламского учения.
В первую очередь профессор Рубин обращает внимание читателя на глагол samada , от которого, очевидно, по модели fa’al образована форма страдательного причастия ṣamad. Среди основных значений глагола: «идти, направляться куда-либо»; «стремиться достичь чего-либо»; «прикрепиться, прилепиться к кому/чему-либо, твердо держаться кого/чего-либо»16.
Глагол samada встречался в основном в батальных сценах: например, для описания того, что воин проявляет особое рвение при исполнении своего долга и бросается, устремляется на врага. Кроме того, тот же глагол используется в религиозном контексте, в значении молитвенного обращения и поклонения, и — шире — в контексте обращения за помощью и поддержкой к вождю, господину ( sayyid ) племени. Поскольку sayyid обладал непререкаемым авторитетом и высшей властью в арабском обществе, к нему шли на поклон в сложных случаях, его защиты и покровительства искали соплеменники. И в этом смысле к господину применяли эпитет ṣamad : «тот, к которому обращаются, которого почитают, к кому устремляются». Именно этот оттенок значения приводит, как мы помним, в своем тафсире аль-Табари: «Тот, кому поклоняются, кто единственный достоин поклонения, — он ṣamad » [Фролов, 2014, 378].
В доисламскую эпоху Аллах почитался арабами как Творец мира, «хозяин Каабы», главный среди богов17, он являлся главой пантеона. Если мелкие боги помогали просителям в мелких нуждах, то к Аллаху люди обращались, если возникали сложные вопросы. Именно он был тем самым sayyid , обладавшим титулом samad .
«По всей видимости, al-samad был действительно наиболее подходящим эпитетом для верховного бога, — отмечает У. Рубин, — поскольку глагол ṣamada означает не только благоговейное обращение к некоему объекту, но также его возвышение, поднятие, превознесение» [Rubin, 1984, 203]18.
Один из толкователей Корана 2-й пол. XII — нач. XIII в. Фахруддин ар-Рази в своем тафсире обращает внимание на весьма интересную деталь: al-ṣamad неслучайно имеет при себе определенный артикль al . Это становится особенно заметно на контрасте с предыдущим аятом, в котором слово «один, единый» (ahad) стоит в неопределенной форме. Ар-Рази объясняет эту стилистическую разницу тем, что арабы уже знали, что Аллах был ṣamad , то есть тем Высшим Богом, к Которому обращались в крайних нуждах, но они еще не подозревали, что Он также был и Единственным19.
Таково было доисламское понимание al-samad . И, как верно отметил уже цитированный нами ранее Табари, проявивший в этом вопросе гениальную филологическую интуицию, именно это употребление слова было актуальным во времена Мухаммада.
Но очевидно, и это ощущалось уже первыми учениками и ближайшими сподвижниками основателя ислама, что такое объяснение вызывало очень стойкие политеистические ассоциации, которые исламские богословы и стремились преодолеть в своих трудах. Мы уже говорили о том, какое важное догматическое значение имеет данная сура для ислама. Ее центральной идеей является утверждение абсолютной единственности Аллаха, тогда как доисламское понимание al-ṣamad, пусть и косвенно, но все же предполагало наличие иных божеств более низкого статуса. Перед мусульманскими комментаторами Корана встала непростая задача: приспособить al-ṣamad к исламской картине мира, наполнить его новыми смыслами, убрать разрыв между доисламским пониманием слова и идеей радикального единобожия.
Поиск новых объяснений начинается уже с первых десятилетий возникновения ислама. Комментаторы попытались использовать для этого возможности самого языка. Поскольку некоторые слова того же корня ṣmd были связаны со значением «скала»20, появляется толкование al-ṣamad как «крепкий, прочный». Та же идея крепости, только уже с нравственным измерением, содержится в однокоренном слове ṣamid «крепкий, стойкий, неизменный».
Толкователи поясняют: Аллах монолитен, а «крепость» Его связана с тем, что «в Нем нет полостей, внутренностей», как в животе человека, а потому «Он не ест пишу и не пьет напитки», «из Него ничто не выходит», «Он никогда не умрет и пребудет после Своих творений», а значит — «Он вечен и никогда не исчезнет»21.
Нетрудно заметить, что многие объяснения, часто ходящие по кругу, грешат грубой материалистичностью, столь резко контрастирующей с тем отношением к Богу, Которого исповедуют мусульмане. Это не могли не чувствовать исламские комментаторы, которые пытались найти более удачные и приемлемые формулировки, стремясь передать общий смысл 112-й суры. Пожалуй, этот тот самый случай, когда лучшее — враг хорошего. Возможно, переосмысление понятия пошло по слишком тернистому пути.
В любом случае, к тому моменту, когда Коран переводился на греческий, эпитет al-ṣamad уже оброс немалым количеством толкований. Так что вопрос о том, что ὁλόσφυρος якобы отражает некие представления народной арабской религии, снимается сам собой ввиду своей явной несостоятельности. Никакого отношения к исконному, доисламскому значению ṣamad греческий перевод ὁλόσφυρος не имеет.
-
III. Коллизии греческих переводов Корана
Обратимся к греческим переводам коранического текста. Вообще история греческих переводов 112-й суры, как мы сейчас увидим, была связана с сильными внешними, в том числе и политическими, влияниями, и данные переводы едва ли можно назвать плодом серьезных богословских усилий по осмыслению иной религиозной традиции.
Одним из первых христианских писателей, попытавшихся системно описать ислам и передать отдельные отрывки из Корана на греческом, является прп. Иоанн Дамаскин (2-я пол. VII в. — до 754 г.). Во второй части трилогии «Источник знания», которая носит название «О ста ересях вкратце», прп. Иоанн Дамаскин характеризует все известные ему на тот момент еретические учения. Последняя, 100-я глава труда посвящена исламу.
Для прп. Иоанна Дамаскина, жившего уже в эпоху арабского завоевания, ислам был не какой-то далекой реальностью. Дамаск — родной город святого — был завоеван Халидом ибн аль-Валидом в марте 635 г. и вошел в состав арабского халифата в августе следующего года. Переговоры с ибн аль-Валидом о мирной сдаче столицы Сирии вел дед св. Иоанна Дамаскина — Мансур ибн Сарджун, занимавший должность главы налогового ведомства в этой византийской провинции. Семья Мансура сохранила свое влияние и при новой власти. Когда пришло время, прп. Иоанн также унаследовал от отца должность распорядителя общественных имуществ, т. е. налогового инспектора22.
Проанализировав антиисламские сочинения прп. Иоанна Дамаскина, можно утверждать, что содержание проповеди Мухаммада он пересказывает, опираясь все же не на греческий перевод Корана, а на некий арабский текст [Versteegh, 1991, 58]. Правда, в его работе содержатся некоторые неточности и ошибки23, касающиеся, в частности, описания доисламских верований или пересказа историй, образующих якобы отдельные суры, но на самом деле не представленных в Коране в цельном виде. Но действительно интересно то, что в трактате «О ересях» мы можем обнаружить строки, отсылающие нас к 112-й суре:
Магомет говорит, что единый Бог есть творец всего, что Он и не рожден, и родил никого [Иоанн Дамаскин, 2018, 138].
Несмотря на то, что сам прп. Иоанн не атрибутирует эти строки как прямую цитату из Корана, мы можем с большой долей уверенности утверждать, что он привел здесь перевод именно 112-й суры.
Разумеется, можно сомневаться в том, читал ли прп. Иоанн Дамаскин Коран целиком, насколько хорошо был знаком с содержанием мусульманского учения. Справедливости ради стоит сказать, что от него этого и не требовалось на занимаемом им посту в налоговой администрации халифата. Но по роду своих государственных обязанностей прп. Иоанн просто не мог не знать того, что на монетах24 халифов Омей-ядской династии, которой служил он и его семья, была выгравирована одна из важнейших вероучительных формул ислама, которую он и воспроизводит в настоящем своем труде. Начиная с 77 г. по хиджре25 (696 г. по Р. Х.) на арабских дирхемах появляются цитаты из 112-й, а также из 9-й сур Корана.

Дирхем эпохи династии Омейядов. Серебро, чеканка. Ок. 713–714 г. по Р. Х. На аверсе (слева): «Нет бога кроме Аллаха, и нет сотоварищей у Него».
По кругу (слева): «Во имя Аллаха отчеканен этот дирхем в Васите в 95 г. [по хиджре]». На реверсе (справа): «Аллах Един, Аллах al-ṣamad, не родил и не родился, и нет никого, равного Ему».
По кругу (справа): «Мухаммад — посланник Аллаха, Он послал Его с руководством и истинной религией, чтобы он разъяснял ее, даже если это ненавистно многобожникам»26.
Будучи этническим сирийцем, прп. Иоанн Дамаскин мог не только вполне прилично владеть арабским языком, но и, руководствуясь языковой интуицией, осознавать этимологические связи и хорошо понимать то, что в лингвистике принято называть «внутренней формой слова»27.
Потому неудивительно, что он попытался передать в цитируемом отрывке al-ṣamad как ποιητὴν τῶν ὅλων «творец всего», стараясь донести главный смысл арабской лексемы, выражающей идею абсолютного источника власти, силы, господства.
Это наблюдение имеет особую ценность, поскольку на прп. Иоанна Дамаскина часто ссылаются в связи с критикой ислама. Некоторые исследователи, впрочем, полагают, что преподобный намеренно пропустил al-ṣamad (напр.: [Simelidis, 2011, 909]). Данное мнение представляется нам ошибочным. Ведь в указанном случае мы явно имеем дело с вариантом перевода, а не с сокращением28. Прп. Иоанн Дамаскин привел в своем труде фразу, которая была ему хорошо известна, пусть даже он и не знал ее первоисточника.
В связи с обсуждением вариантов греческих переводов коранического al-ṣamad невозможно не упомянуть православного епископа города Харрана — Феодора Абу Курру (ок. 750 — ок. 830), который также вел активную полемику с мусульманами. Он стал первым христианским автором, писавшим богословские труды на арабском. До нас также дошли его работы на родном для него сирийском языке. Кроме того, сохранились сочинения Абу Курры, написанные на греческом. Правда, у некоторых исследователей имеются определенные сомнения, принадлежат ли они перу самого Феодора Абу Курры, или же являются переводом с арабского, выполненным учеником епископа — Иоанном диаконом29.
Не вдаваясь в проблему авторства, укажем лишь на то, что в 20-й части30 дошедших до нас полемических трудов Абу Курры содержатся такие слова:
Будучи одержим демоном, он <Мухаммад> говорил: «Бог послал меня пролить кровь утверждающих, что Божество по природе триипостасно и всех не утверждающих таким образом: „Бог един, Бог, сколоченный молотом, который не рождал и не рожден и не было у него никакого соучастника“» [Cочинения епископа Феодора Абукары, 1879, 183].
В греческом переводе 112-й суры, сделанном Абу Куррой или же его учеником, на месте арабского al-ṣamad стоит весьма необычное слово — σφυρόπηκτος, что на русский можно перевести как «крепко сколоченный молотком»31. Примечательно, что в попытке аккуратно передать коранический термин переводчик изобрел hapax legomenon, который нигде больше в греческой литературе не встречается.
Профессор Университета Фессалоник К. Симелидис поясняет, что σφυρόπηκτος, употребленный Абу Куррой, и ὁλόσφυρος, встречающийся в тексте «Опровержения» Никиты Византийского и Чине присоединения мусульман к Православной Церкви, несомненно, являются близкими синонимами, однако «два слова могут иметь немного разные коннотации: ὁλόσφυρος, скорее, описывает состояние „твёрдости, крепости“, тогда как σφυρόπηκτος выражает (по крайней мере, в большей степени, чем ὁλόσφυρος) сам процесс укрепления, затвердения» [Simelidis, 2011, 911]. Остается только догадываться, чувствовали ли сами переводчики столь тонкую разницу32.
Как было сказано выше, анонимный греческий перевод Корана , на который опирались Никита Византийский и составители чина, оказал огромное влияние на всю последующую византийскую традицию полемики с исламом. Поэтому несколько слов необходимо посвятить безымянному автору.
По единодушному мнению исследователей греческого текста Корана, перевод этот довольно буквален и выполнен с большой аккуратностью и точностью. Очевидно, что переводчик не только прекрасно знал греческий язык, но и был знаком с некоторой мусульманской экзегетической литературой. При этом существуют разные позиции в отношении того, носителем какого языка был переводчик. Соглашаясь в том, что автор перевода однозначно не был арабом, ученые полагают, что перевод мог быть выполнен либо мусульманином-неарабом с миссионерскими целями33, либо сирийским христианином [Versteegh, 1991, 65], либо православным греком [Simelidis, 2011, 900].
Вместе с тем, как отмечает К. Верстег [Versteegh, 1991, 63], переводчик пользовался, по всей видимости, не совсем стандартным34 текстом Корана: ряд ошибок указывает на отсутствие в тексте огласовок и диакритических знаков. Это замечание, хотя оно и не касается нашего конкретного случая с al-ṣamad , вместе с тем стоит иметь в виду, чтобы верно представлять себе общую ситуацию.
Никита Византийский , не владевший арабским языком и пользовавшийся греческим переводом Корана, допускает в своем «Опровержении» два переводных варианта al-ṣamad : ὁλόσφυρος и ὁλόσφαιρος (буквально «всесферический»). Профессор К. Симелидис справедливо указывает, что путаницу этих переводов можно объяснить как попытку Никиты Византийского интерпретировать малопонятное ὁλόσφυρος, хотя Никита и не уверен до конца, что правильно его понимает, оговариваясь, что все-таки данное наименование Аллаха не связано с его сферической формой [Simelidis, 2011, 903]. Симелидис предполагает, что, возможно, Никиту кто-то консультировал по вопросу мусульманского понимания термина. Но поскольку целью византийского автора, исходя из названия работы, было высмеять ислам и представить его в невыгодном свете, он предпочитает акцентировать внимание на более нелепых толкованиях.
Более поздние византийские авторы, писавшие об исламе, как правило, обращались в первую очередь к трудам Никиты Византийского как к авторитетному источнику сведений о мусульманской вере и, соответственно, дублировали в своих работах
ὁλόσφυρος или ὁλόσφαιρος, наделяя их дополнительными смыслами и толкованиями (разумеется, нелестными по отношению к исламу)35.
Завершая обзор греческих переводов al-ṣamad , нельзя не упомянуть и о труде Варфоломея Эдесского «Обличение агарянина» (Patrologia Graeca. T. 104. P. 1383–1448), в котором также встречается отсылка к обсуждаемому нами кораническому аяту:
И само имя, стоящее в начале твоего Корана, которое вы называете милостивым и милосердным, является тем, кого вы называете на своем языке Аллахом, Саметом, Тсаметом, что, видимо, означает «единый» (ὁλόσφυρος) и «цельный» (ὁλόβολος), имеющий силу и форму (цит. по: [Варфоломей Эдесский, 2012, 94]).
Нам крайне мало известно об авторе сочинения. Исследователи даже не могут согласиться о точном времени его жизни36. Но из текста «Обличения» становится вполне ясно, что сам Варфоломей, несмотря на знание арабского, каким, как утверждается в его жизнеописании, он обладал, едва ли был знаком с текстом Корана, равно как и с собственно исламским учением, поскольку выдает за мусульманскую веру то, чего в ней определенно не было. Автор соответствующей статьи в «Православной энциклопедии» П. И. Жаворонков метко называет выбранный Варфоломеем специфический метод описания ислама «народной духовностью» [Жаворонков, 2003, 718]. То, что описывает Варфоломей, можно определить скорее как смешение некоторых исламских представлений с местными политеистическими верованиями, что аналогично в принципе феномену «двоеверия» на славянской почве.
Но в рамках исследования истории ὁλόσφυρος интересно отметить, что Варфоломей Эдесский использует в качестве пояснения к этому переводу слово ὁλόβολος «цельный, монолитный». Автор сочинения, как и многие другие византийские писатели, был уверен в том, что образ Аллаха связан с неким материальным предметом, «имеющим силу и форму».
Редкое ὁλόσφυρος, а также его близкий и более употребительный синоним σφυρήλατος — «выкованный, обработанный молотом», которое также использовано в чине анафематствования (в его заключительных формулировках, см.: (Patrologia Graeca. T. 140. P. 133)), встречались в античной и ранневизантийской литературе, как правило, в контексте описания работ по металлу (обычно — золоту, реже — железу и др.) 37. Но данные слова употреблялись в языке и в переносном значении: основанием для метафоры служила крепость, прочность металла, с которой могли сравниваться, например, дружба, чувства или даже слова38. Примечательно, что свт. Епифаний Кипрский (IV в.) прилагает данное определение и к человеку39, чтобы показать, что он вовсе не является неделимым гомогенным существом. Этот пример употребления слова в его переносном значении помогает нам понять и логику его использования для перевода al-ṣamad, одно из исламских толкований которого и было основано на идее бесполостности и внутренней однородности.
Невозможно не согласиться с К. Симелидисом, который справедливо указывает на то, что переводчик Корана на греческий язык сделал все возможное, чтобы как можно более аккуратно и точно передать значение арабского слова, по крайней мере, как его понимали современные ему мусульмане, в русле одной из традиций толкования al-ṣamad . Более того, становится вполне очевидным, что применительно к Богу, человеку или абстрактным понятиям слово оХосфирод и его синонимы употребляются в своем переносном значении. К сожалению, этот факт нередко ускользает от внимания исследователей, несмотря на то, что в Patristic Greek Lexicon стоит соответствующая помета [Patristic Greek Lexicon, 1961, 950].
-
IV. Казус Мануила I Комнина
Попытка критического осмысления и исправления чина анафематизмов была предпринята византийским императором Мануилом Ι Комниным (1143–1180) (см. подр.: [Успенский, 2002] ). При всей неоднозначности своей внутренней и внешней политики император был не только ярким государственным деятелем и отважным воином, но и человеком весьма талантливым и образованным. По воспоминаниям современников, он был в своем роде авантюристом, обладал довольно крутым нравом и несгибаемой волей, но при этом умел вовремя продемонстрировать дипломатическую гибкость. Все эти качества в полной мере проявились в ситуации, произошедшей в 1180 г. незадолго до кончины императора и описанной византийским историком Никитой Хониатом.
Мануил I Комнин обратил внимание на то, что в чине оглашения мусульман содержится анафема «богу Мухаммада», о Котором говорится, что Он есть ὁλόσφυρος. Император посчитал, что данная анафема является хулой на Единого Бога и служит большим соблазном для мусульман, желающих принять христианскую веру. Призвав патриарха Константинопольского Феодосия и находившихся в то время в столице архиереев, Мануил объяснил им свое намерение внести изменения в чин оглашения и вопросил их мнение. Но архиереи никак не желали согласиться с василевсом, ибо, как настаивали они, «подвергается анафеме не Бог вообще, Творец неба и земли, а измышленный безумными бреднями Магомета бог-олосфирос, который и не рожден, и не родил»40. Любопытно добавление, какое делает Никита Хониат: «Да притом, говорили они, мы не совсем хорошо понимаем, что значит слово ὁλόσφυρος».
Но император, не удовлетворившись их ответами и объяснениями, составил красноречивое сочинение, которое должно было быть зачитано для членов сената и совета. Сочинение это, как свидетельствует Хониат, «имело такую силу убеждения, что едва могли оторвать свой слух от него не только люди, обращавшие внимание на его изящную внешность и приятную оболочку, но даже и те, которые вникали в смысл написанного». Но патриарх, вмешавшись, призвал не поддаваться уговорам императора и воспрепятствовал изменению чина.
Составив новый, более краткий вариант определения, Комнин снова вызвал в свой дворец архиереев для утверждения изменений. Но когда определение было зачитано, один из архиереев — архиепископ Фессалоникийский Евстафий, прославленный, кстати говоря, Элладской Церковью в лике святителей в 1988 г., «горя ревностью по благочестию», возмутился и категорически отказался подписывать текст, сказав, что не признает Господом «скотоподобного деторастлителя, учителя и наставника на все гнусные дела» и не потерпит, «чтобы прославлялся как истинный Бог какой-то олосфирос — вымысел жалкого ума».
После этого резкого выпада император сменил тактику и, проявив долготерпение, позволил патриарху и архиеп. Евстафию выговориться, после чего определение было прочитано вновь и одобрено архиереями как вполне благочестивое.
На следующий день, собравшись подписать уже согласованный текст, архиереи начали снова возмущаться определением и требовать изменить формулировки, чем разгневали Мануила, обвинившего их в непостоянстве и нарушении своего обещания. «Наконец, — пишет Никита Хониат, — кое-как согласились изгладить в огласительных чинах анафему Богу магометову и написать анафему Магомету и всему его учению, и всем его последователям. Постановив и утвердив это определение, они окончили свои многочисленные собрания и совещания».
Примечательно, в каких тонах Хониат описывает противостояние императора с архиереями. Историк явно не симпатизирует позиции Мануила Комнина, который, по его мнению, воспользовался благовидным предлогом, чтобы показать свою ученость. Как бы в подтверждение своих слов Никита Хониат вспоминает следом пророчество, сделанное некогда епископом, управлявшим Хонами (Колоссами), родным городом историка, о том, что якобы под конец жизни император Мануил впадет в безумие. И потому, «когда был поднят спор о только что упомянутом догмате, и царь начал безрассудно настаивать на том, чтобы был признан истинным Богом магометов бог-олосфирос, и нерожденный и не родивший, все начали говорить, что предсказание исполнилось, потому что это мнение, как совершенно противоположное истине, бесспорно есть настоящее и самое худшее безумие».
Этим завершается рассказ о споре Мануила I Комнина с архиереями, в результате которого чин оглашения был частично исправлен. Правда, решения Поместного Собора 1180 г. часто преподносятся ревнителями благочестия как не прошедшие рецепцию, поскольку были приняты под сильным давлением светской власти, а настоящая позиция Церкви проявилась в том, чтобы эти исправления не принять, отказывая мусульманам в том, что они поклоняются Единому и Истинному Творцу.
Впрочем, согласимся с точкой зрения Джона Толана, современного историка-медиевиста и исследователя межрелигиозных отношений на Ближнем Востоке: «Иерархам Византийской Церкви было крайне важно подчеркнуть религиозную „ина-ковость“ ислама, чтобы сохранить четкие границы между истиной и ложью: лучше причислить ислам к идолопоклонству, чем предположить, что и он почитает вечного Бога» [Tolan, 2002, 124].
-
V. Практика присоединения мусульман
в Русской Православной Церкви
Описанная выше внутриправославная дискуссия, а равно и сама проблема истолкования коранического термина оказала непосредственное влияние на литургическую жизнь Церкви, в частности в вопросе формирования чинопоследований присоединения мусульман к православию.
Такие чины мы находим уже в первых появившихся с началом христианской миссии на Руси сборниках правил — «Кормчих книгах». Чин встречается также и в ряде Требников.
В списках41 наиболее древней из всех редакций Кормчих — Ефремовской, датируемой примерно XII в. и восходящей, по мнению ряда ученых42, к древнеболгарскому оригиналу IX в., чин присоединения содержит формулы проклинания «бога Моамедова», о котором говорится, что он бог сдравыи (РНБ. Cобрание Соловецкого монастыря. № 1056/1165. Л. 358 об.–359). Согласимся, что это несколько необычный и неожиданный перевод греческих слов ὁλόσφυρος и σφυρήλατος, стоящих в византийском источнике. Поскольку в древнерусском языке мы не находим значений, которые бы могли удовлетворительно объяснить употребление съдравыи43 в этом контексте, можно предположить, что данное слово было буквально переписано с болгарского оригинала. Примечательно, что в болгарском языке и по сей день здрав среди прочего используется в значении «крепкий, прочный» [Бернштейн, 1986, 195–196]. Из этого сам собой напрашивается вывод: переводчик на славянский язык был, по всей видимости, знаком с правильной интерпретацией мусульманского понятия, стоящего за соответствующими греческими словами. Впрочем, это всего лишь смелое предположение, и данный вопрос еще ждет своего исследователя.
В других редакциях Кормчих и Требниках встречаем более привычные нам варианты: вьсь скованъ44, всекованъ45.
Но, как еще в XIX в. справедливо отмечал профессор Казанского университета А. П. Яблоков, «в древнем своем виде чин присоединения мухаммедан не мог у нас остаться неизменным. Как в своем оригинале, так и в переводах на славянский язык, он имел в огласительной части много погрешностей, и притом погрешностей самых грубых» [Яблоков, 1881, 20]. Замеченные недостатки постарался устранить в своем Требнике митрополит Киевский Петр (Могила), который привел «Чинопоследова-ние соединяемых из иноверных к Православной Кафолической Восточной Церкви» к версии, принятой по настоянию императора Мануила I Комнина, в которой анафема провозглашалась, как мы помним, не самому «богу Мухаммеда», а учению Мухаммада «о боге некоем всекованном».
Чинопоследование, составленное митр. Петром (Могилой), включалось в требники очень долгое время, вплоть до середины XIX в.
Однако к концу XIX столетия необходимость в корректировке текста чинопосле-дований стала уже вполне очевидной, поскольку многие формулировки чина оглашения явно не соответствовали реальному вероучению мусульман. В связи с этим была начата работа по внесению ряда исправлений. Тексты с изменениями мы находим в отдельно изданных чинопоследованиях, хотя в так называемом «Большом требнике» все еще помещался старый вариант.
Так, «Книга чинов присоединения к православию», изданная Санкт-Петербургской Синодальной типографией в 1895 г., уже не содержит слова «всекованный» в составе анафематизмов. Именно это последование приводит в своей «Настольной книге священнослужителя» и прот. С. Булгаков.
Революционные движения начала XX в. и последовавшая за ними череда трагических для нашего Отечества и Православной Церкви событий на долгие годы сделали затруднительным, а по временам и вовсе невозможным процесс исправления ошибок в богослужебных текстах, тем более в таком специфическом вопросе, как чин принятия мусульман.
Недостаток же богослужебной и всякой иной литературы привел к тому, что старые, дореволюционные издания не воспринимались критически, а зачастую и вовсе получали своеобразную «канонизацию» как тексты, опубликованные во время оно , при «благочестивейшем православном самодержце».
Ситуация нисколько не изменилась и с прекращением гонений на Церковь. В конце прошлого столетия начались массовые репринтные переиздания в том числе и богослужебной литературы. Главная задача, стоявшая тогда перед Церковью в данном отношении, была предельно практической: дать в руки умножившемуся числу священнослужителей в тысячах новооткрытых храмов сборники чинопоследо-ваний, по которым они могли бы совершать Таинства и обряды. При этом критерий полноты разнообразных чинов виделся многочисленным новым издателям предельно актуальным. Этому критерию как нельзя лучше соответствовал и Большой требник, и тем более — Требник Петра (Могилы).
Сегодня ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. Дефицит религиозной литературы во многом преодолен. Однако указанные выше сборники, в которых содержатся чины с требованием отречься от несуществующего «всекованного бога», по-прежнему имеют широкое хождение и популярность.
-
VI. Вместо заключения
Каждый раз, когда разговор заходит о христианско-исламском диалоге и сотрудничестве, в каких бы формах они ни осуществлялись (работы Межрелигиозного совета, встреч архиереев с представителями мусульманского духовенства, проведения совместных конференций и т. д.), на просторах православного Рунета сразу закипают страсти.
Желание обосновать свои убеждения и найти для себя дополнительные аргументы перед лицом иной религиозной традиции вполне естественно и понятно. Неразумно было бы пытаться затушевывать различия между религиями, утверждая, что «все религии учат одному и тому же». Безусловно, это ложь, недостойная человека верующего. Вместе с тем попытки увидеть неправоту там, где ее нет, — путь не менее опасный и скользкий.
Но именно это мы наблюдали, разбирая судьбу коранического понятия al-samad в греческих текстах, когда в полемических целях был совершен ряд смысловых подмен. По сути, византийские переводчики создали новую реальность, привнесли в священный для мусульман текст то, чего там не было и что противоречило самому духу строгого исламского монотеизма.
Впрочем, мораль истории «al-ṣamad — ὁλόσφυρος» состоит вовсе не в том, чтобы «обличить» злокозненность византийских писателей. Справедливости ради следует сказать, что ситуация искажения представлений о другой религиозной традиции довольно типична. Автору доводилось встречать и весьма поверхностные и даже не соответствующие действительности суждения о христианстве и православных духовных практиках, исходившие от очень авторитетных мусульманских лидеров.
Но, как неправильно было бы судить о христианском учении, основываясь на кораническом тексте, содержащем неверное представление о христианской вере и имеющем явно полемический характер, так неправильно было бы делать выводы об исламе, ссылаясь на мнения христианских средневековых полемистов.
Мы исходим из убеждения, что в христианском свидетельстве о Том, Кто и есть Путь, и Истина, и Жизнь (Ин 14:6), качество аргументов и исследовательская честность столь же важны, как и глубокая вера, внутреннее духовное делание и личный пример евангельского отношения к ближним.
Приведенные выше факты, касающиеся толкования одного из базовых коранических понятий сквозь призму православно-мусульманских отношений, дают возможность надеяться на развитие практики издания исправленных литургических чинов, продолжающих традицию Синодального издания 1895 г. и не содержащих, в частности, недостоверных суждений об исламе.
Важным начинанием было бы издание новой редакции пространного требника, который бы стал своеобразным компендиумом чинопоследований и вобрал бы в себя всё лучшее и из «Большого требника», и из Требника Петра (Могилы), а также других подобных книг. Это бы позволило, с одной стороны, сохранить благоговейное отношение к вышеперечисленным литургическим памятникам, связанным с историей православного богослужения, а с другой стороны, заменить их в практическом отношении через предложение более удобного и логически стройного сборника чинопоследований.
И конечно, нельзя не поддержать общий курс священноначалия Русской Церкви и лидеров исламской уммы России на выстраивание конструктивного диалога между православием и исламом ради достижения мира и согласия в обществе, утверждения в жизни людей принципов добрососедства и взаимопонимания, основанного на прочном фундаменте достоверных знаний друг о друге.
Список литературы Трудности перевода: коранический термин al-amad, его интерпретация и история православно-мусульманских отношений
- аль-Бухари (1997) — аль-Бухари М. Сахих аль-Бухари [Свод хадисов имама аль-Буха-ри]: в 5 т. Бейрут: аль-Мактаба аль-'асрийя, 1997. Т. 3. С. 1616. Хадис № 5015.
- Арабские сочинения Феодора Абу Курры (2020) — Арабские сочинения Феодора Абу Курры, епископа Харранского / [Сост., комм., предисл., пер. с араб. прот. О. Давыденкова]. М.: Изд-во ПСТГУ, 2020.
- Бенешевич (1987) — Бенешевич В.Н. Древнеславянская кормчая. XIV титулов без толкований. София: Изд-во Болгарской Академии наук, 1987. Т. II.
- Бернштейн (1986) — Бернштейн С.Б. Болгарско-русский словарь. М.: Русский язык, 1986.
- Большаков (1998) — Большаков О.Г. История халифата: в 4 т. М.: Восточная литература, 1998. Т. 3.
- Варфоломей Эдесский (2012) — Варфоломей Эдесский. Обличение агарянина / Пер. Е. П. Орехановой // Византийские сочинения об исламе (тексты переводов и комментарии). М., 2012.
- Византийские сочинения об исламе (2012) — Византийские сочинения об исламе (тексты переводов и комментарии) / Под ред. Ю. В. Максимова. М., 2012.
- Жаворонков (2003) — ЖаворонковП.И. Варфоломей Эдесский // Православная энциклопедия. М.: ЦНЦ «Православная Энциклопедия», 2003. Т. VI. С. 718.
- Звегинцев (2007) — Звегинцев В. А. История арабского языкознания: краткий очерк. М.: КомКнига, 2007.
- Иоанн Дамаскин (2018) — Иоанн Дамаскин, прп. О ста ересях вкратце // Иоанн Дамас-кин, прп. Источник знания / Пер. А.А. Бронзова. М.: РИПОЛ классик, 2018.
- Кулиев (2010) — Кулиев Э.Р. Корановедение: учеб. пособие. М.: Изд-во МИУ, 2010.
- Мейендорф (2007) — Мейендорф И., прот. Византийские представления об исламе // Мейендорф И., прот. Византийское наследие в Православной Церкви. Киев, 2007. С. 119-154.
- Никита Хониат: История — Никита Хониат. История. Царствование Мануила Комнина. Кн. VII (6). ЦКЬ: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/Xoniat/index.html (дата обращения: 28.04.2021).
- Сочинения епископа Феодора Абукары (1879) — Противомусульманские сочинения епископа Феодора Абукары в переводе с греческого языка Г. С. Саблукова // Миссионер. 1879. Вып. 19-24; Вып. 23. С. 181-185.
- Срезневский (1912) — СрезневскийИ.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам: в 3 т. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1893-1912. Т.Ш.
- Срезневский (1897) — Срезневский И.И. Обозрение древних русских списков Кормчей книги. СПб., 1897.
- Требник Петра Могилы (1996) — Требник митрополита Петра Могилы. Киев, 1996.
- Успенский (2002) — Успенский Ф. И.История Византийской империи: в 5 т. М., 2002. XIV.
- Фролов (2014) — Фролов Д. В. Комментарий к Корану. Тридцатый джуз'. Т. 3. Суры 98-114. М.: Восточная книга, 2014.
- Щапов (1978) — ЩаповЯ.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси XI-XШ вв. М.: Наука, 1978.
- Яблоков (1881) — Яблоков А.П. О происхождении чина присоединения мухаммедан к православной христианской вере. Казань, 1881.
- Bacharach (2006) — Bacharach J. L. Islamic history through coins: an analysis and catalogue of tenth-century Ikshidid coinage. Cairo, 2006.
- Cumont (1911) — CumontF. L'origine de la formule Grecque d'abjuration imposée aux Musulmans // Revue de l'histoire des religions. 1911. Vol. 64. P. 143-150.
- Griffith (2008) — Griffith S. The Church in the Shadow of the Mosque: Christians and Muslims in the world of Islam. Princeton University, 2008.
- Hanson (2000) — Hanson C.L. Manuel I Comnenus and the "God of Muhammad": a study in Byzantine Ecclesiastical politics // Medieval Christian perceptions of Islam: a book of essays / Ed. by John V. Tolan. Routledge, 2000.
- H0gel (2010) — H0gel Ch. An early anonymous Greek translation of the Qur'an // Collectanea Christiana Orientalia. 2010. Vol. 7. P. 65-119.
- John of Damascus and Theodore Abü Qurrah (1995) — John of Damascus and Theodore Abü Qurrah // Schriften zum Islam / Ed. and transl. by Reinhold Glei and Adel Theodor Khoury. (Corpus Islamo-Christianum, Series Graeca, 3). Würzburg, 1995.
- Khoury (1969) — Khoury A.-T. Les Théologiens byzantins et l'Islam. Textes et auteurs (VIIIe — XIIIe S.). 1969. P. 188-194.
- Klein (1987) — Klein E. A comprehensive etymological dictionary of the Hebrew language for readers of English. Jerusalem; Tel-Aviv, 1987.
- Lamoreaux (2001) — Lamoreaux J. C. Theodore Abü Qurrah and John the Deacon // Greek, Roman and Byzantine studies. 2001. Vol. 42. P. 368-386.
- Lane (1968) — LaneE. W. Arabic-English lexicon: in 8 parts. London, 1874. [Reprinted: Beirut, 1968.] Part 4.
- Patristic Greek Lexicon (1961) — Patristic Greek Lexicon / Ed. by G.W. Lampe. Oxford, 1961.
- Rubin (1984) — Rubin U. Al-samad and the high God: An interpretation of sura CXII // Der Islam. 1984. No. 61. P. 197-217.
- Sahas (1991) — Sahas D. J. Ritual of Conversion from Islam to the Byzantine Church // Greek Orthodox Theological Review. 1991. Vol. 36. P. 57-69.
- Simelidis (2011) — Simelidis Ch. The byzantine understanding of the Qur'anic term al-Samad and the Greek translation of the Qur'an // Speculum. 2011. Vol. 86. No. 4. P. 887-913.
- The Commentary of the Qur'an by al-Tabarï (1987) — The Commentary of the Qur'an by Abü Ja'far Muhammad b. Jarïr al-Tabarï / Introd. and notes by John Cooper. New York: Oxford University Press, 1987. Vol. 1.
- Theodore Abü Qurrah (2006) — Theodore Abü Qurrah (Eastern Christian texts) / Transl. by John C. Lamoreaux. Brigham Young University, 2006.
- Tolan (2002) — TolanJ. V. Saracens: Islam in the Medieval European imagination. New York: Columbia University Press, 2002.
- Versteegh (1991) — Versteegh K. Greek translations of the Qur'an in Christian Polemics (9th century A.D.) // Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 1991. No. 1 (141). P. 52-68.