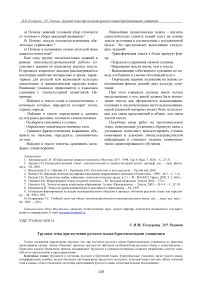Трудные темы при изучении русского языка бурятоязычными учащимися
Автор: Егодурова Виктория Макаровна, Раднаев Эрхэто Раднаевич
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Проблемы двуязычия и этнокультурного образования
Статья в выпуске: 1.1, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена определению трудных тем при изучении русского языка бурятоязычными учащимися из практики преподавания автора. Автор объясняет причины трудностей обучения особенностями русского языка в сопоставлении с бурятским языком. Выявление причин, вызывающих трудности в усвоении материала, позволит разработать систему занятий по их преодолению и предупреждению.
Трудности в изучении, русский и бурятский языки, бурятоязычные учащиеся, звуки чужого языка, интерферентные ошибки, модель обучения, категория рода, предлоги и послелоги, категория вида глаголов, объем значений слов в языках, объем полисемии, методика преподавания русского языка, сопоставительные исследования
Короткий адрес: https://sciup.org/148180559
IDR: 148180559 | УДК: 37.016:81-028.31
Текст научной статьи Трудные темы при изучении русского языка бурятоязычными учащимися
Известно, что русский и бурятский языки относятся к разным типологическим группам, поэтому в их системной организации наблюдаются значительные различия. Трудности в изучении русского языка бурятоязычными учащимися связаны прежде всего с особенностями системной организации изучаемого языка в отличие от родного языка обучаемых. Встречаются они на всех уровнях языковой системы: фонетикофонологическом, лексическом, морфологическом, синтаксическом.
При изучении любого языка учащиеся должны усвоить звуки чужого языка, закономерности их сочетаемости при оформлении слов, особенности организации слова. Наибольшую сложность в артикуляции вызывает у учащихся, по нашим наблюдениям, звук [ш’], графически обозначаемый буквой щ. Так как в бурятском языке этот звук отсутствует, многие учащиеся часто заменяют его звуком [ш]. Например, вместо [ш’]ука произносят [ш]ука, вместо е[ш’]e – [ш].
Одной из наиболее трудных для усвоения учащимися-бурятами является грамматическая категория рода имени существительного в русском языке. Известно, что в бурятском языке грамматически оформленной категории рода нет. В русском языке категория рода является весьма важной, пронизывает систему русского языка, базируясь на имени существительном, и отраженно путем согласования представлена формами почти всех знаменательных частей речи: прилагательных, причастий, некоторых разрядов местоимений, порядковых числительных, глаголов прошедшего времени. Например: большой дом; дом, строящийся в городе; мой, каждый дом; первый, второй, пятый дом. Представлена категория рода также путем замены существительных местоимениями: город – он, машина – она, поле – оно. Категория рода определяет парадигму падежей имен существительных в единственном и множественном числах и парадигмы согласуемых с ними перечисленных частей речи.
В бурятском языке нет согласования как способа связи слов, поэтому нарушения грамматической правильности русской речи, связанные с согласованием между определением и определяемым словом, по нашим наблюдениям, относятся к довольно распространенным, типичным интерферентным ошибкам в русской речи бурятских учащихся. Проявления грамматической интерференции в речи можно наблюдать как в устной, так и в письменной речи. Ошибки на употребление родовых форм в русской речи бурятских учащихся в письменных работах (диктантах) подтверждают следующие примеры (в скобках даны ошибочные написания студентов).
«Истинные хлеборобы говорят, что счастье людское (ой) из земли растет. С первой борозды, проложенной (ые) трактором, начинается борьба земледельцев за хлеб. Хлеб – это труд человеческий (тва), это и надежда на будущее, и мерка, которой (ый) всегда будет измеряться совесть твоя. И проклят будет тот, кто хоть когда-нибудь выразит пренебрежение к хлебу, к труду, к народу, давшему (его, ую) нам жизнь.
Это три корня, на которых (ом) держится наше государство.
Самое главное, на чем всегда будет держаться человек, – труд, который(ая) дает нам хлеб насущный. Вспоминаю, как в годы учения получил из дома каравай, испеченный(ой) из новой ржи».
Модель обучения грамматической категории рода может быть традиционной: 1) объяснение темы на лекции, где студентам дается четкая система ориентиров для распознавания родовой принадлежности существительного с учетом особенностей русского языка по сравнению с родным; 2) упражнения на усвоение теории, формирование коммуникативно-речевых умений.
Как показывают наши наблюдения, обнаруживаются общие черты в лексическом выражении различий по полу у одушевленных существительных в русском и бурятском языках. Так, в основу родового деления существительных по семантике в русском языке положена граммати- ческая категория одушевленности - неодушевленности. У многих одушевленных существительных формы мужского и женского рода связаны с выражением значения мужского и женского биологического пола. Различаются родовые пары супплетивные: мужчина - женщина, дедушка - бабушка, словообразовательные: студент - студентка, флективные: супруг - супруга.
В бурятском языке традиционно выделяются существительные, обозначающие имена человеческие и имена нечеловеческие. Имена человеческие по половой принадлежности подразделяются на имена мужские и имена женские. В бурятском языке род существительного, можно сказать, есть обозначение пола у существительных, обозначающих имена человеческие. Например: хYбYн (мальчик) - басаган (девочка), Yбгэн (муж) - Ьамган (жена). Имена не человеческие большей частью не выражают половых различий, за исключением названий некоторых животных и птиц. Например: буха (бык) - унеэн (корова).
Неодушевленные существительные в русском языке различают род формально, средством выражения рода выступают флексии, нет никаких логических объяснений, почему стул -м.р., скамейка - ж.р., кресло - ср.р. Значит, в русском языке следует различать не три, а шесть грамматически существенных родовых делений существительных: три одушевленных и три неодушевленных. Каждый из шести родовых подклассов выделяется своим особенным формальным признаком.
Трудности в изучении русского языка бурятоязычными учащимися встречаются и при употреблении русских предлогов. В бурятском языке нет предлогов, поэтому их усвоение требует особых усилий. Следует отметить, что все значения русских предлогов вне контекста имеют соответствующие эквивалентные послелоги в бурятском языке. Но синтаксическое функционирование предлогов и послелогов во многом различается: некоторые предложные сочетания русских глаголов соответствуют беспо-слеложным бурятским сочетаниям глаголов. Например, идти в школу - Ьургуулида ошохо, идти с работы - хYДЭлмэриheeн ябаха, идти на реку - мYрэндэ ошохо, войти в дом - гэртэ оро-хо, прийти с работы - хYДЭлмэриheeн ерэхэ, выйти из дома - гэртэЬээн гараха, поехать в Сибирь - Сибирь ошохо. Как показывают примеры, глаголы движения бурятского языка, в семантике которых содержится указание на направленность (ошохо - ерэхэ, орохо - гараха), при уточнении места (помещения, названия ме- стности, работы или занятия) синтаксически распространяются существительными без участия послелогов. Поэтому в русской речи бурятские учащиеся часто опускают предлог или ошибочно употребляют предлог, не соответствующий значению.
Иногда даже в тех случаях, когда бурятские послеложные сочетания с глаголами, значения которых передаются соответствующими русскими предложными сочетаниями с глаголами (например, саЬан соо орохо - попасть в снег, минии урда гуйхэ - бежать передо мной), билингвам трудно бывает установить параллельные функциональные соотношения между послелогом и предлогом и правильно употребить русский предлог. Русские предлоги, явно имеющие тождественные по значению послелоги в бурятском языке, не ощущаются бурятоязычными учащимися в таких случаях по иной причине. Постпозиционный порядок расположения послелогов в бурятском языке в отличие от препозиционного расположения предлогов в русском языке накладывает свой отпечаток на интонационное произношение бурятских и русских сочетаний и отражается при грамматическом оформлении фразы билингвами. В после-ложных конструкциях интонационно выделяются повышением тона употребляемые с послелогами лексемы, а послелог произносится с понижением тона, ослабленно, поэтому в произношении сливается со словом. В русском языке предлог, расположенный в препозиции с употребляемым словом, произносится на одном интонационном уровне с ним, поэтому носителем агглютинативного бурятского языка не ощущается как имеющий соответствие послелогу. С этим связаны интерферентные явления при употреблении предлогов в русском языке бурятоязычными учащимися [1].
Наблюдаются трудности при употреблении бурятоязычными учащимися русских видовременных форм глагола. Типологический подход к рассмотрению проблемы категории вида позволил нам сделать вывод о том, что в бурятском языке существует модель выражения видового категориального значения, во многом отличная от соответствующей системы русского языка. Семантическим стержнем категории вида бурятских глаголов является выражение завершенно-сти/незавершенности действия. Завершен-ный/незавершенный виды бурятских глаголов и совершенный/несовершенный виды русских глаголов имеют существенные различия в семантике и средствах выражения. В русском языке есть глаголы, обозначающие «вторичные со- стояния» - «состояния в результате (завершенных) действий», например, «я устал», но они, как отмечает Ю.С. Маслов, опираются на обозначение предельного и притом завершенного действия [цит. по: 2, с. 80]. Завершенность является дополнительным семантическим признаком предельного действия, обозначающего совершенный вид, в то время как в бурятском языке, в нашей трактовке, этот признак является основным аспектуальным признаком завершенного вида [1].
Категория вида как грамматическая категория в русском языке опирается на оппозицию глаголов совершенного и несовершенного вида, то есть на видовую пару глаголов. В бурятском языке завершенный (уншаад байха), незавершенный вид (уншажа байха), включающий в систему своих значений также значения многократного (уншадаг байха) и прерывистократного (уншан байха) видов глаголов, выражаются строго одними и теми же аналитическими формами глаголов соответственно: разделительным, соединительным и слитным деепричастием в сочетании со служебным глаголом и многократным причастием со вспомогательным глаголом. Для передачи противопоставленных форм русских глаголов совершенного и несовершенного видов в бурятском языке нет регулярных соответствующих эквивалентных глагольных форм. Семантические особенности за-вершенного/незавершенного видов бурятских глаголов нивелируются при переводе на русский язык и передаются в русском контексте разнообразными средствами.
Описанные различия в видовых значениях русских и бурятских глаголов объясняют трудности, возникающие при изучении и употреблении видовременных форм русских глаголов бурятоязычными учащимися.
Довольно распространенными являются ошибки в русской речи учащихся-бурят, связанные с разным объемом значений слов в языках (с более узким или более широким значением сопоставляемых слов), с несовпадением значений слов в многозначных словах. Внеязыковая действительность отражается в разной степени дифференциации значений слов в различных языках. Так, например, в бурятском языке семантически объединяются и обозначаются одним глаголом движения те действия, которые в русском языке имеют разные наименования. Например: ябаха - идти, ехать, пойти, поехать. Одной из причин такого явления, по-видимому, является то, что бурятские глаголы движения по своей понятийной отнесенности обнаруживают большую степень обобщения, чем в русском языке. Значение таких глаголов конкретизируется в речи, при этом глагол приобретает более узкий объем контекстуального содержания. Многие бурятские лексемы с широким объемом значения менее расположены к развитию многозначности в отличие от соотносительных с ними в основных значениях русских глаголов движения. Например, бурятский глагол ерэхэ переводится следующими русскими глаголами: 1) приходить, приезжать, прибывать, являться, идти (сюда), направляться (сюда), приближаться; 2) перен. наступать, наставать (о времени, периоде).
Русский глагол идти имеет, согласно словарям, 26 значений, соответствующий ему в основных значениях бурятский глагол ябаха имеет 4 значения. Интересно то, что все многочисленные значения русского глагола идти тоже находят соответствие в бурятском языке, но передаются целой группой глаголов, лишь шести основным и переносным значениям его соответствует бурятский глагол ябаха.
Как показывает сопоставление, объем полисемии русского глагола идти больше объема полисемии соответствующего ему бурятского глагола ябаха, и наоборот, объем основного значения бурятского глагола ябаха шире русского глагола идти. Основное значение бурятского глагола ябаха включает в себя обозначение разных видов движения: идти (пешком) и ехать (на чем-то), имеющие в русском языке различные значения. Русские глаголы идти , ехать содержат в себе семы способа перемещения, соответствующий им бурятский глагол ябаха обозначает движение безотносительно к способу его совершения [1].
В русской речи учащихся-бурят встречаются также ошибки, вызванные неразличением семантики однонаправленности/неоднонаправленности, кратности движения. Например: В прошлом году я часто шел в поле (вместо ходил). Я сюда ходил сейчас пешком (вместо шел). Он много раз шел к нему (вместо ходил) [1].
Итак, рассмотренный в работе материал позволяет сделать следующие выводы. Интерфе-рентные ошибки, допускаемые студентами национальных групп при изучении русского языка, являются ценным материалом для методики преподавания русского языка. Их исследование полезно для теории и практики обучения языкам. То, что составляет трудности в изучении, обучении русскому языку, должно быть предметом научного описания. Мы затронули лишь часть вопросов в общей системе проблем преподавания русского языка как неродного.
-
З . В . Медведева . Этнокультурные образовательные технологии в гражданско-патриотическом воспитании будущих педагогов
В настоящее время уже есть возможность начать составлять учебники по русскому языку для носителей агглютинативного типа языков, например бурятского (монгольского), опираясь на имеющиеся теоретические сопоставительные исследования русского и бурятского, русского и монгольского языков [3].