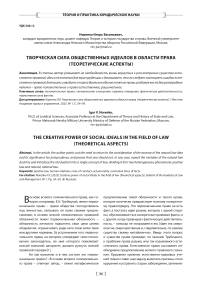Творческая сила общественных идеалов в области права (теоретические аспекты)
Автор: Норенко И.В.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 1 (82), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье автор указывает на необходимость вновь вернуться к рассмотрению существа естественно-правовой идеи и ее значения для юриспруденции и доказывает, что не следует повторять ошибки естественно-правовой доктрины и вводить старый дуализм в единое понятие права, разбивая его на два разнородных явления - право положительное и право естественное, рациональное.
Положительное право, человеческие отношения, правила поведения, фактическая действительность, нормативная сила фактов
Короткий адрес: https://sciup.org/14132917
IDR: 14132917 | УДК: 340.12
Текст научной статьи Творческая сила общественных идеалов в области права (теоретические аспекты)
Постараемся теперь разобраться в этих возражениях, сделанных позитивной теории права. Это тем более необходимо, потому что в наше время вновь обнаруживается у целого ряда ученых стремление более широко трактовать идею естественного права, хотя и в измененном виде.
Мнение, что сам внешний, общественный, авторитет заключается в праве предписывать обществу обязательные правила, и потому сам предполагает существование права, на котором он основан, верно, лишь постольку, поскольку дело касается организованной общественной власти, как, например, в государстве. Здесь само право носителя власти, законодателя издавать правовые нормы зиждется на законах, на конституции или установлено издавна обычным правом страны. Известно, например, что полномочия верховной власти в Англии и теперь основаны на обычном праве страны (commonlaw). Верно и то, что исторически всякая власть в обществе лишь тогда обращалась в общественном сознании в правомерную, когда ее фактическое господство и авторитет санкционировались правом. Таким на первых ступенях развития государства могло быть, конечно, только обычное право, как единственно действовавшее. Но мы и не говорим, что организованная власть является тем внешним авторитетом, от которого исходят или от которого получают свою обязательную силу нормы обычного права.
Государственная власть является таким источником лишь для юридических исходящих от нее самой норм, то есть законов. Нормы же обычного права исходят не от авторитета, правом созданного, а от фактически установившегося авторитета. Образование такого авторитета вовсе не обусловлено каким-либо правом. Авторитет – это то, перед чем мы преклоняемся, чему повинуемся, что уважаем. Этот авторитет может быть основан не только на предписаниях права, но на религиозных, моральных воззрениях или на чувстве уважения, вызванном экономической, интеллектуальной и часто даже физической силой лица или группы лиц.
Авторитет основателя религии, авторитет великого мыслителя, завоевателя, авторитет родителей в отношении к детям, авторитет кудесников, жрецов, авторитет так называемых мудрейших, добрейших, старейших людей в общественных союзах, авторитет касты, общественной группы образуется фактически в силу самых разнообразных причин. Он не предполагает непременно для своего образования существование юридических норм, предписывающих подчинение и признание этого авторитета. Право- вая санкция такого авторитета последовала уже позже и следующим образом: постоянное, хотя бы даже в силу страха, повиновение предписаниям фактически установившегося авторитета порождает в людях представление, что так и должно быть. Другими словами, авторитет, от которого исходят правовые нормы, сам основан на праве. Отсюда нормативная сила фактов, образующая убеждение в правомерности известного состояния.
Справедливо замечает Еллинек, что искать основание нормативной силы фактов в сознательной или бессознательной разумности было бы совершенно неверно. Фактическое может быть осмыслено позднее, но его нормативное значение заключается в первоначальном свойстве нашей природы, в силу которого уже совершенное, психологически и физически легче воспроизводится, чем новое [2].
«Для понимания развития права и нравственности это признание нормативной силы факта – говорит Еллинек, – имеет огромное значение. Приказаниям духовных или государственных авторитетов сначала повинуются из страха или по другим мотивам, и отсюда развивается представление, что часто повторенный приказ сам по себе, независимо от своего источника, в силу своей внутренней, обязывающей силы, является правилом, которому должно повиноваться, нравственной нормой».
Всякая императивная религиозная мораль основывает свои положения па том, что она представляет собой содержание воли безусловно признанного авторитета.
Обоснование древнееврейской этики гласит: «Ибо Аз есмь Господь Бог ваш».
Древнейшие религиозные формулирования этических норм всегда выражены в абсолютной форме: они снабжены санкциями, но не мотивами, их оправдание лежит в самом их бытии. Еще резче выделяется нормативный характер факта в возникновении права. У каждого народа правом вначале считается то, что фактически применяется, как таковое. Постоянное применение порождает представление о согласии фактического состояния с нормой, таким образом, сама норма рассматривается как авторитетное веление общественного союза, как правовая норма [2].
Еллинек находит в этом разрешение проблемы обычного права, Обычное право вытекает не из народного духа, не из убеждения в том, что нечто в силу своей внутренней необходимости представляет право, не из молчаливого акта воли народа, но возникает из общего психического свойства признавать нормой то, что постоянно повторяется в фактах. Вследствие такой нормативной силы фактов возникает наклонность признавать фактически существующий в данный момент социальный строй правомерным, хотя в частностях, здесь могут играть роль соображения полезности и справедливости. Каждый желающий его изменить, должен доказать, в чем заключается лучшее право. На нем, следовательно, лежит onusprobandi.
На этом основана, как говорит Еллинек, защита владения как фактически сложившихся отношений владения. Юридически ничтожный брак признается действительным вплоть до приговора, объявляющего его ничтожность; незаконно избранный депутат палаты считается законно избранным вплоть до вступления решения суда в силу. Обязанность доказательства (onusprobandi), лежащая на жалобщике в процессе, также основана на общем принципе, что существующее фактическое отношение предполагается правомерным. (Мы должны, однако, заметить, что в указываемых Еллинеком случаях защиты владения, ничтожности брака, избрания депутата и onusprobandi жалобщика в процессе играет роль не столько нормативная сила факта, сколько целый ряд соображений полезности и процессуальной целесообразности.) То же происходит при обсуждении вопроса о правомерности состояния, возникшего в силу политического переворота.
В международном праве фактическое обладание властью узаконивает внешнее представительство государства [2]. Для государства это основное понимание нормативной силы фактически сложившихся отношений имеет огромное значение. Оно дает ключи к пониманию различия между написанной конституцией и действительной жизнью государства, то есть фактическим государственным строем, заключающемся в действительном распределении власти. Поскольку право является компромиссом различных интересов, в основе правопорядка лежат фактические отношения, которые находят в нем свое выражение.
Мы видим из этих замечаний [3], как фактические отношения порождают соответственные нормы, правила долженствования и, следовательно, как фактическое господство авторитета превращается в юридическое. Но Еллинек сам замечает, что в задачи его не входить более подробное рассмотрение проблемы обычного права, а именно важного вопроса, каким образом нормы обычного права являются авторитетной волей [2]. Выше мы пытались указать, как это происходит, и пришли к убеждению, что нормы обычного права, как и вообще право, являются приказом, выражением воли внешнего авторитета. Но в обычном праве этим внешним авторитетам является фактически господствующая группа членов общественного союза, коллективная воля членов которой, как общественная сила, подчиняет себе волю всех членов этого союза.
Устанавливающая право воля принимает в истории самые разнообразные формы; например, воля первосвященника, главы племени какой-нибудь касты, корпорации, неопределенной массы лиц, как в обычном праве, или воля так или иначе организованной государственной власти [4].
Но если право выражает внешне авторитетную волю, ее приказы, направленные на регулирование отношений подчиненных ей лиц, то, как примирить с этим современное воззрение на право, находящее себе несомненное выражение и в действительной жизни, что право обязательно не только для подвластных, но и для властвующих [5]. Другими словами, что сама государственная власть должна действовать не произвольно, a правомерно и, следовательно, находить в праве свое определение и ограничение.
Прежде, когда на право смотрели, как на выражение воли божества (таково и древнегреческое воззрение на закон) или как на священный завет предков, то есть приписывали его происхождение авторитету, возвышающемуся не только над подвластными, но и над властвующими, обязанность последних повиноваться этому священному праву вытекала сама собой. Когда же воззрение на право отрешилось от всякой теократической окраски, то, естественно, правовое учение выдвинуло идею возвышающегося над всяким положительным правом, независимого от человеческой воли, вечного, неизменного права естественного и идею неотчуждаемых естественных прав человека. Всякое положительное право, как и сама государственная власть, являлись результатом договора свободных личностей и договорного подчинения власти [6].
Обязанность соблюдать право основывалась па договоре между подданными и властителем. Но и в эту пору целый ряд писателей утверждает, что, хотя властитель ограничивается естественным правом, но стоит выше положительного права, законов, им самим издаваемых. Когда учение о естественном неизменном и вечном праве пало, в конституционной доктрине еще долго удерживалось воззрение, что конституция, основные законы, на которых основаны полномочия верховной власти, представляют результат договора между двумя самостоятельными субъектами, правительством (монархом) и народом и, следовательно, обязательно должны быть соблюдаемы обеими сторонами. Это воззрение находило себе фактическую опору в тех постоянных компромиссах и договорах, которые заключались между королевской властью и представителями сословий в средние века и даже позднее, в период революционных движений. С другой стороны – в весьма распространенной еще со времени средних веков идее народного суверенитета, в силу которой народу принадлежит всегда контроль над осуществлением верховной власти. Когда этот дуализм в понимании государственного властвования как отношения двух противостоящих субъек- тов – народа и правительства – нашел себе, наконец, объединение в формальном понятии единой юридической личности государства, властвующей суверенно и по собственному праву над всеми элементами, входящими в ее состав, для объяснения обязательности права для самой правотворческой государственной власти было выдвинуто новое учение о юридическом самоограничении, самообязывании государственной власти, нашедшее себе со времени Иеринга много сторонников в юридической литературе. Позднее это воззрение особенно энергично защищалось Еллинеком во всех его трудах. Но такое самообязыва-ние не может быть юридическим, так как право, исходящее от государства как юридической личности, является для него не властной, внешней нормой, а его собственной, субъективной нормой; потому для самой личности государства такие нормы, основанные исключительно на принципе автономии государственной воли, имеют не юридически характер, не характер властных приказов, а характер нравственного самоограничения, представляют собой не юридические границы государственной власти, а нравственные. На это указывают Еллинеку большинство ученых в области публичного права [7].
С нашей же точки зрения идея юридической личности государства влечёт за собой признание, что право, как выражение воли, этой личности, обязательно для всех членов государства, ему подчинённых. Сами властвующие являются членами государства, а потому воля государства, выражающаяся в законах, обязательна и для них, какое бы высокое положение они не занимали; насколько же властвующие действуют правомерно, они – органы государства и не могут быть отдалены от самого государства. Государство, понимаемое в качестве юридической личности, является непременно результатом известной правовой организации, то есть является настолько личностью, насколько обладает единством и волей организованными правом. Поэтому государство не может действовать иначе и иначе выражать свою волю, как согласно с правом или в форме права, иначе это не будет воля государства, а частная воля тех или других личностей в государстве, юридически ни для кого необязательная. Глава государства, палаты, суд, администрация, нарушающие закон, являются не выразителями воли государства, действуют не как его органы, а как частные лица или как совокупность частных лиц, воля которых, насколько она противоречит законам и праву, юридически недействительна или даже преступна [8]. Примеры подобных правонарушений в области государственного права весьма частые и многочисленные. Многочисленны и примеры, что такие неправомерные акты находили себе фактически такое же подчинение, как и правомерные, но это вопросы факта, которые не ослабляют высказанного нами выше юридического начала, что действие представителя власти, нарушающего законы государства, не может считаться в современном правовом государстве действием органа государства и выражением государственной воли. Но при этом нужно иметь в виду сказанное нами выше о нормативной силе фактов, в силу которой факт постепенно может получить юридическую санкцию, то есть может образоваться убеждение в правомерности фактического состояния. Такую правовую санкцию получили, как известно и те насильственные изменения, и нарушения действующего правового строя, которые были вызваны даже революциями, не говоря уже о менее крупных нарушениях правового строя.
Во всяком случае, оттеняя этот властный характер правовых норм, мы нисколько не желаем ослабить их нравственные устои и назначение, а также не желаем ослабить творческую силу общественных идеалов в области права. Право тем больше будет приближаться к своему идеалу и соответствовать своему назначению, чем более эта нормативная сила будет руководствоваться нравственными принципами и теми требованиями развивающегося общественного сознания, которые предъявляются к правотворческой власти. И лишь тогда мы могли бы согласиться с формулой, что право – регулируемый сообразно со справедливостью механизм общественных отношений [9; 10].
Нравственные основы общественной жизни и соответствие права общественному сознанию являются высшей гарантией действия правовых норм и силы государственной власти.
Взаимодействие права и общественных идеалов справедливости ярко выражено С.А. Муромцевым.
«Когда – говорит С.А. Муромцев, – в обществе происходит брожение сил и идей, когда зарождается новый порядок на смену старому, тогда вопрос о праве и справедливости играет в общественном сознании первенствующую роль; в противоположности этих двух понятий, справедливости и права, общественное сознание воплощает то двойственное состояние, которое оно переживает. Право есть порядок действительный, справедливость – порядок желательный: право все знают и его действие испытывают на себе как реальный факт, к справедливости стремятся как к идеалу. Но вот стремления увенчиваются успехом и идеальное становится реальным. Справедливость становится правом... Противоположность справедливости и права теряет свое значение; борьба заменяется миром и вместо двух борющихся противоположностей получается одно право,гармонирующее с требованиями вчерашней справедливости» [11].
Этот процесс взаимодействия и противопоставления общественных идеальных требований справедливости праву как положительному порядку повторяется непрерывно в истории развития правовой жизни не только потому, что не может быть полного соответствия между потребностями и идеалами общества и положительным правом, но и потому, что, вообще говоря, право представляет собой до известной степени консервативное начало и часто отражает в себе архаические пережитки прошлого, не соответствующе современным условиям жизни и этическим воззрениям данного общества или отдельных его классов [12]. Это несовершенство положительная права, его несоответствие общественным требованиям и этическими воззрениям отдельных личностей или целых классов является одной из главнейших причин образования идеи естественного права. Но нет необходимости подводить этот процесс под знамя «возрождения естественного права». Здесь спор не о словах только, так как одновременное подведе- ние под понятие права всякого рода этических общественных требований и субъективных убеждений, властных, общеобязательных норм, которые в обществе в силу своего своеобразного характера выделились в особую группу норм, всегда признавались правом, может привести к путанице представлений в науке права, которая до сих пор не может похвалиться ясностью и общепризнанностью даже основных своих понятий.
Для того, чтобы называть общественные воззрения и требования, предъявляемые к правотворческой власти, правом, хотя бы естественным, существующим наравне с общепризнанным позитивными правом, нужно доказать, почему же именно такие требования являются правом, какие у них содержатся отличительные признаки, дающие возможность называть их правом, а не нравственными, политическими и тому подобными воззрениями.