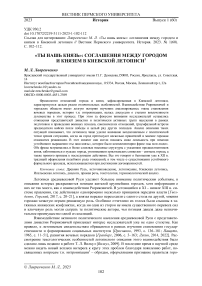"Ты нашь князь": соглашения между городом и князем в Киевской летописи
Автор: Лавренченко М.Л.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Киевский летописный свод рубежа XII-XIII вв.: проблемы источниковедения
Статья в выпуске: 1 (60), 2023 года.
Бесплатный доступ
Фразеология отношений города и князя, зафиксированная в Киевской летописи, характеризуется целым рядом отличительных особенностей. Взаимодействие Рюриковичей и городских обществ имеет долгую историю изучения: анализировались этапы становления вечевых порядков, история т.н. интронизации, велась дискуссия о степени вовлеченности духовенства в этот процесс. При этом за фокусом внимания исследователей оставались отношения представителей династии и политически активных групп населения в рамках подготовки и проведения военных походов, союзнических отношений, триумфальной встречи предводителя войска после победы и целый ряд других эпизодов. Анализ описания таких ситуаций показывает, что летописец чаще уделял внимание неоднозначным с политической точки зрения ситуациям, когда на город претендуют несколько правителей и мнение горожан становится решающим. В этот момент они могли показать свою лояльность при помощи устойчивого выражения «ты наш князь», которое было комплементарно фразе «вы мои люди». Обе фразы встраивались в более сложные языковые структуры с указанием предшественников князя, заботившихся о нуждах города, упоминанием христианских символов - святынь города, а также прямого призыва к последующим действиям. Все это говорит о бытовании уже в XII в. традиций оформления подобного рода отношений, в том числе о существовании устойчивого формульного арсенала, использовавшегося при достижении договоренностей.
Древняя русь, источниковедение, летописание, киевская летопись, ипатьевская летопись, диалоги, прямая речь, текстология, терминологический анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/147246459
IDR: 147246459 | УДК: 930.2 | DOI: 10.17072/2219-3111-2023-1-102-112
Текст научной статьи "Ты нашь князь": соглашения между городом и князем в Киевской летописи
Летописи средневековой Руси уделяют большое внимание политическим событиям, в описании которых раскрываются позиции жителей крупнейших городов, хотя информации о них не так много, как о взаимодействии Рюриковичей. В устоявшейся в XI – начале ΧΙΙI в. системе правления, где действовало одновременно несколько принципов передачи власти [ Гвоз-денко , Горский , 2017, с. 20–21], а князья нередко переходили с одного стола на другой, мнения горожан зачастую играли решающую роль. Особенно отчетливо их голоса были слышны в затяжных княжеских конфликтах, когда ни одна из сторон не имела существенного перевеса сил и ключевую роль могли сыграть те политические акторы, чья позиция давала даже незначительное преимущество одной из коалиций.
Взаимодействие активного политического населения средневековой Руси с представителями династии Рюриковичей привлекает интерес исследователей уже не одно столетие. Как правило, к летописным свидетельствам обращаются в рамках изучения становления государственности и формирования социальных институтов [ Пресняков , 1993, с. 136–181; Пашуто , 1965, с. 11–51], развития вечевых порядков [ Гранберг , 2006, с. 3–163; Лукин , 2014, 2022]. Рассмотрение текстологических особенностей летописного описания этого взаимодействия было сделано лишь недавно в работе Т. Л. Вилкул [ Вилкул , 2009]. В последнее время в научной среде можно видеть новый всплеск интереса к кругу этих проблем благодаря появлению работ, посвященных вопросам т.н. интронизации2 – обрядам, оформлявшим признание правителя горо-
жанами [ Poppe , 2007 (1986), с. 190a–191a; Толочко , 1992, с. 139–149; Андрощук , 2003; Гвозден-ко , 2009; Vukovich , 2013, 2015, 2018; Артамонов , 2021; Виноградов , 2021; Кежа , 2021].
Большая часть сведений о взаимодействии города и князя, которые представлены в Киевской летописи (КЛ)3, содержатся в ее уникальных пластах, отсутствующих в Суздальской летописи (СЛ)4 и характеризующихся подробностью повествования [ Вилкул , 2009, с. 30–35, 56; Вил-кул , 2019, с. 264–267]. Эти уникальные известия Киевской летописи по многим параметрам выглядят частями цельного повествования, что, на наш взгляд, позволяет предположить единство их общего источника, скомбинированного в конце XII в. с текстом, общим с СЛ5. Хотя его тематика преимущественно касается событий южной Руси, авторы в деталях раскрывают то, что происходило в Новгороде, Суздале, Полоцке и других городах. Одной из наиболее ярких особенностей этого текста является обилие «речей», которыми летописец называет послания и живые диалоги политических деятелей: князей, горожан, дружинников. Понятно, что такие «речи» не могли быть записаны непосредственно на месте событий, а содержат более или менее точный пересказ с сокращениями или, наоборот, дополнениями.
Если «речи» князей КЛ неоднократно рассматривались в отечественной науке [ Франчук , 1986, с. 117–154; Дашкевич , 1991; Гимон , 2018; Guimon , 2021, с. 341–359], то словам горожан, попавшим в летопись, было незаслуженно уделено значительно меньше внимания. При этом описательные характеристики взаимодействия города и представителей династии пользуются постоянной популярностью у исследователей, интересующихся вечевыми порядками.
Как уже было сказано, один из ключевых вопросов, вызвавших немалые дискуссии в последние годы, касается княжеской интронизации, ее эволюции и степени вовлеченности в этот процесс духовенства. Хотя так или иначе им задавались многие ученые XIX–XX вв., современный виток научного спора начался с доклада Анджея Поппэ на XVII Международном конгрессе византинистов в 1986 г., в котором он высказал ряд предположений о том, как была оформлена процедура вокняжения правителя в средневековой Руси [ Poppe , 2007 (1986), с. 190a–191a], всколыхнув интерес к этому вопросу. Среди российских ученых особую популярность получила работа К. С. Гвозденко, в которой исследовательница не только рассматривает все случаи, которые можно встретить в летописях домонгольского периода, но и чрезвычайно подробно разбирает каждое известие. В процедуре интронизации она выделяет несколько этапов: встречу князя народом (в некоторых случаях на ней присутствуют и представители духовенства), обед – пир, посещение князем кафедрального собора и посажение его на столе (без упоминания о специфических действиях церковного иерарха). В текстах, повествующих о вокняжениях Игоря Ольго-вича в 1146 г., Ярополка Ростиславича в 1175 г. и Всеволода Юрьевича в 1177 г. упоминается о договоре правителя с городом, что исследовательница связывает с передачей власти в первом случае и конкуренцией в «условиях междоусобной войны» во втором и третьем [ Гвозденко , 2009, с. 26–27]. Рассматривая известия XII в., она выделяет этапы эволюции обряда интронизации, в целом считая, что известия КЛ довольно точно отражают изменения, происходившие в действительности. Исходя из логики летописных сообщений К. С. Гвозденко фиксирует первое посещение правителем кафедрального собора при интронизации – это получение Изяславом Мстиславичем княжеского стола, описанное в статье 1146 г. КЛ [Там же, с. 26–27].
Выводы исследовательницы были поддержаны и дополнены А. Ю. Виноградовым [ Виноградов , 2021], который отметил новации в обряде интронизации Изяслава Мстиславича, связанные с усилением церковного начала в церемонии. В ответ на них соперник князя Юрий Долгорукий, вероятно, ориентируясь на византийский образец, вводит в обряд благословение нового князя митрополитом. В целом, как пишет А. Ю. Виноградов, новации, введенные Изяславом Мстиславичем в 1146 г., были переняты и развиты Мстиславичами и другими Мономаховича-ми [Там же, c. 60–61].
Текстологические основания работы К. С. Гвозденко были подвергнуты критике Ю. А. Артамоновым [ Артамонов , 2021], который справедливо отметил, что «молчание летописных текстов о посещении соискателем соборного храма не может служить основанием для отрицания совершения церковного обряда». Кроме того, исследователь обращает внимание на «некритическое использование летописной хронологии» [Там же, c. 16–17] и предлагает вернуться к теории А. Поппэ о том, что обряд вокняжения сопровождался церковным благословением на власть уже в XI в.
В настоящей статье нам хотелось бы осветить ряд вопросов, связанных с текстологическим аспектом описания этого обряда в КЛ. Как можно видеть, камнем преткновения стали обширные летописные статьи, описывающие события середины 1140-х – начала 1150-х гг., в которых впервые появляется подробное описание встречи Изяслава Мстиславича горожанами и духовными лицами, посещение князем Св. Софии и посажение его на столе. Первым из них в летописи приводится рассказ о въезде Изяслава в город сразу после записи о начале его княжения: «Изяславъ же, възрѣвъ на нѣбо и похвали Бога и силу животворящаго креста о таковои помощи его, с великою славою и честью въѣха в Киевъ, и выидоша противу ему множество народа: игумени съ черноризьци, и попове всего города Киева в ризахъ, и приѣха къ святои Софьи, и поклонися святои Богородици и сѣде на столѣ дѣда своего и отьца своего» (ПСРЛ, т. 2, 1998, cтб. 327).
Как справедливо отметил Ю. А. Артамонов, в этом рассказе не только впервые говорится об участии духовенства в торжественной встрече князя, но и сообщается множество других деталей, характеризующих взаимодействие города и князя, так что появление впервые в тексте летописи новых подробностей может быть связано не с реальными историческими новшествами, а с тем, что поменялся характер изложения. Однако, как отметила К. С. Гвозденко, описание вокняжения предыдущего князя Игоря Ольговича ничуть не менее подробно, хотя в нем ничего не говорится об элементах, связанных с церковью. Это можно объяснить тем, что подробности рассказа о том, как Игорь становился киевским князем, касаются исключительно его переговоров с горожанами и целования креста обеими сторонами.
В разнице этих двух описаний проявляется и различие исторических ситуаций: Игорь был поставлен своим братом6, Изяслава же, по мнению летописца, пригласили сами горожане. Поэтому в первом случае подробности касались переговоров, которые проходили уже после смерти Всеволода, воля которого теперь не довлела над горожанами, тогда как во втором летописцу было важно показать всеобщность ликования в городе по поводу победы Мстиславича – его триумфальное появление в Киеве предваряется сообщением о том, как князь благодарит высшие силы за победу.
Атрибуты торжественного въезда князя в город в КЛ не ограничиваются т.н. интронизацией и часто встречаются в летописях сами по себе. Так, например, летописец отмечает, что галицкий князь Владимир Володаревич по приезде в Киев в составе коалиции Юрия, посетил основные святыни Киевской земли: «И ѣха Володимиръ Вышегороду къ святыма мученикома поклониться, и тако поклонився святою мученику, и приѣха къ святои Софьи и оттуда ѣха ко святѣи Богородици Десятиньнѣи, и оттуда ѣха къ святои Богородици Печерьскои манастырь» (ПСРЛ, т. 2, 1998, cтб. 403). Это не только паломничество, но также и торжественное движение князя к столице в составе коалиции победителя, благодарящего высшие силы. Посещение известных храмов и поклонение мощам и могилам предков встречаются в летописях в самом разном контексте, в том числе в описании личных клятв. Например, после проведения обряда между Изяславом Мстиславичем и Вячеславом Владимиричем Изяслав поклоняется мощам Бориса и Глеба: «Изяславъ же поклонився святыма мученикома и отьцю своему Вячеславу» (Там же, cтб. 399).
Когда Юрий Владимирич приехал в Переяславль, жители которого перешли на его сторону, то посетил храм Архангела Михаила: «Хваля и славя Бога вниде в Переяславль и поклонився святому Михаилу» (Там же, cтб. 383), хотя его путь лежал далее в Киев, где он и сел на столе. КЛ описывает пышную встречу Ростислава Мстиславича смолянами в статье 6676 (1168) г. незадолго до смерти князя: «Ростиславъ… иде Смоленьску и начаша и срѣтати лутшии мужи смолняны за 300 верстъ, и затѣмь усрѣтоша и внуци, и затѣмъ усрѣте и сынъ Романъ, и епископъ Мануилъ, и Внѣздъ, и малѣ не весь градъ изиде противу ему, и тако велми обрадовашася вси приходу его, и множьство даровъ подаяша ему» (Там же, cтб. 528). Ростислав считается родоначальником смоленской династии и уже длительное время правил там, кроме того, в этот период он был киевским князем, что не помешало смолянам устроить князю такой пышный прием.
Получается, что элементы т.н. интронизации имели самостоятельное значение и представляли собой инструментарий более широкого политического взаимодействия. Важно различать собственно действия церемониального характера, сопутствующие вокняжению Рюриковича как правителя определенной земли, и соглашения князя и города как двух равноправных по- литических акторов. Разумеется, в реалиях описываемых событий эти практики могли пересекаться, как в случае с Игорем Ольговичем, который был вынужден дополнительно договариваться с киевлянами и целовать им крест, так как деcигнация, которую попытался осуществить его брат Всеволод, не была принята в средневековой Руси, а сам Игорь в нарушение традиций был назван киевским князем еще при жизни своего предшественника.
Наиболее яркие элементы соглашений между правителем и городом можно видеть и в последующем оригинальном тексте КЛ, повествующем о событиях XII в. Как уже отмечалось, одна из характернейших его особенностей – обилие «речей», которыми обмениваются действующие лица. Среди фраз, которые Рюрикович мог услышать от горожан, в КЛ довольно часто можно видеть словосочетание «ты нашь князь». На него обратила особое внимание в своей статье К. С. Гвозденко, предполагая, что оно было частью процедуры интронизации. Действительно, эта фраза присутствует в «речах» киевлян и Игорю Ольговичу, и Изяславу Мстиславичу в статье 1146 г. Исследовательница предполагает, что аналогичные слова произносились при «прославлении» Всеслава в 1068 г. и повторялись в момент провозглашения претендента князем на княжеском дворе [ Гвозденко , 2009, c. 34]. Эти слова, как отмечает К. С. Гвозденко, – прямой аналог церемонии, описанной Козьмой Пражским в его «Хронике»: Яромир возводит на трон своего племянника Бржетислава со словами «Ecce dux vester!», что в переводе на русский звучит действительно похоже: «Вот ваш князь!» ( Козьма Пражский , 1962, c. 96). Разница, однако, состоит в том, что Козьма Пражский в своем описании подчеркивает роль дяди новоявленного князя Бржетислава, Яромира, который руководит процедурой и произносит ключевую фразу, горожане только отвечают: «Кирие элейсон!» (начало молитвы: «Господи, помилуй»). В случае же вокняжения Изяслава в КЛ фразу «ты наш князь» произносят не только киевляне, которые упоминаются в последнюю очередь, но и все союзники князя, принявшие решение поддерживать именно его, а не Игоря. Любопытно, что фраза «Кирие элейсон!», упомянутая в «Хронике» Козьмы Пражского, также встречается в КЛ несколько раз по случаю победы князя и его коалиции. Например, когда киевляне узнают, что Изяслав Мстиславич жив после битвы на реке Руте: «И то слышавше мнози, и въсхытиша и руками своими с радостью яко цѣсаря и князя своего, и тако възваша: “кирелѣисанъ!” вси полци, радующеся полкы ратныхъ побѣдив-ше, а князя своего живого ведяче» (ПСРЛ, т. 2, 1998, cтб. 439). Тот же возглас летопись приводит при описании удачной обороны Звенигорода от войска Всеволода Ольговича: «…И възваша “кури иелисонъ” с радостью великою хваляще Бога и пречистую его матерь» (Там же, cтб. 320).
Для изучения соглашений князя и города важно сказать несколько слов о договорах между самими Рюриковичами, фразеология которых также нашла отражение в их «речах», представленных в КЛ. Эти «речи» содержат целый ряд устойчивых сочетаний, призванных подчеркнуть готовность участвовать в военных столкновениях на стороне союзников, таких как: «намъ быти за одинъ» (Там же, cтб. 374), «не отлучитися ни в добре, ни в зле» (Там же, cтб. 418, 452), «быти за обиду» (Там же, cтб. 420). Часто данные формулировки подчеркивают взаимный характер соглашения: «кде твоя обида будеть – а намъ быти с тобою», «кто мнѣ ворогъ – то и тобѣ ворогъ» (Там же, cтб. 420, 701)7. Такие устойчивые сочетания могли использоваться в составе кратких реплик, как в словах Изяслава Давыдовича Изяславу Мстиславичу: «Кде твоя обида будеть – а намъ быти с тобою» (Там же, стб. 367), а могли быть значительно расширены, как в послании Изяслава Мстиславича и Вячеслава Владимировича Гезе II: «Но аче твоя обида кде – а нама даи Богъ ту самѣмъ быти за твою обиду или пакы братьею своею, или съ сынъми своими и полкы своими» (Там же, стб. 420).
Выражение «ты нашь князь» и языковые конструкции, в составе которых оно используется в КЛ, близки и некоторым семантически перформативным выражениям княжеских «речей», содержащим термины родства, например, в словах Вячеслава Владимировича Святославу Всеволодичу: «Ты еси Ростиславу сынъ любимыи, тако же и мнѣ – а поеди сѣмо ко мнѣ» (Там же, стб. 470); в ответе Вячеслава и Изяслава Юрию «ты намъ братъ еси – поиди же въ свои Суждаль» (Там же, стб. 443), дважды в «речах» Изяслава Вячеславу: «Ты ми еси отьць – а се ти Киевъ», «ты ми еси отьць, а Кыевъ твои – поѣди во нь» (Там же, стб. 399).
В перечисленных эпизодах эти краткие выражения с терминами родства оказываются продолжены призывом к конкретным действиям, в чем проявляется их перформативный характер, то же самое касается и высказывания «ты наш князь» в посланиях горожан к правителю8.
Прежде всего мы видим это устойчивое выражение в обещании киевлян принять Игоря Ольго-вича после смерти Всеволода: «Они же вси цѣловаша к нему крьстъ, рекуче: “ты намъ9 князь” и яшася по нь льстью», а затем – в послании тому же Игорю через Святослава Ольговича: «Братъ твои князь10 и ты» (Там же, стб. 320–322).
Спустя некоторое время киевляне меняют свое решение и принимают в качестве князя Изяслава Мстиславича, и та же формула звучит в их обращениях к новому князю. Она же содержится в посланиях к нему от других городов и от черных клобуков: «...И ту прислашася к нему чернии клобуци и все Поросье и рекоша ему: “Ты нашь князь, а Олговичь не хочемъ, а поѣди в борзѣ, а мы с тобою”... прислашася к нему бѣлогородьчи и василевци, тако же рекуче: “Поиди – ты нашь князь, а Олговичь не хочемъ”… приѣхаша от киянъ мужи, нарекуче: “Ты нашь князь – поѣди, [в Хлебниковском списке добавлено: а у] Олговичь не хоцемъ быти акы в задничи. Кде узримъ стягъ твои – ту и мы с тобою готови есмь”» (Там же, стб. 323).
Во всех «речах» интересующее нас выражение «ты нашь князь» имеет продолжение: пояснение причин, вызвавших это призвание, выражение готовности к действиям, призыв к действиям. Частично эти фразы повторяются почти дословно: «а мы с тобою» и «кде узримъ стягъ твои – ту и мы с тобою готови есмь» (они близки стандартным формулам соглашений между Рюриковичами: «с тобою быти», «по одному мѣсту быти» (Там же, стб. 451, 418)). Повторяющиеся фразы, выражающие недовольство десигнацией Игоря: «а Олговичь не хочемъ (быти акы в задничи)», обусловлены тем, что в данный момент выбор стоит между Мстиславичами и Ольговичами.
Далее в повествовании КЛ описывается развитие конфликта, в котором на Киев претендуют два князя из линии Мономашичей: Изяслав Мстиславич и Юрий Владимирич. Разные города используют словосочетание «ты нашь князь» в посланиях к каждому из претендентов – в зависимости от собственных предпочтений.
В «речах» киевлян Изяславу Мстиславичу эта фраза почти всегда бывает дополнена конкретизацией действия, в том числе и в статье 6658 (1150) г., где упоминается Собор Святой Софии: «кияне же рекоша Изяславу: «Ты нашь князь – поѣди же къ Святои Софьи, сяди на столѣ отьца своего и дѣда своего» (Там же, стб. 397). Упоминания Св. Софии, отца и деда Изяслава здесь – детали, украшающие и конкретизирующие «речь» горожан. Они полностью повторяют описание книжником первого въезда Изяслава в Киев в 1146 г., столь существенное в дискуссии об интронизации: «Приѣха къ Святои Софьи… сѣде на столѣ дѣда своего и отьца своего» (Там же, стб. 327). Общая фразеология этих эпизодов служит усилению идеи преемственности.
Но если киевляне предлагали Изяславу сесть на столе отца и деда, то новгородцы и псковичи используют их имена в своем торжественном ответе на речь князя, лично приехавшего в Новгород: «Ты нашь князь, ты нашь Володимиръ, ты нашь Мьстиславъ, ради с тобою идемъ своихъ дѣля обидъ» (Там же, стб. 370). Этому обращению новгородцев исследователи уделяют большое внимание [ Литвина , Успенский , 2006, с. 362; Вилкул , 2009, с. 220; Лукин , 2022, с. 88– 95]. Т. Л. Вилкул отмечает, что их слова к Изяславу стилизованы под текст «Александрии» и формулировки речи римлян из «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия [ Вилкул , 2009, с. 220]. П. В. Лукин рассматривает обращение новгородцев и псковичей как использование ин-тронизационной формулы в контексте аккламации «сюзерена и военного вождя» по аналогии с сообщением Летописца Переяславля Суздальского (ЛПС), где содержится обращение переяс-лавцев к Ярославу Всеволодичу: «Ты нашь господинъ, ты Всеволод»11 [ Лукин , 2022, с. 89]. Однако, в отличие от ЛПС, КЛ показывает «речи» князя и горожан как часть тожественной встречи союзников перед походом, описание которого следует далее: «И тако поидоша новгородци съ Изяславомъ всими силами своими, и пльсковицѣ, и корѣла» (ПСРЛ, т. 2, 1998, стб. 370)12. Контекст подготовки военного похода подхватывается в ответе новгородцев и псковичей князю: «Ради с тобою идемъ», близком словам черных клобуков и киевлян тому же князю: «А мы с тобою», «с тобою готови есмь» (Там же, стб. 323).
В КЛ приезд Изяслава Мстиславича в Новгород является частью канвы повествования о развертывании конфликта между ним и Юрием Владимиричем. Однако сам Изяслав никогда не занимал новгородский стол, здесь правил его сын Ярослав, который и встречал отца вместе с новгородцами. Поэтому приезд Изяслава не может рассматриваться как восшествие на престол – это встреча лидера коалиции, организовавшего поход на земли Юрия в отместку за нанесенный им, новгородцам, ущерб, что также четко обозначается в речи князя: «Се, братье, сынъ мои, вы прислалися есте ко мнѣ, оже вы обидить стрыи мои Гюрги – на нь есмь пришелъ сѣмо, оставя Рускую землю вас дѣля и ваших дѣля обидъ» (Там же, стб. 370). Последнее выражение тоже повторяется в ответе горожан: «Идемъ своихъ дѣля обидъ». В таком контексте имена отца и деда Изяслава в этом ответе не только подчеркивали преемственность, но и служили дополнительным напоминанием о необходимости защиты интересов Новгорода и Пскова, что входило в круг обязанностей Владимира Мономаха и Мстислава Великого. Под термином «князь», как и в ряде близких ситуаций, здесь подразумевался глава коалиции и предводитель войска, а не локальный правитель. Схожие случаи персонификации при помощи упоминания ближайших старших родственников в обращении можно также видеть в Галицко-Волынской летописи, где Мстислав Данилович говорит Владимиру Васильковичу: «Ты же ми брать, ты же ми отьць мои, Данило король» (Там же, стб. 912).
Возвращаясь к дальнейшим отношениям Изяслава и жителей Киева, летописец показывает ситуацию, когда киевляне понимают, что не в силах оказать князю поддержку и договариваются с ним, обещая лояльность в будущем: «Не погуби нас, ни самъ не погыни, но ты нашь князь, коли си(ле)нь будеши – а мы с тобою, а ныне… поѣди прочь» (Там же, стб. 401). Здесь автор показывает, что в тех же фразах союзниками мыслилась стратегия поведения на будущее.
В один из напряженных моментов противостояния жители Переяславля, лояльные Юрию Владимиричу, оказались в большинстве, и город оказал ему поддержку: «И бысть лесть въ переяславцехъ, рекуче: “Гюрги намъ князь свои, того было намъ искати и далече”» (Там же, стб. 382). Здесь интересующая нас формула представлена не в диалоге между политическими акторами, а как консенсус городского ополчения. Показательно, что, произнося ее, переяслав-цы подразумевали княжение не самого Юрия, а одного из его сыновей, т.е. под словом «князь» снова понимается глава коалиции.
Позднее Юрий Владимирович обращается к белгородцам, стоя у стен города, но они отказывают ему в содействии. Эти диалоги интересны тем, что здесь формула «князь наш N» используется как отказ конкуренту: «Гюргии же… рече бѣлогородьцемъ: “Вы есте людие мои, а отворите ми градъ!” Бѣлогородьци же рекоша: “а Киев ти ся кое отворилъ, а князь нашь Вячьславъ, Изяславъ и Ростиславъ!”» (Там же, стб. 433). Т. Л. Вилкул обратила внимание на то, что здесь употреблено единственное число, причиной чему могло служить редакторское добавление двух других князей: Вячеслава и Ростислава [ Вилкул , 2005, с. 49]. Но, может быть, причина ошибки в том, что словосочетание «N нашь князь» было устойчивой формулой именно с использованием единственного числа – ранее летописец также избегал множественного числа при ее написании, например: «Братъ твои князь и ты» (киевляне о Игоре и Святославе Ольго-вичах) (ПСРЛ, т. 2, 1998, стб. 320–321).
На первый взгляд, начало «речи» Юрия: «Вы есте людие мои…» - не отличается от множества других речевых оборотов, однако можно предположить, что это также устойчивое словосочетание, комплементарное рассмотренному «ты наш князь» и аналогичным образом показывающее отношение коллективного актора (например, горожан) к представителю династии. В случае с белгородцами это сочетание приводится с казуальным окончанием, призывающим к действиям: «Вы есте людие мои – а отворите ми градъ!», как и в послании киевлян к Изяславу: «Ты нашь князь – поѣди!» (Там же, стб. 397, 476). Любопытно, что и сам Изяслав использовал похожие словосочетания при обращении к горожанам, например, при переговорах с жителями Дорогобужа: «Вы есте людие дѣда моего и отьца моего, а Богъ вы помози!» (Там же, стб. 410). В словах Изяслава присутствует расширение устойчивого словосочетания «вы мои люди» с упоминанием отца и деда князя. Тот же прием использовали новгородцы, когда обращались к нему: «Ты нашь Володимиръ, ты нашь Мьстиславъ».
То, что две рассмотренные формулы составляют устойчивую пару, использовавшуюся при взаимодействии князей и коллективных акторов, подтверждает и повествование КЛ о конфликте Ростислава Глебовича и Рогволода Борисовича в Полоцке. Горожане обещали Ростиславу: «Ты намъ князь еси, и даи ны Богъ с тобою пожити», - но затем посылают к Рогволоду со словами: «Княже нашь, съгрѣшили есмь к Богу и к тобѣ… да аще ны не помянеши всего того… и хрьстъ к намъ цѣлуеши, то мы людие твое, а ты еси нашь князь» (Там же, стб. 494– 495)13. Обращают на себя внимание повторы «княже нашь», «ты еси нашь князь» в одной фра- зе, подчеркнутое внимание к требованиям обеих сторон: горожан и представителя династии, перечисление выдвинутых условий, двусоставная структура самого предложения – все эти особенности характерны для княжеских договоров КЛ.
Близкое выражение мы можем видеть в повествовании о попытке Владимира Андреевича въехать в Червень: «Подъѣха Володимиръ подъ городъ и нача молвити: “Я есмь не ратью при-шелъ к вамъ, зане есте людие, милии отьцю моему, а язъ вамъ свои княжичь – а отворитеся!” И одинъ с города потягнувъ стрѣлою удари [в Хлебниковском списке: его] в горло» (Там же, стб. 487). Здесь также князь апеллирует к связи города со своим отцом, не называя горожан напрямую «своими». Отказ жителей приходит с началом боевых действий.
Вероятно, соединение формул в фразу «мы людие твои, а ты еси нашь князь»14 звучало при заключении соглашений между представителями династии и коллективными акторами. Летописцы же могли приводить лишь одну ее часть, а также дополнять ее деталями - как отражающими специфику конкретной реальной ситуации, так и из литературных соображений.
***
Итак, при рассмотрении «речей» и детальных описаний взаимодействия города и князя в КЛ можно вычленить ряд устойчивых, повторяющихся элементов. Некоторые из них, такие как: встреча князя горожанами, иногда и с участием духовенства, пиры, обмен дарами, посещение известных храмов представляются исследователям составными частями обряда интронизации князя – правителя определенной земли. Однако те же самые элементы часто встречаются и при описании торжественной встречи предводителя войска после победы, сборов перед предстоящим походом и тем самым не могут рассматриваться как специфические именно для интронизации.
В Киевской летописи можно найти диалоги князя и города, которые по некоторым признакам (характерная двусоставность: упоминание двух сторон соглашения или же условий и действия; формульность) близки диалогам Рюриковичей той же летописи. В «речах» горожан князю можно выделить устойчивые выражения «мы есте людие твои» и «ты еси нашь князь». Иногда они появляются и в обращениях правителя к своим сподвижникам. Эти формулы могли складываться в единую семантически перформативную фразу «мы людие твое, а ты еси нашь князь», которая также однажды представлена в тексте Киевской летописи (ПСРЛ, т. 2, 1998, стб. 494). В каждом конкретном случае устойчивые выражения могли незначительно меняться, расширяться и трансформироваться с использованием богатого образного арсенала языковых оборотов, отсылающих к воинским подвигам и идее единства союзников. Особое символическое значение здесь имели упоминания предков князя: его отца и деда, и главных храмов городов: Св. Софии в Киеве и в Новгороде, Десятинной церкви в Киеве, собора Архангела Михаила в Переяславле и др. Слова «ты наш князь» произносят горожане, совершая выбор, к какой коалиции Рюриковичей присоединиться, какого князя пригласить на стол, что отражает договорной, а не церемониальный характер взаимодействия. Под словом «князь» часто подразумевается именно лидер, предводитель войска, а не локальный правитель.
Спорные ситуации, когда на один стол претендовали несколько правителей, вызывали у летописцев Киевской летописи наибольший интерес – о них можно узнать из текста, описывающего события 1140-х – начала 1150-х гг., когда ее вели авторы, наиболее заинтересованные в фиксации различного рода дипломатических казусов – вероятно, в качестве опыта для разрешения аналогичных ситуаций в будущем. В каждом эпизоде летописца интересовали наиболее сложные моменты ритуальной составляющей политической действительности.
Список литературы "Ты нашь князь": соглашения между городом и князем в Киевской летописи
- Андрощук Ф. К истории обряда интронизации древнерусских князей (сидение на курганах) // Дружинш старожитносп Центрально-схiдноi Европи VIII-X ст. Чершпв: Оверянсьска думка, 2003. С. 5-10.
- Артамонов Ю.А. Об участии церкви в интронизации князей Древней Руси // Восточная Европа в древности и средневековье: чтения памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто. М., 2021. Вып. 32. С. 13-18.
- Буденная Е.В. Древнерусские именные клаузы в процессе экспансии местоимений: исключение, подтверждающее правило? // Вестник Моск. ун-та. Филология. 2017. № 4. С. 199-208.
- Вилкул Т.Л. Люди и князь в древнерусских летописях середины XI-XIII вв. М.: Квадрига, 2009. 405 с.
- Вилкул Т.Л. О происхождении общего текста Ипатьевской и Лаврентьевской летописи за XII век // Palaeoslavica. 2005. Vol. 13, № 1. Р. 21-80.
- Вилкул Т.Л. Летопись и хронограф. Текстология домонгольского киевского летописания. М.: Квадрига, 2019. 459 с.
- Виноградов А.Ю. Религиозный аспект церемонии вокняжения в домонгольской Руси // Восточная Европа в древности и средневековье: чтения памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто. М., 2021. Вып. 32. С. 57-61.
- Гвозденко К.С. Церемония княжеской интронизации на Руси в домонгольский период // Древняя Русь: вопросы медиевистики. 2009. № 1 (35). С. 17-35.
- Гвозденко К.С. , Горский А.А. О порядке наследования княжеской власти в Древней Руси // Российская история. 2017. № 6. С. 14-23.
- Гимон Т.В. К вопросу о княжеских посланиях в Киевском своде (XII в.) // Восточная Европа в древности и средневековье: XXX Юбилейные чтения памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто, 17-20 апреля 2018 г. М.: Изд-во Ин-та всеобщей истории РАН, 2018. С. 64-71.
- Гранберг Ю. Вече в древнерусских письменных источниках: функции и терминология // Древнейшие государства Восточной Европы, 2004 год. М., 2006. С. 3-163.
- Дашкевич Я.Р. Спорные вопросы дипломатической практики Древней Руси // История СССР. 1991. № 4. С. 100-111.
- Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. М.: Языки славянской культуры, 2004. 879 с. Кежа Ю.Н. Обряд интронизации полоцких князей (в контексте церемониального обряда Древней Руси) // Вестник Полоц. гос. ун-та. 2021. № 1. С. 86-94.
- Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени у русских князей в X-XVI вв. Династическая история сквозь призму антропонимики. М.: Индрик, 2006. 740 с.
- Лукин П.В. Новгородское вече. М.: Индрик, 2014. 608 с. Лукин П.В. Новгород и Венеция. СПб.: Изд-во Европ. ун-та, 2022. 302 с.
- Назаренко А.В. Порядок престолонаследия на Руси X-XII вв.: наследственные разделы, сеньорат и попытки десигнации (типологические наблюдения) // Из истории русской культуры. Древняя Русь. М.: Языки русской культуры, 2000. Т. 1. С. 500-519.
- Пашуто В.Т. Черты политического строя Древней Руси // Древнерусское государство и его международное значение. М.: Наука, 1965. С. 11-76.
- Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси. Лекции по русской истории. Киевская Русь. М.: Наука, 1993. 635 с.
- Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. Киев: АН Украины, 1992. 224 с.
- Франчук В.Ю. Киевская летопись. Состав и источники в лингвистическом освещении. Киев: Наукова думка, 1986. 184 с.
- Guimon T.V. Historical Writing of Early Rus (c. 1000-c. 1400) in a Comparative Perspective. Leiden, Boston: Brill, 2021. 452 p.
- Poppe A. The Enthronement of the Prince in Kievan Rus // Poppe A. Christian Russia in the Making. Aldershot - Burlington. Ashgate. 2007. P. 190a-191a (впервые опубл.: Poppe A. The Enthronement of the Prince in Kievan Rus // The 17th International Byzantine Congress: Abstracts of Short Papers. Washington, 1986. Р. 272-274).
- Vukovich A. The Enthronement Rituals of the Princes of Vladimir-Suzdal in the 12th and 13th centuries // FORUM. University of Edinburgh Journal of Culture & the Arts. 2013. No. 17. P. 1-15.
- Vukovich A. The Ritualisation of Political Power in Early Rus' (10th-12th centuries): PhD Diss. University of Cambridge. 2015. 217 p.
- Vukovich A. Enthronement in Early Rus: Between Byzantium and Scandinavia // Viking and Medieval Scandinavia. 2018. No. 14. P. 212-239.