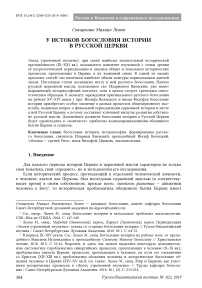У истоков богословия истории в Русской Церкви
Автор: Михаил Викторович Легеев
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Россия и Византия в современных исследованиях
Статья в выпуске: 1 (2), 2019 года.
Бесплатный доступ
Эпоха утраченной экумены1, при своей наиболее значительной исторической протяжённости (IX–XXI вв.), оказывается наименее изученной с точки зрения её патрологической периодизации и анализа общих и локальных исторических процессов, протекающих в Церкви, в их взаимной связи. В одной из наших прошлых статей2 мы наметили наиболее общие контуры периодизации данной эпохи. Настоящая статья посвящена месту в ней русского богословия. Начало русской церковной мысли, положенное свт. Иларионом Киевским, уже имеет выраженный историософский контекст, хотя в целом следует греческим свято- отеческим образцам. К моменту зарождения оригинального русского богословия на рубеже XV–XVI веков у прп. Иосифа Волоцкого и инока Филофея богословие истории приобретает особое значение в рамках процессов общецерковного маштаба, поднимая вопрос о финальной периодизации церковной истории и месте в ней Русской Церкви, а потому составляет ключевой импульс развития собственно русской мысли. Дальнейшее развитие богословия истории в Русской Церкви будет происходить в «контексте» проблемы взаимопроникновения общинного бытия Церкви и социума.
Богословие истории, историософия, формирование русского богословия, святитель Иларион Киевский, преподобный Иосиф Волоцкий, «Москва — третий Рим», инок Филофей, Церковь, экклезиология
Короткий адрес: https://sciup.org/140240253
IDR: 140240253 | DOI: 10.24411/2588-0276-2019-10005
Текст научной статьи У истоков богословия истории в Русской Церкви
другой характер. Она затрагивает, прежде всего, отношения Церкви как общины4 с социумом5, а также отдельной личностью и, с другой стороны, кафолической полнотой — отношения, которые также могут быть рассмотрены в их историческом развитии и компоненте. Этот характер внутренне менее цельной и, одновременно, более сложной исторической проблематики общинного бытия Церкви, представляющей собой посредующее, связующее звено между экклезиологией отдельного человека и экклезиологией кафоличности 6, определяет облик богословия 2-ой пол. XV-XVIII веков: во многом более практический и подготовительный, чем исполненный теоретических обобщений. Богословие здесь представлено прежде и более всего скрытыми тенденциями мысли, выражаемыми в практическом отстаивании тех или иных внутренних интенций, и формированием различных подходов к связи и совместному взаимодействию человека, кафолической полноты Церкви и окружающего мира, где церковная община (и, прежде всего, та или иная Поместная Церковь) выступает источником и мерилом связующего опыта 7.
У разных Поместных Церквей этот связующий опыт оказывается различным. Различия поместного опыта возвратят богословие истории в историософский контекст, то есть обратят его внимание к макромасштабу истории — для каждой из Церквей8 станет принципиально важным свидетельство собственного исторического опыта в судьбах Православия и всего мира — прошлых, настоящих и, особенно, будущих.
Именно это время станет ключевым для рождения русского богословия в целом и русского богословия истории , в частности.
Однако своё начало богословие истории в Русской Церкви берёт задолго до вы-шеобозначенных процессов, прообразуя и предначиная проблематику будущего периода церковной жизни. Отправной точкой и первой ключевой вехой историософии Русской Церкви следует полагать знаменитое «Слово о законе и благодати» свт. Ила-риона Киевского; историософский характер этого первого памятника русской церковной мысли, как покажет время, окажется символичным.
Преемство мысли свт. Илариона с грекоязычным святоотеческим наследием очевидно. Структура «Слова» и его богословие общеисторического процесса, стержнем которого выступает историческая жизнь и развитие Церкви, восходит к классическим образцам святоотеческой письменности, прежде всего, знаменитой гомилии «О Пасхе» святителя Мелитона Сардийского (II в.). В не менее яркой, поэтической и оригинальной форме у свт. Илариона воспроизводятся ключевые темы Мелитоно-вой гомилии (при этом свт. Иларион свободно привлекает собственные многообразные примеры и образы, что свидетельствует о яркости его богословского и литературного таланта). Эти ключевые темы таковы:
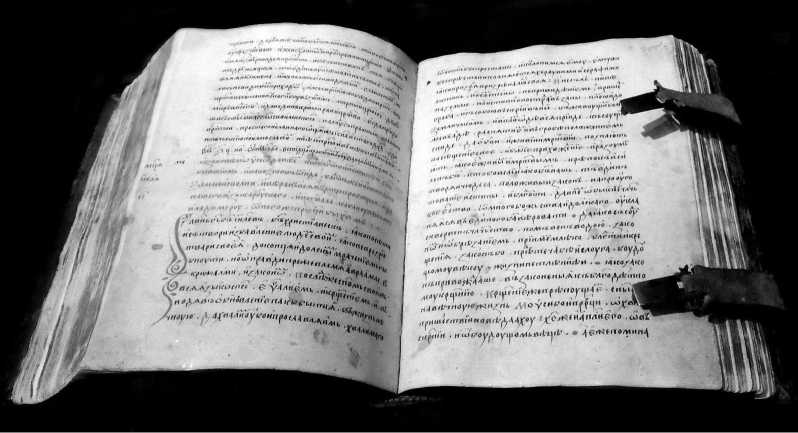
Торжественник со «Словом о законе и благодати» свт. Илариона. Первая половина XV в.
-
1. Ожидание прихода Спасителя страдающим человечеством9
-
2. Эпохальность истории; преемственность исторических эпох (от ветхого к новому, и от нового к тайне будущего века10)
-
3. Прямая перспектива исторического развития (идея прогресса)11
-
4. Опасность остановки на пути истории12
-
5. Воплотившийся Христос — Бог и человек13
-
6. Распятие Христа иудеями, отвергнувшими Его14
-
7. Поражение иудеев; конец иудейства и повсеместное распространение христианства15
-
8. Конечное торжество Христа, Альфы и Омеги истории16
-
3. Преподобный иосиф Волоцкий и инок Филофей:
Имеющая опору в библейском историзме, прямая перспектива истории «от ветхого и несовершенному — к новому, совершенному и торжествующему», ясно представленная в обоих произведениях («О Пасхе», «Слово о законе и благодати»), имеет однако у свт. Илариона свои специфические особенности. Конечное торжество Христа, изображённое у свт. Мелитона и имеющее у него несомненно эсхатологический и вселенский характер17, здесь, в «Слове о законе и благодати», приобретает, вместе с тем, конкретную, локальную историческую перспективу — торжества Русской Церкви, последней из плодов благодатного источника:
«Закон раньше был, и вознёсся в малом, и отошёл; вера же христианская, явившись после, больше первого стала и распространилась среди многих народов… (Эта) вера благодатная по всей земле распространилась и до нашего народа русского дошла»18;
«Законническое озера высохло, евангельский же источник наполнился вод и всю землю покрыл, и до нас разлился»19.
Эта мысль не сопровождается ещё у свт. Илариона представлением о эсхатологическом значении и роли Русской Церкви. Рождение последней представляет собой лишь финальную точку повсеместного распространения христианства без каких-либо богословских выводов из этого факта. Перенос акцентов здесь с вселенского торжества Христа на Его торжество в Русской Церкви лишён каких либо представлений или заявлений о роли Русской Церкви во всеобщей истории, но представляет лишь заявление о рождении нового плода древа Кафолической Церкви и радость от этого события. Однако именно перспектива, заданная свт. Иларионом, станет впоследствии отправной точкой для рождения русского богословия истории, которое поставит вопрос о месте и роли Русской Церкви и русского богословия в исторических процессах.
зарождение историософской парадигмы Русской Церкви
Падение Константинополя в 1453 году послужило важнейшим толчком к развитию русской церковной мысли, и особенно мысли историософского характера. Реальность бытия Русской Церкви, осознаваемая во времена св. Илариона как исторически «последнее» 20 становится теперь, спустя четыре столетия, исключительным, единственным и уникальным — единственно сохранившим полноту воцерковления мира. Это изменение не могло остаться безответным.
Прп. Иосиф Волоцкий, ближайший крупный мыслитель этого времени, одним из первых почувствовал историческое значение произошедших изменений. Дополнительным провоцирующим фактором к тому послужило проникновение на Русь гуманистического влияния , уже вполне укоренившегося на Западе и сформировавшего там совершенно новое мировоззрение Возрождения (именно как гуманистическое и вольнодумное движение широкого спектра, вероятно, следует понимать и интерпретировать так называемую «ересь жидовствующих»; с этим согласуется как общая логика истории21, так и мнение значимых специалистов по данному во-просу22). «Первые ростки апостасии на русской земле должны быть безжалостно искоренены» , — именно такая идея вдохновила прп. Иосифа на создание «Просветителя»,
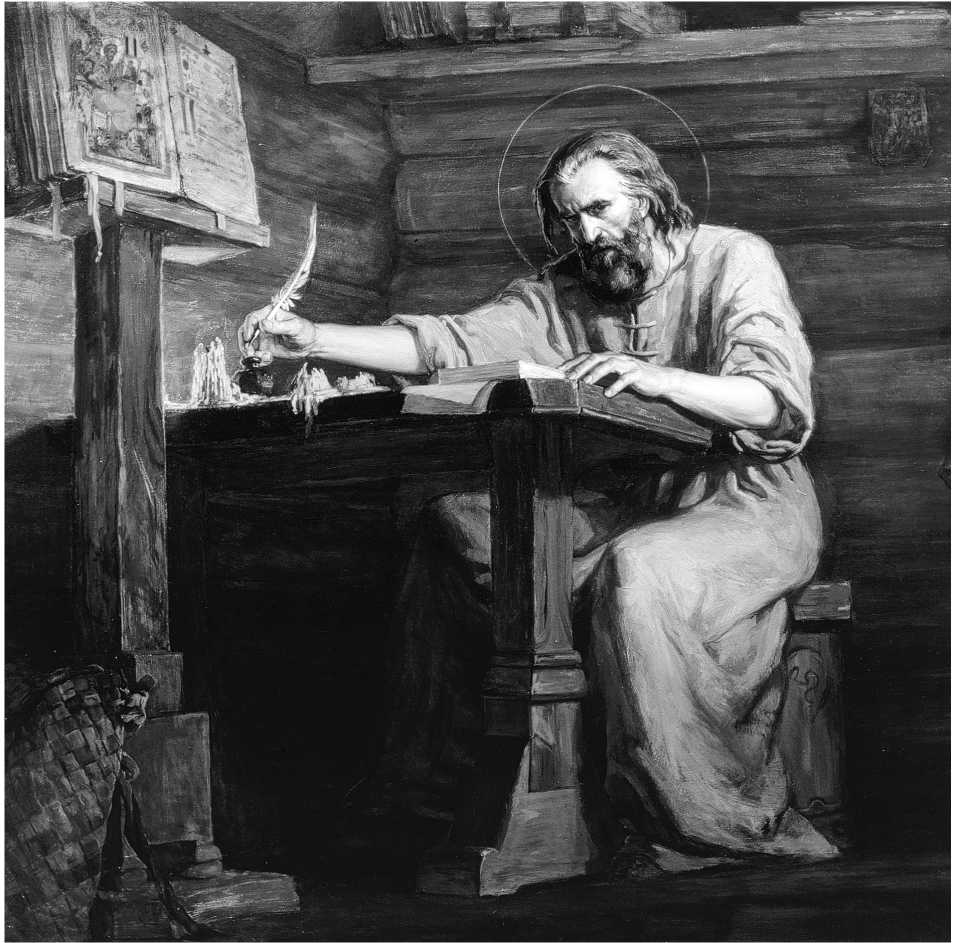
Преп. Иосиф Волоколамский. Худ. С. Афонина, 1998 г.
который явился первым в русской богословской мысли трудом систематического характера, не лишённым, при этом, оригинальных черт. За этим лозунгом вполне отчётливо проступала уже начинаемая формироваться и осознаваться историческая задача Русской Церкви : сохранение традиции, побуждаемое ответственностью перед кафолической полнотой Православия .
Эта интенция находит своё выражение в следующей мысли св. Иосифа историософского характера, в корне меняющей акценты, расставленные некогда свт. Иларио-ном Киевским:
-
1. Русь23 — новое (понимаемое как более позднее и совершенное), сохранившее святость;
-
2. Остальной христианский мир24 — древнее, даже ветхое (понимаемое как более исторически древнее и, одновременно, более ветхое в духовном плане25), утратившее
ныне воцерковление и гармонию социума, перешедшее в стадию поляризации между Церковью и миром26.
Спустя несколько десятилетий, один из его учеников и последователей, инок Спасо-Елеазарова монастыря Филофей, опираясь именно на эту историософему прп. Иосифа (историософему уже не ветхой и новой всемирной истории, а «ветхой» и «новой» истории самой Христовой Церкви)27, напишет свои известные слова, адресованные великому князю Василию: «Все христианские царства сошлись в одно… два Рима пали, а третий стоит, четвёртому же не бывать» 28.
Как справедливо замечают некоторые исследователи, концепция инока Филофея представляет собой чисто церковную историю29 — в ней нет места государствам и цивилизациям, их месту в истории, вне контекста исторического бытия Церкви 30. Мысль о Церкви как о стержне истории возрастает здесь до проблемы периодизации — как самой Церкви, так, равно, и всего мира «последних времён», то есть времён христианства. «Три Рима» представляют собой ничто иное как символ трёх эпох , три знака истории христианского мира:
-
1. Эпоху Древней Церкви (I–III вв.)
-
2. Эпоху Вселенских Соборов (IV–VIII вв.)
-
3. Эпоху утраченной экумены (IX–XIV вв., и особенно, начиная с сер. XV в. и далее — до окончания мира)
-
4. Взаимное отношение бытия Церкви и социума в локальном масштабе как историософская проблема. Перспективы и искушения русской историософии
Жизнь «трёх Римов», эти три эпохи, обнимает собою всю историю христианского мира, прошлую, настоящую и будущую.
Так, в отличие от Мелитоновой периодизации всеобщей истории (в частности воспринятой и ясно выраженной свт. Иларионом Киевским31), историософская парадигма рубежа XV–XVI веков оказывается направлена своим вниманием к истории Церкви, которая, в свою очередь, уже внутри себя обнаруживает некоторый параллелизм со всеобщей историей мира, выраженный, в частности, в той же тройственной структуре, несмотря на то, что одна из историй (Церкви Христовой) представляет собой лишь «последнее время», заключительный исторический фрагмент истории всеобщей32.
Всё это (то есть постановка вопроса о всеобщей периодизации церковной истории) составляет важную характерную черту формирующейся парадигмы богословия истории Русской Церкви. Особое внимание к заключительной эпохе этой периодизации (проходящей под восходящим знаком «третьего Рима»), равно как и роли в ней самого «третьего Рима», собственно Русской Церкви, будет представлять другую ключевую черту этой парадигмы. Наследие малоазийской школы древности окажется здесь продолженным неожиданным образом.
Греки признали эту периодизацию, хотя её смысл и виделся ими с другого угла исторического зрения33.
Важный вопрос состоит в том, какова же в русском богословии оказывается интерпретация характера и общеисторического значения третьей и заключительной эпохи церковной и, вместе с тем, общемировой истории, символически выражаемой под знаком «третьего Рима»? Общецерковный кенозис и локальное торжество , явленное или сохранённое в Русской Церкви, — как русское богословие истории того времени смотрит на эти исторические факты, равно как и на их отношения друг к другу? Известный тезис о «вине греков» не давал однозначных ответов и богословского понимания всей картины.
Как представляется, умаление и упразднение торжества и его переход к кенозису в локальном масштабе Константинопольской Церкви не имел в глазах новой русской историософии ни чисто отрицательного, ни чисто положительного знака (в отношении к самой Константинопольской Церкви). Сам факт утраты симфонии между Церковью и государством (у греков) означал и начало разделения, расхождения их (Церкви и государства) исторических путей : общий (для Поместной Церкви и соединённого с ней, воцерковлённого социума 34 ) грех стал отправной точкой для дальнейшего уже разделённого процесса — апостасийного для государства и всё более и более нацеленного на преодоление этой апостасии для Константинопольской Церкви35. Наказанием за грех стало падение империи и трагический разрыв путей Церкви и государства, однако само это наказание имело искупительный характер, благодаря которому определённое почтение русского мира к Константинопольской Церкви сохранялось, несмотря ни на что.
Историческая ситуация в самой Русской Церкви представляла ещё больше вопросов к осмыслению; так или иначе они сводились к проблеме интерпретации воцер-ковлённого социума.
Иллюстрацией к такой трудности может послужить модель отдельно взятого человека. Так, отдельно взятые церковный член, человек, при рассмотрении его отношения и соотношения с Церковью может быть рассмотрен и богословски интерпретирован следующим образом:
-
1. Как существующий в Церкви (в Церкви-общине и в Кафолической Церкви) и, таким образом, обнимаемый и заключаемый Церковью .
-
2. Как Церковь (т. е. сам — как автономный ипостасный уровень экклезиологи-ческого бытия36), и таким образом, как заключающий в себе , в собственном ипостасном бытии, некую частную меру церковности — «заключающий Церковь» (под которой понимается ни её общинная локальность и ни кафолическая полнота, но отдельное и личное зерно церковности)37.
При перенесении этой дилеммы на социум в его отношениях с Церковью (а по крайней мере в условиях Русского государства этот социум был представлен самим государством, воцерковлён и неразрывно соединён с Поместной же Русской Церковью) может быть реконструирована следующая калька с экклезиологи-ческой модели отдельного человека, где государство может быть интерпретировано и представлено:
-
1. Как существующее в кафолической Церкви и несомненно заключаемое Церковью , обнимающей всё творение и все стороны человеческой жизни своими энергиями, миссией и полнотой бытия38.
-
2. Как, будучи воцерковлённым социумом, само способное в определённом смысле быть и называться «Церковью» (имея ввиду определённый масштаб церковного бытия), Святой Русью.
-
5. Заключение
Так, собственно загадку представляла область отношений государства и общины (Поместной Церкви), «пространство» которых в общем и целом коррелируется друг с другом, представляя в практическом отношении (как, по крайней мере, казалось ключевым фигурам данного времени) бытия конкретного организма39 — одного целого, разделяемого логически, но не реально-ипостасно40. Таким образом, если принять эту точку зрения, то логическим следствием из неё вытекает возможность (по крайней мере, теоретическая) представления земного государства, этого, своего рода, «большого человека», в форме бытия Церкви, — имея ввиду локальное Поместное церковное бытие и его заключённость уже не в отдельном человеке, но в социуме.
Как человек способен становиться Церковью, оставаясь при этом человеком (и даже человеком греховным), так и социум, воцерковляясь, способен становиться и быть Церковью41, несмотря на сохраняемое несовершенство его устроения42, — именно такой внутренний импульс получит в дальнейшем русское богословие истории. За ним последует череда исторических попыток применения этой модели43 к практической жизни, — начиная от малой общины монастыря и заканчивая огромным социумом империи.
История покажет неустойчивость или, по крайней мере, временность такой модели, хотя и не опровергнет её теоретические посылки. Расцерковление государства, подобно расцерковлению отдельно взятого человека, станет исторической реальностью, когда натиск антипредания, наступающей апостасии и всего того, что зовётся «миром» в негативном смысле этого слова, достигнет неких критических величин.
Итак, формирующееся в рассмотренный нами период осознание Русской Церковью своей ответственности за судьбы Православия в мире , связанное с исключительным в это историческое время сохранением земного торжества Церкви в воцерков-лённом социуме, выливается в исторический ряд богословских тезисов и формул, подкреплённых практическими действиями и шагами на поле истории:
-
1. Историософская концепция прп. Иосифа Волоцкого, полагающая начало осмыслению места Русской Церкви в мировой истории.
-
2. Формула «Москва — третий Рим» инока Филофея, задающая эпохальную периодизацию всеобщей и церковной истории44.
-
3. Спор «стяжателей и нестяжателей», учеников прпп. Иосифа Волоцкого и Нила Сорского, о характере и степени интеграции церковного общинного бытия (взятого в форме предельно «неотмирного» монашеского бытия) и мира, во-церковлённого социума. Этот спор выступит фактически более частной и локальной моделью тех последующих попыток осмысления связи Церкви и мира (социума), которые в XVII–XVIII веках распространятся на масштаб Поместной Церкви и государства.
-
4. Проблемные попытки и интерпретации осмысления теснейшей интеграции Церкви и социума, Церкви и государства, взятые «в контексте» исключительного значения этой интеграции 45 для хода всеобщей и церковной истории , судеб Православия и всего мира (патр. Никон, с одной стороны, Пётр I и архиеп. Феофан (Прокопович), с другой, — как два крайних взгляда)46.
Впрочем, рассмотренные процессы, протекающие в русском богословии, хотя и представляли собой определённую доминанту в кафолическом процессе церковной мысли на данном отрезке истории, всё же не составляли этот процесс целиком. Так, если сохранение торжества Церкви, нераздельности Церкви и социума (с его воцерковлённостью, пронизанностью Церковью), явленное в Русской Церкви XV века на фоне всеобщего кенозиса Поместных Церквей, определили будущие исторические судьбы русского богословия: от его зарождения до принятия на себя преемства лидирующей роли в мировом Православии, — то, с другой стороны, кенотический
«прорыв в будущее» 47 Константинопольской Церкви сформировал в ней собственные внутренние интенции, облик и характер её миссии, её взгляд на будущую историю и собственное место в ней.
В следующей таблице мы схематически изобразили основные черты формируемых двумя опытами нового экклезиологического бытия менталитетов, из которых вырастут русская и неоконстантинопольская богословские школы, которые впоследствии (уже в XX–XXI вв.) выступят ключевыми силами экклезиологической мысли.
|
Русская Церковь |
константинопольская Церковь |
|
|
Осознаваемая историческая задача |
Сохранение традиции церковного бытия, опыта прошлого (торжества воцерков-лённой «экумены», взятой уже в локальном масштабе одного Русского государства) |
Пролагание опыта будущего (кенотического состояния Церкви в окружающем мире), ещё не совершившегося в масштабах всей Церкви |
|
Основание для исполнения задачи («легитимизация» собственной исторической функции и роли) |
Осознание ответственности за судьбы Православия в мире и будущее кафолической полноты Церкви (основанное на сохранении воцерковлённого социума, торжества Церкви на земле) |
Исторический статус Константинопольской Церкви (первой среди равных), подкреплённый государственным статусом константинопольского патриарха в Турецкой империи |
Зеркальность формирующихся экклезиологических менталитетов определит не только дальнейшее тесное взаимодействие двух Поместных Церквей для решения тех или иных исторических задач, но и их «конкуренцию» за лидерство в православном мире, хотя бы она и протекала в более или менее скрытой форме.
Каждая из этих новых богословских школ будет представлять, одновременно, и нечто большее, нежели школу в традиционном смысле этого слова: локальный опыт школ сменится опытом различных экклезиологических реальностей общинного бытия (в чём будет состоять уникальный опыт истории именно этого периода). Каждый из опытов даст почву для роста как пшеницы, так и плевел.
Список литературы У истоков богословия истории в Русской Церкви
- Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. В 2 т. СПб.: Библиополис, 1996. Т. 1. 456 с.
- Ерм, св. Пастырь // Писания мужей апостольских. М.: Издат. Совет. РПЦ, 2003. С. 222-309.
- Иларион Киевский, свт. Слово о законе и благодати. URL: http://lib2.pushkinskijdom.ru/tabid-4868. (дата обращения: 03.11.2018).
- Иосиф Волоцкий, прп. Просветитель. Б. Китеж, 2006. 372 с.
- Кириллов И. Третий Рим. Очерк исторического развития русского мессианизма. М. 1914.
- Легеев М., свящ. Богословие истории и актуальные проблемы экклезиологии. СПб.: Изд-во СПбДА, 2018. 312 с.
- Легеев М., свящ. Богословие истории на рубеже эпох: от преподобного Максима Исповедника к преподобному Симеону Новому Богослову // Христианское чтение. 2018. № 5. С. 51-61.
- Легеев М., свящ. Мир и Церковь как участники исторических процессов в «Эпоху утраченной экумены» // Труды кафедры богословия / Санкт-Петербургская Духовная Академия. 2018. № 1 (2). С. 208-221.
- Легеев М., свящ. Смысл истории: торжество или кенозис Церкви? К постановке вопроса // Христианское чтение. 2017. № 5. С. 33-43.
- Легеев М., свящ., Мефодий (Зинковский), иером., Кирилл (Зинковский), иером. Периодизация «Эпохи утраченной экумены»: взгляд со стороны богословия истории // Русско-Византийский вестник / Санкт-Петербургская Духовная Академия. 2018. № 1. С. 64-72.
- Лихачёв Д. С. Развитие русской литературы X–XVII веков. Эпохи и стили. Л.: Наука, 1973. 254 с.
- Максим Исповедник, прп. Мистагогия // Он же. Творения. В 2 т. М.: Мартис, 1993. Т. 1. С. 154-184.
- Маркидонов А. В. О некоторых особенностях древнерусского религиозного сознания (на примере Палеи Толковой)» // Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки / Мат-лы IX межд. Научн.-богосл. Конф., посв. 100-летию начала муенического и исповеднического подвига РПЦ. 28-29 сентября 2017 года. Сборник докладов. СПб.: Изд-во СПбПДА, 2018. С. 265-272.
- Мелитон Сардийский, свт. О Пасхе: литургическая поэма / Пер. с греч. и послесл. иером. Илариона (Алфеева). М.: Крутицкое Патриаршее Подворье — Об-во любителей церк. истории, 1998. 36 с.
- Послание старца Филофея к великому князю Василию // Памятники литературы Древней Руси. Конец XV — первая половина XVI. М., 1984.
- Рансимэн С. Великая Церковь в пленении. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2006. 464 с.