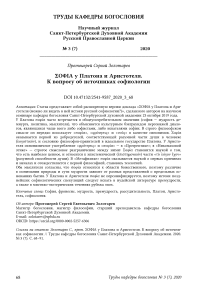У Платона и Аристотеля. К вопросу об источниках софиологии
Автор: Золотарев Сергей Евгеньевич
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Богословие, философия, культурология
Статья в выпуске: 3 (7), 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой расширенную версию доклада «ΣΟΦΙΑ у Платона и Аристотеля (можно ли видеть в ней истоки русской софиологии?)», сделанного автором на научном семинаре кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии 23 октября 2019 года. У Платона σοφία часто встречается в общеупотребительном значении (софия - мудрость демиурга, политика, мыслителя), что объясняется культурным бэкграундом персонажей диалогов, являющихся чаще всего либо софистами, либо искателями софии. В строго философском смысле он нередко использует «σοφία», «φρόνησις» и «νοῦς» в качестве синонимов. Σοφία оказывается первой из добродетелей, соответствующей разумной части души в человеке (λογιστικόν), и сословию философов-правителей в идеальном государстве Платона. У Аристотеля синонимичное употребление «φρόνησις» и «σοφία» - в «Протрептике»; в «Никомаховой этике» - строгое смысловое разграничение между ними: Σοφία становится наукой о том, что есть наиболее ценное, и относится к эпистемической (ἐπιστημονικόν) части «τὸ λόγον ἔχον» (разумной способности души). В «Метафизике» σοφία оказывается наукой о первых причинах и началах и отождествляется с первой философией, становясь теологией. Оба мыслителя согласны, что σοφία относится к области божественного, поэтому различие в понимании природы и сути мудрости зависит от разных представлений о предельных основаниях бытия. У Платона и Аристотеля σοφία не персонифицируется, поэтому истоки позднейших софиологических спекуляций следует искать в иудейской литературе премудрости, а также в мистико-эзотерических течениях рубежа эпох.
София, фронесис, мудрость, премудрость, рассудительность, платон, аристотель, софиология
Короткий адрес: https://sciup.org/140294863
IDR: 140294863 | DOI: 10.47132/2541-9587_2020_3_68
Текст научной статьи У Платона и Аристотеля. К вопросу об источниках софиологии
About the author: Archpriest Sergei Evgenievich Zolotarev
Master of Theology, Master of Philosophy, Senior Lecturer at the Department of Theology of St. Petersburg Theological Academy.
Article link: Zolotarev S., Archpriest. ΣΟΦΙΑ in Plato and Aristotle. On the Question of the Sources of Sophiology. Proceedings of the Department of Theology of the Saint Petersburg Theological Academy , 2020, no. 3 (7), pp. 68–91.
Понятие мудрости обнаруживается в центре почти каждой религиознофилософской традиции. Особое положение идея софии-премудрости занимает в философско-богословской мысли России и русского Зарубежья последних полутора столетий. Современный немецкий философ Михаэль Френч даже выстраивает историю западноевропейской философии таким образом, что ее синтезом и вершиной оказывается русская мысль рубежа XIX–XX веков в лице В. С. Соловьева, П. А. Флоренского и С. Н. Булгакова1.
Мысль русских религиозных философов, зачастую видевших себя «духовными сынами»2 Платона, обращалась за вдохновением к умозрениям античности. Н. А. Ваганова отмечает, что прот. Сергий Булгаков «в построении своей софиологии, будучи, во-первых, «ортодоксальным» платоником, а во-вторых, обращаясь в философских текстах к частым и обширным экскурсам в историю софиологических учений, зачисляет в разряд своих предшественников-софиологов вообще многих, но в первую очередь конечно же Платона, Аристотеля и Плотина»3. При этом исследователь указывает: «То, что Булгаков отождествляет с Софией у Платона, Аристотеля и Плотина, — это может быть что угодно, но совсем не то, что называли мудростью-софией они»4.
Отталкиваясь от приведенного заключения, рассмотрим понятие «σοφία» и его корреляты в наследии Платона и Аристотеля, сопоставляя при необходимости с предшествующими и современными им философскими учениями. При этом будем исходить из предположения, что исследование античных «софийных» категорий даст возможность более адекватно воспринять ряд достижений философской мысли XX века.
Софийная тематика в доплатоновской мысли.
Σοφία — премудрость или мудрость
Греческое «σοφία» обычно переводится и как «мудрость», и как «премудрость». С. С. Аверинцев полагает, что в образовании слова «премудрость» имеет место влияние апофатического богословия Псевдо-Дионисия Аре-опагита, в творениях которого к атрибутам Бога прибавляется трансцен-дирующая приставка ὑπερ-, переводимая традиционно как «пре-». В этом случае σοφία Бога логично может быть названа ὑπερσοφία, то есть «премудрость» — как «сверхмудрость». Соответственно, при переводе библейской софии на церковно-славянский язык «как бы было усмотрено это ареопагити-ческое речение ὑπερσοφία»5.
При всей логичности и наглядности данное объяснение вызывает сомнения. Сквозной компьютерный поиск по всему корпусу текстов греческого языка в электронной базе TLG показал, что слово «ὑπερσοφία» отсутствует не только в Ареопагитском корпусе, но и вообще в древнегреческом языке6.
Обращение к словарям древнерусского и старославянского (церковно-славянского) языков показывает, что при изредка встречающейся синонимичности слов «мудрость» и «премудрость» первое чаще соответствует греческому слову φρόνησις, тогда как второе — слову σοφία7. Поскольку в настоящее время за φρόνησις закрепился перевод «рассудительность», «разумность», то для σοφία переводы «мудрость» и «премудрость» могут рассматриваться как синонимы.
Ключевые термины: их этимология и значение
Предметом рассмотрения в настоящей работе является термин σοφία. Этимологические словари демонстрируют отсутствие в них соответствующей статьи, при этом данный термин дается как производное от σοφός8. Этимология данного слова весьма проблематична, попытки сопоставления с σάφα (ясно, отчетливо, уверенно, доподлинно, истинно, правдиво) неубедительны. Остается неясным, откуда в Грецию пришло это слово9.
Производный от σοφός отыменный глагол σοφίζομαι означает «ловко действовать», «складно говорить», и может относиться к искусству (например, мореплавательному), обогащению, даже обману. От этого глагола происходит слово σοφίσμα — «умение, искусность, ловкость»10.
Происхождению слова σοφία посвящена статья В. Н. Топорова11, на которую регулярно ссылаются исследователи12. В то же время результаты его изысканий подвергаются критике13. Таким образом, этимологические разыскания требуют осторожного подхода14, поскольку «значение слова есть способ его употребления»15.
Наряду с σοφία также необходимо обратить внимание на φρόνησις, который нередко выступает в качестве синонима. Глагол φρονέω, от которого произошло φρόνησις, означает «быть осмотрительным, мыслить, чувствовать». Само же существительное φρόνησις (вариант — φρονεῖν) восходит к ἡ φρήν, означающей «груднобрюшную перепонку», с которой в древних представлениях связывались душевные переживания и эмоции. У Платона рассудительность, направленная к благу, перемещается в область теоретического и отождествляется с мудростью-софией, Аристотель же будет их различать, назвав первую душевным складом (ἕξις) и возвратив ей практический смысл16.
Рассмотрим употребление термина σοφία в доплатоновскую эпоху.
ΣΟΦΙΑ демиурга, политика, мыслителя
Впервые в греческой письменности σοφία — в ионическом варианте σοφίη — встречается в «Илиаде» Гомера (XV, 410–412). Здесь софией-мудростью названо мастерство «зодчего» (τέκτων), т. е. плотника-корабельщи-ка17. Мастером, обучившим его, является сама Афина. А. В. Ахутин отмечает, что σοφίη в этом отрывке характеризует как степень человеческого умения, мастерства, так и саму слаженную, искусную форму вещи. Таким образом, σοφία указывает на такую степень мастерства, при которой вещь может стать образцом (παράδειγμα) для других мастеров18. Подобно и идеи-образцы Платона будут служить парадигмой для вещей чувственного космоса. Работа человека с вещами оказывается причастна «софии» в той мере, насколько она вносит смысл в сами эти вещи.
В диалоге «Протагор» (321 d) рассказывается миф о Прометее, который крадет «премудрое искусство Гефеста и Афины» (букв. ἔντεχνον σοφίαν). Еврипид называет мудрецом Дедала: «все Дедаловы статуи, кажется, двигаются и говорят. Вот каков этот мудрец Дедал»19.
Также софией-мудростью называется политическое искусство20. В диалоге «Менон» в качестве примера обладателя софии указывается «выдающейся мудрости» Перикл (94 b), также говорится о мудрости Фемистокла как правителя (99 b). Исократ в «Антидосисе» упоминает политическую мудрость Перикла21. В упомянутом мифе о Прометее говорится, что Зевс посылает Гермеса с целью сообщить людям «поистине божественное» искусство совместной жизни — политическое (πολιτικὴ τέχνη) (Протагор 321 с — 322 с). А. В. Ахутин находит отличие политической мудрости от мудрости искусств-ремесел в том, что политическая σοφία является общим делом и касается всех, в то время как каждое ремесло занято своим частным делом22. Соответственно, и знаменитые семь мудрецов по сути — мудрые политики. Плутарх в разделе о Солоне рассказывает о его друге философе Фалесе: «И вообще в то время, кажется, мудрость одного только Фалеса взором вышла за пределы полезного; другим же имя мудрости дано за доблесть в государственных делах (τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς)» (Солон. 3.8.1).
Теснейшим образом тема софии-мудрости связана появлением понятия философии. Философия (φιλο-σοφία) как любовь-к-мудрости (любомудрие) имеет предметом и целью своего влечения и поиска мудрость-софию. Относительно возникновения и становления термина «философия» Гераклид Понтийский (IV в. до Р. Х.) свидетельствует: «Пифагор впервые назвал философию этим именем и себя философом…, никто не мудр, кроме бога»23. Диодор Сицилийский (I в. до Р. Х.) объясняет происхождение имени «философ»: «Пифагор называл свое учение любомудрием (φιλοσοφία), а не мудростью (σοφία)» (Пифагор. Учение, 21 а)24.
Гераклит Эфесский иронизирует над «любомудрыми мужами» (фр. В 7, DK 35), упрекая их в «многознании», которое «уму не научает» (фр. В 16; DK 40). Однако его выпад против Пифагора и других «мужей», возможно, был вызван тем, что он сам претендовал на обладание мудростью-софией. По свидетельству Диона Хризостома, Гераклит «по его собственным словам, “сам отыскал” природу Вселенной … причем никто его не учил, но он сделался мудрым, [научившись] у самого себя» (фр. B 15; DK 101).
Многочисленные, пусть и разрозненные, сохранившиеся свидетельства создают образ философа не как искателя и любителя мудрости (φιλόσοφος), а образ мудреца (σοφός), владеющего истиной25 и изрекающего ее как пророчество. Истина открывается не чувствам, но уму (фр. 116; DK 16), причём открывается либо вся сразу, либо вообще не открывается26. Она недоступна толпе (фр. B 1; DK 1), но доступна, проста и ясна аристократическому уму. Соответственно, мудрость, состоящая в том, чтобы «знать всё как одно»27 (фр. 26; DK 50) — проста, однако доступна не всем28.
Как известно, для греческого миросозерцания фундаментальной реальностью, включающей множество смыслов, была φύσις, которая соотносилась с истиной (ἀλήθεια)29, а значит, тоже имела софийное измерение. По Гераклиту, мудрость заключается в том, чтобы говорить истинные вещи и поступать в соответствии с природой (κατὰ φύσιν) (DK 22; B 112). Эпихарм называет природу мудростью, от которой получают воспитание (τὸ δὲ σοφὸν ἁ φύσις … πεπαίδευται γὰρ αὐταύτας ὕπο) (DK 23; B 4). У Демокрита мудрость — постижение порядка природы (DK 68; B 191). По Гиппию, истинное знание есть знание природы вещей, которое позволяет человеку поступать правильно (Двоякие речи 8, 2).
«Платоновский корпус»
Прежде чем перейти к соответствующим фрагментам платоновских произведений, укажем на некоторые особенности использования Платоном софий-ной терминологии. Так, Платон нередко употребляет термины «φρόνησις», «νοῦς», и «σοφία» как синонимы30. Например, в «Законах» (689 d 4–7) синонимичны φρόνησις и σοφία 31, а в «Филебе» (30 с 6–10) — σοφία и νοῦς 32.
Слово σοφία встречается в корпусе Платона 273 раза — это больше, чем во всей сохранившейся предшествующей литературе (217 раз), включая ионийскую σοφίη. Слово σοφός — 497 раз, из которых 61 в сравнительной, и 47 в превосходной степени (в доплатоновском корпусе 759 раз). Слово φρόνησις встречается 189 раз и φρόνημα — 12 раз33. При этом необходимо учесть опасность «излюбленных в платоноведении механических процедур: подсчета частиц, прослеживания употребления терминов», так как Платон «ради создания разнообразия использует все богатство синонимики, частиц, отступлений, просодии и метрики»34. Более того, Платон, хотя и может выражаться строго и точно, однако старается избегать этого, видя в подобном способе выражения нечто рабское и «недостойное свободного человека» (ср. Теэтет 184 с). Следовательно, понимать Платона нужно целостно, выхваченный же из контекста термин, либо вырванная цитата, либо даже взятый сам по себе диалог могут мало что доказать35. Постараемся, с учетом этих замечаний, проанализировать употребление софийных терминов в контексте как самих диалогов, так и всего платоновского корпуса.
Диалог «Апология Сократа»
«Апология Сократа» является первым опубликованным произведением платоновского корпуса. В своей защитной речи, обращенной к афинянам, Сократ говорит о том, что стал известен среди них благодаря своей мудрости: «Какая же это такая мудрость? Да уж, должно быть, человеческая мудрость. Этой мудростью я, пожалуй, в самом деле мудр» (20 d). Далее Сократ приводит свидетельство оракула: «Свидетелем моей мудрости, если только это мудрость, и того, в чем она состоит, я приведу вам бога, который в Дельфах», который открыл некоему Херефонту, что нет никого мудрее Сократа. Сократ, который не осознает себя мудрым, задается вопросом о смысле этих слов: «что же это он хочет сказать, говоря, что я мудрее всех?». Решив опровергнуть прорицание и «объявив оракулу, что вот этот, мол, мудрее меня, а ты меня назвал самым мудрым», Сократ стал обходить тех, кто слыл мудрецами среди людей, но в результате общения выяснялось, что они только казались мудрыми. Уходя от одного из государственных мужей, Сократ рассуждал: «этого-то человека я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего хорошего не знаем, но он, не зная, думает, что что-то знает, а я, коли уж не знаю, то и не думаю, что знаю. На такую-то малость, думается мне, я буду мудрее, чем он … с тех пор возненавидели меня и тот первый, и многие другие» (Апология Сократа, 21b–е). таким образом, подлинная мудрость-софия устами Сократа определяется не как полное знание всего и вся, а как осознание своего незнания .
Сократ предстает перед своими судьями как учитель «заботы о себе». Обращаясь к гражданам Афин, «величайшего из городов и больше всех прославленного за мудрость и силу», он возвещает, что сам бог поручил ему напоминать людям, что они должны заботиться не о богатствах и почестях, но о самих себе, о своей душе (Апология Сократа, 29 d — 30 с).
Диалог «Протагор»
Диалог «Протагор» является первым опубликованным рамочным, т. е. пересказанным, диалогом. Здесь впервые появляется влюбленный в Алкивиада Сократ, а политическая проблематика и рассмотрение добродетелей предваряют темы будущего «Государства»36.
В диалоге, посвященном изобличению Протагора как учителя добродетели, Сократ демонстрирует, что обличаемый софист не знает, что такое добродетель, а значит, не может и научить ей. Обращает на себя внимание первая часть диалога (319 а — 334 с), в которой Сократ испытывает Протагора и, обнаружив обывательские представления о добродетели у своего оппонента, опровергает их. По Протагору, различные части добродетели не подобны друг другу, и можно быть причастным одной из них, не будучи причастным другим (330 а–с), причем отмечается, что «мудрость — величайшая из частей (μέγιστόν γε ἡ σοφία τῶν μορίων)» (330 а). Сократ же показывает их единство и, соответственно, невозможность обладания только одной. Последовательно он приводит слушателей к мысли о тождестве, во-первых, справедливости и благочестия (ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ὁσιότης) (331 b–d), а во-вторых, здравомыслия и мудрости (ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ σοφία) (333 b). Далее Сократ, показывая, что справедливость и мудрость не различные вещи, диалектически подводит к мысли об объективном благе. К упомянутым четырем добродетелям присовокупляется также мужество (ἀνδρεία) (330 b; 349 b), и уже в конце диалога Протагор признает, что мужество тождественно прочим частям добродетели, и определяется оно как «понимание (σοφία) того, чтó страшно и чтó нестрашно» (360 d). Наконец, все соглашаются, что приятное есть благо (τὸ ἡδὺ ἀγαθόν ἐστιν), и, узнав лучшее, человек будет стремиться к нему, преодолевая то, что было, ведь «быть выше самого себя — не что иное, как мудрость (κρείττω ἑαυτοῦ ἄλλο τι ἢ σοφία)».
Диалог «Феаг»
Диалог «Феаг» посвящен разысканию софии-мудрости. Феаг (Θεάγης), чье имя буквально означает «почитающий бога»37, будучи увлечен Сократом и сведениями о его гении (даймонии), готов идти к нему в ученики. Духовная сила гения делает Сократа учителем мудрости. Феаг стремится к мудрости, и Сократ начинает беседовать с ним, пользуясь своим постоянным методом вопросов и ответов: «изложи, что это за премудрость, к которой ты так стремишься?» (123 b). Сократ хочет установить общее, родовое понятие — в данном случае, общее понятие мудрости — в его отличии от частных проявлений: «та мудрость (σοφία), к которой ты ныне стремишься, безымянна или же у нее есть какое-то имя?» (123 c). Он получает ответ: «Но какое иное имя, Сократ, можно ей дать, кроме имени мудрости?» (Там же). Далее в поисках мудрости, необходимой Феагу, приводится набор традиционных представлений о ней как о сноровке, умении, политических навыках. Софией называется управление колесницами и кораблевождение (123 d), врачебное, мусическое и гимнастическое искусство (123 е), искусство земледелия (124 а), плотницкое искусство (124 b) и искусство повара (125 с). Наконец, σοφία тирана оказывается той, которую ищет Феаг (124 с — 125 а).
Итак, представления о софии в «Феаге» в целом не выходят за рамки традиционных представлений, но сама она может приниматься человеком как божественный дар.
Диалог «Евтидем»
Рамочный диалог «Евтидем» посвящен критике софистической «мудрости» и ее методов38, и содержит размышления о мудрости, связанные с обретением счастья как цели стремлений. Счастлив и благополучен лишь тот, кто никогда не ошибается, но именно мудрость, связанная со знанием природы вещей, позволяет не совершать ошибок, следовательно, она и есть величайшее счастье: «Мудрость (σοφία) во всем несет людям счастье, ибо мудрость ни в чем не ошибается, но необходимо заставляет правильно действовать и преуспевать» (280 а). Знание природы вещей способствует их правильному использованию. Злом или благом та или иная вещь становится в результате должного либо не должного использования, сама же по себе не являясь ни злом, ни благом. Т. е. зло и благо связаны с невежеством и мудростью соответственно: «Из всех остальных вещей ничто не есть ни добро, ни зло, а вот из этих двух — мудрости и невежества — первая есть благо, второе же — зло» (281 е). Следовательно, руководящее начало души нуждается в образовании в соответствии с природой вещей, которое и приведет к счастью: «Поскольку мы все стремимся к счастью и, как оказалось, мы счастливы тогда, когда пользуемся вещами, причем пользуемся правильно, а правильность эту и благополучие дает нам знание; д о лжно, по-видимому, всякому человеку изо всех сил стремиться стать как можно более мудрым» (282 а). Философствование является тем путем, который ведет к обретению мудрости (282 d).
Примечательно, что в этом диалоге слово σοφία встречается 37 раз — чаще, чем в остальных текстах Платона39.
Диалог «Менон»
Герой драматического диалога «Менон», имеющего подзаголовок «О добродетели» (ἢ περὴ ἀρετῆς), приехавший в Афины юный фессалийский аристократ Менон, задает Сократу вопрос: можно ли научиться ἀρετή (добродетели, доблести)? В последующей беседе Сократ наводящими вопросами подводит собеседника к мысли о том, что политическая ἀρετή, к которой он стремится, не есть подлинная добродетель, а лишь ее «тень» (100 а). Далее объясняется единство добродетелей (70 a — 80 d). В поисках единой ἀρετή перечисляются добродетели, среди которых оказываются справедливость, мужество, необходимая для практической жизни рассудительность (σωφροσύνη) и мудрость (σοφία), щедрость (74 а), а также честность (78 d). В качестве примера обладателя софии-мудрости приводится «выдающейся мудрости» Перикл (94 b). Также говорится о мудрости Фемистокла как правителя государства (99 b) и отмечается, что его сын Клеофант не был «доблестен и мудр в том же, в чем и его отец» (93 е). Мудрость не безымянна, но ей невозможно дать никакое иное имя, кроме имени мудрости, чем утверждается ее самотождественность и самодостаточность. Мудрость, соотнесенная со знанием, оказывается добродетелью, которая не есть дар природы или результат обучения, но достается «по божественному уделу (θείᾳ μοίρᾳ), … помимо разума» (100 а–b).
Диалог «Пир»
Рамочный диалог «Пир» рассказывает о пиршестве у поэта Агафона в связи с его победой на Ленеях. В шестой речи Сократ говорит не от себя, а пересказывает услышанную им еще в юности речь пророчицы Диотимы из Ман-тинеи (199 с — 212 с). Согласно ее рассказу, зачатый на празднике рождения Афродиты сын Пении-бедности и Пороса-богатства Эрот является не богом, а великим гением (δαίμων μέγας), посредником между человеком и богом (202 d-e). «Он находится, — пишет Платон, — также посредине между мудростью и невежеством, и вот почему. Из богов никто не занимается философией и не желает быть мудрым, поскольку боги и так мудры; да и вообще тот, кто мудр, к мудрости не стремится. Но не занимаются философией и не желают стать мудрыми опять-таки и невежды. Ведь тем-то и скверно невежество, что человек и не прекрасный, и не совершенный, и не умный вполне доволен собой. А кто не считает, что в чем-то нуждается, тот и не желает того, в чем, по его мнению, не испытывает нужды» (204 а).
Таким образом, Эрот любит одно из самых прекрасных благ — мудрость-софию, и сам является фило-софией: «занимаются [философией] те, кто находится посредине между мудрецами и невеждами, а Эрот к ним и принадлежит. Ведь мудрость — это одно из самых прекрасных на свете благ, а Эрот — это любовь к прекрасному, поэтому Эрот не может не быть философом, то есть любителем мудрости, а философ занимает промежуточное положение между мудрецом и невеждой. Обязан же он этим опять-таки своему происхождению: ведь отец у него мудр и богат, а мать не обладает ни мудростью, ни богатством. Такова, дорогой Сократ, природа этого гения» (204 b–c).
Как и чувственная любовь, любовь к софии — философия — является одним из видов желания счастья, а само счастье (εὐδαιμονία) есть вечное обладание благом в красоте (см. 206 а — 207 а). Но вечность человек обретает либо через порождение потомства (роднящее его с животными), либо через восхождение по ступеням красоты к прекрасному как таковому (αὐτὸ τὸ καλὸν) и рождению в нем (211 с — 212 а). Мудрость принадлежит богам (ср. «боги и так мудры» 204 а), а пророчица премудрая Диотима (σοφωτάτη Διοτίμα) сама выступает как олицетворенная премудрость-софия.
Ее имя означает «чтимая Зевсом». Она говорит, что самое важное и прекрасное — это разумение (φρόνησις) (209 а), σοφία же — одно из самых прекрасных благ (210 d).
Следует отметить такие детали сочиненного Платоном мифа, как имена богов. Так, отец Эрота Порос является сыном супруги Зевса Метиды (Μῆτις), чье имя означает «мысль», «мудрость». Что же касается имени самого Пороса (Пόρος), впервые появляющегося в греческой хоровой лирике, то оно означает «путь», «средство для достижения чего-либо», «выход из затруднительного положения», «богатство», т. е. является олицетворением ловкости, сноровки во всех сложных положениях жизни40, а именно эти способности традиционно включались в смысловое поле термина σοφία.
Диалог «Кратил»
Диалог «Кратил» представляет собой образец первых диалогов в прямой драматической форме и посвящен толкованию имен. В беседе с Гермогеном Сократ дает такое толкование имени софии: «слово “мудрость” (σοφία) означает “захватить порыв” (φοράς ἐφάπτεσθαι). Имя это, правда, довольно темное и скорее всего чужое. Однако следует вспомнить, что у поэтов во многих местах употребляется близкое по звучанию слово “эсютэ” (ἐσύθη) в значении “поспешно ушел“. А одному из прославленных лаконских мужей даже было такое имя — Сус, поскольку лакедемоняне так именуют быстрый натиск. Так вот имя София и означает захватывание (ἐπαφή) такого порыва, поскольку все сущее как бы несется» (412 b). Здесь же Сократ дает толкование таких имен как φρόνησις, γνώμη, νόησις, ἐπιστήμη, σωφροσύνη, и τὸ ἀγαθόν. Φρόνησις трактуется как «помышление умом того, кто судит о вихре, или течении, вещей (φορᾶς καὶ ῥοῦ νόησις); а может быть, это нужно понимать так, что есть определенный расчет в этом течении, что оно полезно (ὄνησιν φορᾶς)» (411 d).
Чуть выше дается толкование имени богини Афины, связанной с софий-ной темой (407 b–c). Как отмечает С. С. Аверинцев, Платон пытается объяснить этимологию имени богини, чтобы выразить ее сущность, и его этимологизирование носит не лингвистический, а философско-метафорический смысл41. Полагаем, это замечание можно отнести и к толкованию имени σοφία.
Таким образом, в «Кратиле» Платон, основываясь на фонетическом созвучии, определяет значение имени σοφία как захватывание (ἐπαφή) мыслью несущегося потока вещей.
Диалог «Федр»
В диалоге «Федр», имеющем подзаголовок «О любви» (ἢ περὴ ἔρωτος), описывается беседа Сократа с поклонником философии и красноречия Федром. Кульминацией беседы является речь Сократа, рассказывающего «о самом возвышенном и судьбоносном движении — воспарении крылатой души в “сверхнебесное место”»42.
В начале диалога, когда обсуждается истинность мифа об Орифии, Сократ не стремится принять толкования «мудрецов», дающих «правдоподобные», т. е. рационалистические, объяснения, и после критики этой «доморощенной мудрости» переходит к теме самопознания, вспоминая призыв дельфийского оракула «познать самого себя» (229 е — 230 а). Затем, после речи Лисия, зачитанной Федром, Сократ произносит две своих речи, и сопоставление второй речи Сократа с речью Лисия подводит собеседников к проблеме риторики. Кульминационным моментом здесь часто полагают рассказ о воспарении крылатой колесницы-души в «сверхнебесное место». Мы видим образ души, состоящей из трех частей (247 с): возничий (κυβερνήτης — букв. кормчий) — разумное начало души (λογιστικόν), — управляющий крылатой парной упряжкой (аффектами). Один из коней благороден и послушен — это пылкое начало (θυμοειδές), а другой ему противоположен — это вожделеющее начало (ἐπιθυμητικόν)43.
Диалог «Алкивиад Ι»
Диалог «Алкивиад I» не является аутентичным платоновским произведением, однако принадлежит к группе школьных текстов, написанных при жизни, а, возможно, и при участии, Платона44. Мудрость, — согласно автору диалога, — есть добродетель (достоинство) души ἡ ψυχῆς ἀρετὴ σοφία (133 b). Путь к достижению этой добродетели лежит через философствование. Для Платона этика возможна только на метафизической основе, и этическая добродетель неотделима от философской мудрости: «невозможно быть счастливым, не будучи разумным и достойным» (134 а).
Диалог «Государство»
Диалог «Государство», имеющий подзаголовок «О справедливости» (ἢ περὴ δικαίου), представляет собой рамочный диалог, пересказанный самим Сократом. Во фрагменте 428–432 дается характеристика четырех главных добродетелей государства, среди которых мудрость (σοφία), мужество (ἀνδρεία), умеренность (σωφροσύνη) и справедливость (δικαιοσύνη).
Как отмечалось выше, для Менона добродетелями являлись мужество, необходимая для практической жизни умеренность-рассудительность (σωφροσύνη) и мудрость (σοφία), а также щедрость, или, скорее, великолепная широта натуры (μεγαλοπρέπεια). Все это качества не только созерцательной
«философской души» (VI, 486 d), но и души деятельной. Однако Платон, перечисляя свойства истинного философа, включает в них и великодушие (VI, 487 а), т. е. ту же самую щедрость натуры (μεγαλοπρέπεια), о которой говорит Менон.
Таким образом, σοφία оказывается первой из добродетелей, соответствующей разумной части души в человеке (λογιστικόν).
Диалог «Филеб»
В диалоге «Филеб», носящем подзаголовок «Об удовольствии» (ἢ περὴ ἡδονῆς), в разделе о вечно сущем едином, состоящем из единства и множества, σοφία указывается как та причина, которая устанавливает правильный порядок числовых последований и соотношений: «во Вселенной… есть и огромное беспредельное, и достаточный предел, а наряду с ними — некая немаловажная причина, устанавливающая и устрояющая в порядке годы, времена года и месяцы. Эту причину было бы всего правильнее назвать мудростью и умом (σοφία καὶ νοῦς)» (30 с). Далее Платон устами Сократа продолжает: «И не считай, Протарх, что мы высказали это положение необдуманно: оно принадлежит тем мудрецам, которые некогда заявляли, что ум — их союзник — вечно царствует над Вселенной … Оно же дает ответ на мой вопрос: ум относится к тому роду, который был назван причиной всей вещей» (30 d–e). Эта причина постоянно именуется τὸ ποιοῦν и τὸ δημιουργοῦν (26 e — 27 b), и она же оказывается умом и мудростью. Можно ли отождествить эту устрояющую причину — ум и мудрость — с умом-демиургом «Тимея», о котором сказано, что «Он был благ (ἀγαθός)» (Тимей, 29 е), и содержа в уме некий «вечный образец (παράδειγμα)» своей мудрости, привел все из беспорядка в порядок (30 а) и даже сам есть «высшее благо» (30 b)? Вопрос остается открытым45.
Другие диалоги
Приведем фрагмент возникшего в платоновском кружке трактата «Определения» (Ὅροι), ранее считавшегося аутентичным произведением, а впоследствии приписывавшегося Спевсиппу, в котором представлен своего рода словарь 184-х философских терминов: «Σοφία ἐπιστήμη ἀνυπόθετος· ἐπιστήμη τῶν ἀεὶ ὄντων·ἐπιστήμη θεωρητικὴ τῆς τῶν ὄντων αἰτίας»46 («Мудрость беспред-посылочное знание; знание вечных вещей; умозрительное знание причины существующего»47, — пер. С. Я. Шейнман-Топштейн). Отметим мнения, что источником для лексикона послужили труды Платона, Аристотеля и ранних стоиков48.
Ранние платоники и школьные тексты платонизма
Если для Платона математические дисциплины (арифметика, геометрия, гармоника и астрономия) имели пропедевтическое значение и не являлись мудростью, но лишь способствовали движению души от мира становления к миру бытия, то «отказ учеников Платона от идей приводит к изменению ценностного статуса τὰ μαθήματα; то, что для Платона было средством достижения мудрости, становится самой мудростью»49.
В «Послезаконии», принадлежащем перу ученика Платона Филиппа Опунтского, φρόνησις и σοφία употребляются в качестве синонимов50. Автор называет мудростью науку о числе (976 d — 978 d). Как отмечает А. Ф. Лосев, Филипп Опунтский в своем «Послезаконии» занят космологией и определяет здесь мудрость не только как исходный пункт всякой добродетели, но и как «проявление космического закона о всеобщем, вечном и абсолютно правильном движении небесного свода»51.
Реконструируя по сохранившемуся у Климента Александрийского фрагменту (Строматы II, 133, 4) этическое учение Спевсиппа, Джон Диллон отмечает, что последний стремится описать образ этакого пифагорейского мудреца, свободного от страстей, который понимает, что подлинное счастье (εὐδαιµονία) — в достижении состояния безмятежности. Мудрец стоиков будет близок такому пониманию52.
У третьего схоларха Академии Ксенократа φρόνησις может быть как практической, так и теоретической. Именно теоретическая (θεωρητική) и является человеческой мудростью-софией53. Ксенократ, по свидетельству Диогена Лаэртского (IV, 11–14), написал шесть книг «О мудрости» (Περὶ σοφίας)54, которые в списке из семидесяти шести его произведений следовали за трактатом «О природе», но эти работы до нас не дошли55. В списке Диогена присутствуют и две книги «Περὶ φρονήσεως»56 (в рус. пер. М. Гаспарова — «О разумении»). Климент Александрийский в «Строматах» (II 24) пишет, что Ксенократ в своем Περὶ φρονήσεως называет мудростью (σοφία) «научное знание первых причин и умопостигаемых сущностей», а благоразумие (φρόνησις), по его мнению, двояко: практическое и теоретическое. Теоретическое благоразумие и есть человеческая мудрость. Т. е. всякая мудрость есть благоразумие, но не всякое благоразумие само по себе является мудростью57.
Основываясь на этом свидетельстве Климента Александрийского, отметим, что Ксенократ, используя термины φρόνησις и σοφία, проводит различие между практической и теоретической «мудростью» (также φρόνησις). Против такого определения выступает Аристотель в шестой книге «Топики» (141 а 5 сл.): «Нелепость здесь состоит не в том, что дважды произносится одно и то же имя, а в том, что о чем-то сказывается одно и то же несколько раз, как, например, Ксенократ говорит, что φρόνησις “определяет и созерцает истинно сущее (τὰ ὄντα)”. Однако способность определять (ὁριστική) в некотором смысле есть и способность созерцать (θεωρητική), так что, прибавляя “и созерцает”, он говорит одно и то же дважды»58.
Дж. Диллон отмечает, что, по Ксенократу, «знание Бога и небесных сущностей о самих себе качественно отличается от нашей теоретической мудрости, а последняя в свою очередь отличается от практической мудрости»59. Эти воззрения имеют явно пифагорейскую окраску и различают знание божественное и человеческое, а затем в человеческом знании различают теоретическое и практическое.
Альбин, платоник II в., начинает свой «Учебник платоновской философии» с диалектики, понимаемой как инструмент философии, и отмечает, что «философия есть тяга к мудрости, обратившейся к умопостигаемому и истинно сущему». Сама же мудрость, по Альбину, состоит «в познании дел божественных и человеческих»60.
Апулей, платоник II в., которого Аврелий Августин называет «Platonicus nobilis»61, является автором трактата «О Платоне и его учении», где в разделе, посвященном учению Платона о добродетелях, соотносимых с частями души, говорится о добродетели, которая «опирается на разум, за всем наблюдает и все судит»62 (De Dogmate Platonis II, 6). Эта добродетель называется «разумностью и мудростью» (prudentiam … atque sapientiam)63. Латинский термин prudentia соответствует греческому φρόνησις, а sapientia — σοφία64. Итак, Апулей говорит об одной добродетели, опирающейся на разум, но далее он все-таки проводит различение: «из них в мудрости он (Платон. — прот. С. З. ) хочет видеть науку о божестве и человеке, а в разумности — знание и понимание добра и зла, а также среднего между тем и другим»65.
«Аристотелевский корпус»
В корпусе Аристотеля слово σοφία встречается гораздо реже, чем у Платона — ровно 100 раз. Слово σοφός — 126 раз, из которых 13 в сравнительной, и 4 — в превосходной степени. Зато слово φρόνησις оказывается более употребительным и встречается 263 раза, и φρόνημα — 4 раза66.
К теме софии-мудрости Аристотель обращается в двух ключевых произведениях: шестой книге «Никомаховой этики» и первой книге «Метафизики»67. Также для целей настоящей статьи интерес представляет «Протрептик» Аристотеля, реконструированный по фрагментам в XX веке и уже дважды переведенный на русский язык68.
«Протрептик»
Аристотелевский «Протрептик», очевидно, написан в ответ на речь Исократа «Об обмене» (Ἀντίδοσις), и практически каждый отрывок «Протрептика» соотносится с темой «Антидосиса». «Протрептик» создан по образцу платоновского «Евтидема», представляющего собой один из самых ранних образцов подобного жанра69. Философствование является тем путем, который ведет к обретению мудрости (Евтидем 282 d), и на этот же самый путь «приобретения и использования мудрости (κτῆσις καὶ χρῆσις σοφίας)» призывает вступить Аристотель, «а мудрость, в свою очередь, относится к величайшим благам»70. Здесь же (фр. 5) он говорит, что важнейшим благом является рассудительность (φρόνησις), и именно разумный (φρόνιμος) является точной мерой добра и зла. Таким образом, здесь Аристотель не делает особых различий между мудростью и рассудительностью, говоря о той и другой как величайшем благе.
По мнению Е. В. Алымова, при интерпретации необходимо учитывать жанр и не искать строгую терминологию в публицистическом, экзотерическом произведении. Так, ключевое для данного сочинения понятие φρόνησις не имеет одного единственного значения, что, вероятно, связано с риторической направленностью «Протрептика». Этим соблюдается ясность публичной речи, поскольку необходимо показать, что использование φρόνησις доступно всем71.
Соответственно, в тексте «Протрептика» — преимущественно во фрагментах, дошедших в «Протрептике» Ямвлиха — чаще встречается именно термин φρόνησις и его производные. Например, в восьмом фрагменте говорится, что люди предпочитают φρόνησις безрассудству (ἀφροσύνη)72, которого более всего избегают, а в десятом фрагменте — «у людей нет в наличии ничего божественного или блаженного, кроме того единственного, что заслуживает всякого усердия и что в нас относится к уму (νοῦ) и рассудительности (φρονήσεως)»73. Размышляя о цели, которая лучше всего и ради которой все возникает, Аристотель указывает, что φρόνησις является для нас целью согласно природе (κατὰ φύσιν), и мы рождены, чтобы мыслить (φρονεῖν), «так что прочего нужно достигать ради благ, возникающих в человеке, а из этих благ — телесные ради душевных, доблесть — ради мудрости (σοφίας). Ведь это самое важное»74. Таким образом, присутствует в целом синонимичное употребление двух понятий.
Разграничение σοφία и φρόνησις произойдет в «Этике», где рассудительности будет возвращен практический смысл, но в «Протрептике» присутствуют оба смысла. Например, в тринадцатом фрагменте речь идет о пользе ἡ θεωρπητική φρόνησις как знания природы сущего и истины (ἡ τῶν ὄντων φύσις καὶ ἀλήθεια), и доказывается, что такое знание не только хорошо само по себе, но и приносит значительную пользу для жизни человека75. Мудрость-софия относится к постижению первого по природе и общего, но с точки зрения человеческого блага бесполезного. А фронесис , как способность принимать разумные решения в связи с благом и пользой и поступать в соответствии с этими решениями, принадлежит области практического блага. Однако, чтобы правильно и разумно поступать, необходимо знание общего, и чем больше человек знает, тем лучше действует (фр. 6)76.
Полагая «Протрептик» ранним произведением и считая, что Аристотель во время его написания был последовательным платоником, В. Йегер трактует φρόνησις как познающую созерцательную деятельность, чистый разум, направленный на самого себя, и настаивает на исключительно таком понимании. С В. Йегером полемизирует Х. Г. Гадамер, объясняющий различие теоретически-созерцательной фронесис в «Протрептике» и практически понимаемой фронесис в «Никомаховой этике» не эволюцией взглядов Аристотеля, а тем, что во втором случае перед Стагиритом стоит цель терминологически зафиксировать собственно этический термин в его специфическом значении, а в первом случае он пишет увещательное сочинение о пользе и необходимости философии, не вдаваясь в особое обсуждение этических вопросов77. Как термин со строгим значением, φρόνησις подвергается переосмыслению в «Никомаховой этике». При этом необходимо иметь в виду, что само наличие строгого терминологического значения того или иного слова языка не исключает возможности (и не запрещает) использовать его в обыденном, повседневном значении в тех случаях, когда это тематически не обусловлено.
Этические произведения
В первой книге «Метафизики» (981 b 25) Аристотель, рассуждая о «так называемой мудрости», ссылается на свою же «Этику». До нас дошли три этики, входящие в Corpus Aristotelicum (CA): «Никомахова этика» (EN), «Евдемова этика» (EЕ) и «Большая этика» (ММ). Также к этой общей группе принадлежит трактат «Об интеллектуальных (дианоэтических) добродетелях» (EN VI; ЕЕ V), в котором рассматриваются такие понятия как τέχνη, ἐπιστήμη, φρόνησις, νοῦς и σοφία.
Понятие σοφία включается Аристотелем в «Никомаховой этике» (EN VI) в ряд таких дианоэтических добродетелей как τέχνη, ἐπιστήμη, φρόνησις, νοῦς, уже определенным образом разработанных в «Аналитике». По мнению И. Н. Мочаловой78, анализ шестой книги «Никомаховой этики» указывает на то, что концепция софии еще только складывается. Об этом свидетельствует, в частности, колебание Аристотеля в оценке места софии , когда ей отказывается в знании первых начал (EN VI, 1141 а 1–2). Впрочем, далее Аристотель приходит все-же к выводу, что мудрец знает не только следствия из начал, «но и обладает истиной о началах» (EN VI, 1141 а 15–20), а сама «мудрость — это и научное знание, и постижение умом вещей, по природе наиболее ценных» (EN VI, 1141 b 2–3). В «Большой этике» Аристотель предлагает схожее рассуждение: «Мудрость сложена из знания и ума…» (ММ 1197 а 22).
В первой книге «Никомаховой этики» (EN Ι, 13 1103α) указываются два вида добродетели: этические (ἠθικας) и дианоэтические (διανοηθικάς). От рассмотрения способностей Аристотель переходит к рассмотрению укладов (ἕξις) души, подразумевая что есть соответственно уклады этические и дианоэти-ческие, т. е. нравственные и разумные. К дианоэтическим укладам Аристотель и относит τέχνη, φρόνησις, ἐπιστήμη, σοφία и νοῦς (EN VI). Σοφία, будучи сочетанием науки (ἐπιστήμη) и ума (νοῦς), становится наукой о том, что есть наиболее ценное (см. EN VI, 1141 b 2-3), и относится к эпистемической части τὸ λόγον ἔχον. В свою очередь φρόνησις оказывается добродетелью доксастиче-ской части и относится к сфере практического.
«Метафизика»
Первую книгу «Метафизики» (Мет. I, 981 b 27–29 a 2, b 2) Аристотель начинает с анализа концепции σοφία, причем ссылается как на свою «Этику», так и на «общее мнение», «подчеркивая этим широкое распространение в Академии понимания мудрости как науки о определенных причинах и началах»79. Об этом свидетельствует и схожее определение софии-мудрости Ксенократом: «мудрость, это наука о первых причинах и умопостигаемой сущности» (Ксе-нократ. фр. 6), где под умопостигаемой сущностью он понимает «сущность того, что вне (и выше) Неба» (фр. 5). В отличие от «Этики» в «Метафизике» Аристотель в качестве предмета мудрости указывает не только «начала» (ἀρχαί), но и «первые причины» (αἰτίαι), причем в большинстве случаев эти термины используются как синонимы: «все причины суть начала» (Мет. V, 1013 a 15–16). Поскольку понятие ἀρχή не было уникальным, Аристотель посвящает рассмотрению его различных значений первую главу пятой книги «Метафизики», и подытоживает: «… и природа, и элемент, и замысел, и реше ние, и сущность, и цель суть на чала» (Мет. V, 1013 a 20–21).
Вопрос, какое же из этих значений имеется в виду в определении софии , помогает прояснить третья глава пятой книги «Метафизики», посвященная понятию «элемент» (στοιχεῖον): «элементом называется и малое, и простое, и неделимое. Отсюда и возникло мнение, что элементы — это наиболее общее (τὰ μάλιστα καθόλου), т. к. каждое такое наиболее общее, будучи единым и простым, присуще многому» (Мет. V, 1014 b 8–10). Итак, «начало как элемент — это, в данном случае, единое, малое, простое, неделимое и поэтому наиболее общее, так как каждый элемент присущ многому»80. В «Протрептике» Аристотель отмечает, что «мудрость скорее занимается причинами и элементами, чем тем, что после них…» (fr. 33)81. Это высказывание практически совпадает с определением науки, данным в первой книге «Физики»: «мы тогда уверены, что знаем ту или иную вещь, когда уясняем ее первые причины, первые начала и разлагаем ее вплоть до элементов» (Физика 184 а 10–15).
В одиннадцатой книге «Метафизики», дающей сокращенное изложение III, IV и V книг82, Аристотель задается вопросом, «надо ли считать предметом искомой науки (мудрости. — прот. С. З. ) те начала, которые именуют элементами» (Мет. XI, 1059 b 22–23). Сама одиннадцатая книга начинается с определения, что «мудрость есть некоторая наука о началах» (XI, 1059 а 18). Далее Аристотель поднимает, в частности, такие вопросы: есть ли мудрость одна наука или несколько (XI, 1059 а 20–23); имеет ли одна наука своим предметом все сущности или нет, и занимается ли она только сущностями или также из свойствами, а «если она занимается и теми и другими, <надо иметь в виду, что> в отношении свойств может применятся доказательство, а по отношению к сущностям его не бывает; если же наука <в том и другом случае> другая, то какова каждая из них, и которая из двух — мудрость?» (XI, 1059 а 23–26, 29–34; пер. А. В. Кубицкого, 1934). А. В. Кубицкий приводит в комментарии к этому месту версию дальнейшего текста по конъектуре Росса, сам, впрочем, ее не придерживаясь: «ведь поскольку это — наука, дающая доказательства, мудрость есть та дисциплина, которая занимается <выводными> свойствами, а поскольку она имеет дело с первыми элементами, это — наука о сущностях»83.
Таким образом, Аристотель дает определение первой философии: «Так называемая мудрость… занимается первыми причинами и началами (τὰ πρῶτα αἴτια) … Мудрость (σοφία) есть наука об определенных причинах и началах» (Мет. I, 981 b 28 — 982 a 5), а наиболее строгими науками являются те, «которые больше всего занимаются первыми началами» (I, 982 а 25). А из «Никомахо-вой этики» следует, что σοφία, будучи сочетанием науки (ἐπιστήμη) и ума (νοῦς), есть наука о том, что есть наиболее ценное (см. EN VI).
Соответственно, σοφία, сочетающая ἐπιστήμη и νοῦς, есть наука о том, что наиболее ценное (см. EN VI). Как наука о первых началах, она есть наиболее строгая (Мет. I, 981–982). Она есть первая философия, исследующая «сущее как сущее» (VI, 1026 a 30). Если исходить из того, что первая философия, как наука о божественном (VI, 1026 a 10–20), предпочтительнее других умозрительных наук (математики и физики) — и, собственно, является теологией, — то можно сказать, что σοφία есть θεολογία.
Данная наука «наиболее божественна» и потому «наиболее ценима» (Мет. I, 983 a 5). Обладание этой наукой, отмечает Аристотель, «можно бы по справедливости считать выше человеческих возможностей» (I, 982 a 28), и «такая наука могла бы быть или только или больше всего у бога» (I, 983 a 10).
Заключение
Таким образом, оба мыслителя — Платон в большей, Аристотель в меньшей степени — используют слово σοφία в повседневном значении, будучи людьми своей эпохи. Что касается строгости философского словоупотребления, то у Платона мы обнаруживаем достаточно свободное использование терминологии. Он нередко использует слова «φρόνησις», «νοῦς», и «σοφία» в качестве синонимов, относя их к разумному началу человеческой души. Если нечто похожее и встречается у Аристотеля в «Протрептике» по отношению к «φρόνησις» и «σοφία», то это обусловлено скорее ненаучным, увещевательным жанром произведения.
В «Никомаховой этике» Аристотель проводит строгое смысловое разграничение между этими терминами, с целью зафиксировать их специфическое значение. Σοφία, будучи сочетанием науки (ἐπιστήμη) и ума (νοῦς), становится наукой о том, что есть наиболее ценное, и относится к эпистемической (ἐπιστημονικόν) части «τὸ λόγον ἔχον». В свою очередь, φρόνησις оказывается укладом доксастической (δοξαστική) части и относится к сфере практического.
В «Метафизике» σοφία, являющаяся центральной темой первых глав книги А, оказывается наукой о первых причинах и началах и практически отождествляется с первой философией, становясь теологией.
Как отмечалось выше, у Платона слово σοφία часто встречается в общеупотребительном значении, что объясняется, очевидно, культурным бэкграундом персонажей диалогов, являющихся чаще всего либо софистами, либо искателями софии-мудрости. Диалоги Аристотеля до нас не дошли, поэтому не вполне корректно сравнивать художественно оформленные драматические произведения одного мыслителя с научными трудами или конспектами лекций другого в отношении строгости терминов.
И Платон, и Аристотель в целом согласны, что σοφία относится определенным образом к области божественного, поэтому различие в понимании природы и сути мудрости в данном случае зависит уже от разных представлений о предельных основаниях бытия.
Поскольку школьный платонизм первых столетий по Р. Х. воспринимал Аристотеля (в первую очередь «органон»), как введение в божественного Платона, то и школьное определение мудрости как «знания вещей божественных и человеческих и их причин» могло в равной степени восходить к единой традиции. Это определение встречается у Цицерона (Об обязанностях II, 5) и в «Учебнике» Алкиноя, у Оригена (Против Цельса, III, 72) и у св. Василия
Великого, в древнейшем славянском флорилегии «Изборник Святослава» 1073 года (статья «Иосифо от Маккавей) и у Френсиса Бэкона (philosophia prima).
Важно отметить, что и у Платона, и у Аристотеля σοφία не персонифицируется, поэтому истоки позднейших софиологических спекуляций скорее следует искать в иудейской литературе премудрости, а также в различного толка мистико-эзотерических течениях рубежа эпох.
Источники и литература
Список литературы У Платона и Аристотеля. К вопросу об источниках софиологии
- Альбин. Учебник платоновской философии / Пер. Ю. А. Шичалина // Платон. Диалоги / Пер. с древнегреч.; сост., ред. и авт. вступит. статьи А. Ф. Лосев; примеч. А. А. Тахо-Годи. М.: Мысль, 1986. С. 437-475.
- Апулей. Платон и его учение / Пер. Ю. А. Шичалина // Учебники платоновской философии. Томск: Водолей, 1995.
- Аристотель. Евдемова этика: в 8 кн. / Пер. с древнегреч. Т. В. Васильевой, Т. А. Миллер, М. А. Солоповой. М., 2005. 448 с.
- Аристотель. Метафизика / Пер., примеч. А. В. Кубицкого. М.-Л., 1934.
- Аристотель. Протрептик / Пер. И. Н. Мочаловой // AKAAHMEIA: Материалы и исследования по истории платонизма. Вып. 4: сб. статей / Под ред. А. В. Цыба. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. С. 311-330.
- Аристотель. Протрептик. О чувственном восприятии. О памяти / Пер. на рус. Е. В. Алымовой. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. 183 с.
- Аристотель. Сочинения: в 4 т. / Пер. с древнегреч.; общ. ред. В. Ф. Асмуса, А. И. Доватура. М.: Мысль, 1976-1983.
- Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Общ. ред., вступит. ст. А. Ф. Лосева. М.: Мысль, 1979. 620 с.
- Исократ. Речи. Письма; Малые аттические ораторы. Речи / Сост. Э. Д. Фролов. М.: Ладомир, 2013. 1072 с.
- Климент Александрийский. Строматы. Книги 1-3 / Пер. с древнегреч., преди-сл., комм., библиогр. Е. В. Афонасина. Изд. 2-е, испр. и дополн. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2014. 352 с.
- Платон. Диалоги / Пер. с древнегреч.; сост., ред., авт. вступит. статьи А. Ф. Лосев; примеч. А. А. Тахо-Годи. М.: Мысль, 1986. 607 с.
- Платон. Собрание сочинений: в 4 т. / Под общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. М.: Мысль, 1990-1994.
- Платон. Федр / Пер. А. Н. Егунова; ред., вступ. статья, комм. Ю. А. Шичалина. М.: Гнозис, 1989. 133 с.
- Фрагменты ранних греческих философов. Ч.1. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики / Сост. А. В. Лебедев. М.: Наука, 1989. 576 с.
- Apulei. De dogmate Platonis liber secundus // Project Libellus. URL: http://www. thelatinlibrary.com/apuleius/apuleius.dog2.shtml (дата обращения 13.10.20)
- Aristoteles et CA [0086] / Thesaurus Linguae Graecae // UC Regents. URL: http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/indiv/csearch.jsp#doc=tlg&aid=0086&wid=&q=ARI ST0TELES%20et%20C0RPUS%20ARIST0TELICUM&dt=list&cs sort=1 sortname
- asc&st=author_text&aw=&verndipl=0&per=50&c=3&acp=1&editid= (дата обращения 12.10.20).
- Diogenes Laertius. Lives of Eminent Philosophers / Ed. by R. D. Hicks. Cambridge: Harvard University Press, 1972. // Perseus Digital Library. URL: http://www.perseus.tufts. edu/hopper/text?doc=urn:cts:greekLit:tlg0004.tlg001 (дата обращения 10.10.20).
- Plato. Definitiones (Sp.) [0059.037] / Thesaurus Linguae Graecae: A Digital Library of Greek Literature // UC Regents. URL: http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/ Cite?0059:037:8394 (дата обращения 12.10.20).
- Platonis opera / Ed. by J. Burnet. Vol. 1-5. Oxford: Clarendon Press, 1900 (repr. 1967). (UC Regents. URL: http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/indiv/csearch.jsp#doc=tlg&aid =0059&q=PLAT0&dt=list&st=author_text&per=50 (дата обращения 12.10.20)).
- Аверинцев С. С. К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской // Его же. Собрание сочинений / Под ред. Н. П. Аверин-цевой, К. Б. Сигова. София-Логос. Словарь. К.: ДУХ I Л1ТЕРА, 2006. С. 548-591.
- Алымова Е.В. Комментарий к Протрептику // Аристотель. Протрептик. О чувственном восприятии. О памяти. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. С.59-98.
- Алымова Е.В. Предисловие переводчика // Аристотель. Протрептик. О чувственном восприятии. О памяти. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. С. 3-19.
- АхутинА.В. «Фюсис» и «натура». Понятие «природа» в Античности и в Новое время // Его же. Эксперимент и природа. СПб.: Наука, 2012. С. 389-656.
- Ахутин А. В. Философское уморасположение. Курс лекций по введению в философию. М.: РИПОЛ классик, 2018. 384 с.
- Бородай Т.Ю. Рождение философского понятия. Бог и материя в диалогах Платона. М.: Изд. Савин С. А., 2008. 284 с.
- БугайД.В. Как читать платоновский «Теэтет». К интерпретации «диалектических» диалогов // Журнал «Вопросы философии». URL: http://vphil.ru/index. php?option=com_content&task=view&id=1864&Itemid=52 (дата обращения 16.10.20).
- Ваганова Н.А. Софиология протоиерея Сергия Булгакова. М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. 464 с.
- Васильева Т.В. Афинская школа философии // Ее же. Поэтика античной философии. М.: Академический Проект; Трикста, 2008. С. 23-216.
- Витгенштейн Л. О достоверности // Его же. Философские работы. Ч.1 / Сост., вступ. статья, примеч. М. С. Козловой; пер. М. С. Козловой, Ю. А. Асеева. М.: Гнозис, 1994. С. 322-405.
- Глухов А.А. Интерпретация // Платон. Федр / Пер., введ.. интерпретация, указ. имен, примеч. А. А. Глухова. СПб.: Издательство РХГА, 2017. С. 107-174.
- Диллон Дж. Наследники Платона: Исследование истории Древней Академии (347-274гг. до н. э.) / Пер. с англ. Е.В. Афонасина. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. 281 с.
- Клейнер С.Д., ПоздневМ.М. «О древнегреческой ЕОФ1А»: послесловие // EINAI. 2012. Т. 2 (2). С. 478-484.
- Кубицкий А. В. Примечания к переводу Метафизики // Аристотель. Метафизика. М.-Л., 1934.
- Майоров Г. Г. Философия как искание Абсолюта: Опыты теоретические и исторические. Изд. 2-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 416 с.
- Мочалова И.Н. Метафизика ранней академии и проблемы творческого наследия Платона и Аристотеля // AKAAHMEIA: Материалы и исследования по истории платонизма. Вып. 3: Межвуз. сб. / Под ред. А. В. Цыба. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. С. 226-348.
- Орлов Е.В. Философский язык Аристотеля / Отв. ред. В.П. Горан. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2011. 317 с.
- Топоров В. Н. Еще раз о древнегреческой ЕОФ1А: происхождение слова и его внутренний смысл // Структура текста. М.: Наука, 1980. С. 148-173.
- Флоренский П., свящ. Сочинения: в 4 т. Т.3 (2). М., 2000. 623, [1] с.
- Френч М. Лик Премудрости / Пер. с нем., вступ. ст. и примеч. Н. К. Бонец-кой. СПб.: Росток, 2015. 527 с.
- Шичалин Ю. А. Платон и Corpus Platonicum: константы новой парадигмы // Его же. PLATONICA I. Сб. статей. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2018. С. 121-143.
- Gullry N. Review: Heinz Gerd Ingenkamp: Untersuchungen zu den pseudoplatonischen Definitionen. (Klassisch-Philologische Studien, 35.) Pp. 120. Wiesbaden: Harrassowitz, 1967. Paper, DM. 24. // The Classical Review. 1969. Vol. 19 (03). P. 375-376.
- The Oxford Handbook of Plato / Ed. by G. Fine. NY, 2008. 688 р.
- Европейский словарь философий: Лексикон непереводимостей / Под рук. Б. Кассен; пер. с фр. Т. 1. К.: ДУХ I Л1ТЕРА, 2015. 452 с.
- Истрин В. М. Книги временные и образные Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Текст, исследование и словарь. Т. III. Греческо-славянский и славяно-греческий словари. Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1930.
- Словарь русского языка XI-XVIII вв. / Ред. Г. А. Богатова. Вып. 9 (М). М.: Наука, 1982.
- Словарь русского языка XI-XVIII вв. Вып. 18 (Потка-Преначальный). М.: Наука, 1992.
- СрезневскийИ.И. Материалы для словаря древне-русскаго языка по письменным памятникам: в 3 т. Т.2 (Л-П). СПб., 1902.
- Chantraine P. Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque. Histoire des Mots. T. IV-1 (P-Y). Paris, 1977.
- Frisk H. Griechisches Etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1960.