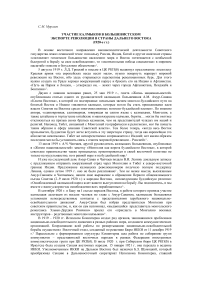Участие калмыков в большевистском экспорте революции в страны Дальнего Востока (1920-е гг.)
Автор: Мургаев Савр Майорович
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 14, 2006 года.
Бесплатный доступ
Революция, калмыцкие коммунисты, дальний восток
Короткий адрес: https://sciup.org/14913342
IDR: 14913342
Текст статьи Участие калмыков в большевистском экспорте революции в страны Дальнего Востока (1920-е гг.)
В основе восточного направления внешнеполитической деятельности Советского государства лежал ленинский тезис: поскольку Россия, Индия, Китай и другие азиатские страны «составляют гигантское большинство населения» мира и Восток «втягивается с необычной быстротой в борьбу за свое освобождение», то «окончательная победа социализма» в мировом масштабе «вполне и безусловно обеспечена»1 .
-
5 августа 1919 г. Л.Д. Троцкий в письме в ЦК РКП(б) выдвинул предложение: поскольку Красная армия «на европейских весах весит мало», нужно повернуть маршрут мировой революции на Восток, ибо здесь открывается перспектива революционных бурь. Для этого нужно создать на Урале хорошо вооруженный корпус и бросить его на Индию и Афганистан. «Путь на Париж и Лондон, – утверждал он, – лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии»2 .
Двумя с лишним месяцами ранее, 25 мая 1919 г., газета «Жизнь национальностей» опубликовала статью одного из руководителей калмыцких большевиков А.М. Амур-Санана «Ключи Востока», в которой он подчеркивал: начальным звеном монголо-буддийского пути на богатый Восток и Индию «являются калмыки, которые могли бы стать проводниками идеи власти Советов на Востоке среди многомиллионных монголо-буддийский племен». По мнению автора, «единокровная, единоверная, говорящая на одном языке с калмыками, Монголия, а также алтайские и торгаутские китайские и маньчжурские калмыки, буряты… могли бы охотнее откликнуться на призыв своих братьев калмыков, чем на представителей чуждых им наций и религий. Наконец, Тибет, связанный с Монголией географически и религиозно, мог бы попасть таким образом в сферу влияния Советской власти». Тем более теперь, «когда весь Восток просыпается, буддистам будет легче вступить в эту запретную страну, тогда как европейцам это абсолютно невозможно. Тибет же непосредственно соприкасается с Индией; вот каким образом последняя могла бы установить связь с очагом мировой революции – Россией»3 .
-
13 июля 1919 г. А.Ч. Чапчаев, другой руководитель калмыцких большевиков, опубликовал в «Жизни национальностей» заметку «Монголия как ворота буддийского Востока», в которой советское правительство также призывалось ориентироваться в своей восточной политике не только на мусульманство, но в равной мере и на буддийский мир.4
И уже на следующий день Амур-Санан и Чапчаев подали В.И. Ленину докладную записку с предложением отправить вооруженный отряд через Монголию и Тибет к северо-восточной границе Индии. Предложение калмыцких революционеров получило полную поддержку Ленина, однако летом 1919 г. оно не было реализовано5 . Тем не менее мысли, высказанные Амур-Сананом и Чапчаевым, нашли свое выражение в обращении Первого общекалмыцкого съезда Советов (2–9 июля 1920 г.) к народам Востока, исповедующим буддийскую религию: «Освобожденный калмыцкий народ ждет вашего выступления на борьбу. Вы поднимитесь, и мы вместе с вами ускорим час освобождения всех порабощенных»6 .
В сентябре 1920 г. в Баку на I съезде народов Востока, в работе которого приняла участие калмыцкая делегация из восьми человек во главе с Амур-Сананом, калмыцкие большевики установили непосредственные контакты с представителями зарубежного национальноосвободительного движения7 . Амур-Санан был избран представителем Монголии при советском правительстве, и, как он сам вспоминал, «выдающийся представитель монгольского ренессанса Эльвек-Дорджи Ринчино» просил его «присласть в Монголию военных инструкторов – родственных монголам калмыков»8 .
В 1919 – 1920 гг. Исполком Коминтерна создал ряд органов, занимавшихся проблемами национально-освободительного движения в разных районах мира, созданием коммунистических организаций. Координацию всей работы по развертыванию национально-освободительной борьбы осуществлял Восточный отдел, созданный по решению Бюро ИККИ от 11 декабря 1919 г.9 Параллельно с формированием структуры Коминтерна шла работа по собиранию групп коммунистов – представителей восточных народов в рамках Федерации иностранных коммунистических групп при ЦК РКП(б). В июле 1920 г. при Сибирском бюро ЦК РКП(б) в Иркутске была создана Секция восточных народов. 15 января 1921 г. она перешла в ведение ИККИ. Уполномоченным ИККИ на Дальнем Востоке был назначен Б.З. Шумяцкий, который преобразовал Секцию в Дальневосточный секретариат Исполкома Коминтерна, ставший фактически штабом по руководству всей коммунистической и революционной работой в странах Восточной и Центральной Азии10 .
Уже 10 февраля 1921 г. состоялось заседание Президиума и Монголо-тибетского отдела Дальневосточного представительства Коминтерна. Был рассмотрен вопрос «О положении Монголии и ближайших практических задачах Дальневосточного представительства Коминтерна в Монголии». Совещание пришло к выводу, что необходима срочная помощь монгольским революционерам и что промедление с этим грозит серьезными осложнениями, одинаково опасными для данного района мировой революции, Совроссии и Монголии11 .
В начале 1921 г. Б.З. Шумяцкий писал в ИККИ по поводу задач Коминтерна в отношении Монголии: «Работа эта имеет два первоочередных задания: организационное усиление Монгольской нарревпартии, которая на днях должна захватить власть, провозгласить действительную независимость Монголии и начать партизанскую борьбу против нашествия иноземных белобандитов – унгернцев и реакционных монголокнязей, – и организацией ее боевых партизанских сил. С этой целью монголо-тибетским отделом мобилизованы все наши наличные полит- и военмонголработники и брошены к месту событий»12 .
Ударной силой мобилизованных работников стала группа военных инструкторов-калмыков, набранная по приказу Реввоенсовета РСФСР Х.Б. Кануковым13 . Пройдя месячные курсы конспиративной работы в Омске и оставив свои документы, через Дальневосточный секретариат Коминтерна в Иркутске она направилась в Монголию14 . Члены ее были распределены по частям Монгольской народно-революционной армии на должности командиров полка, эскадрона и взвода, а также инструкторов. Этноконфессиональная близость к монголам позволила инструкторам-калмыкам работать в штабах, частях и подразделениях МНРА, а также в пограничных частях в Гурбун-Баине, Тымсык-Булаке, Заман-Удэ, Дариганге, Солонкере, Кобдо и других местах.
В этом отношении весьма показательна «монгольская судьба» Канукова (Итрах Вакунаев, «Дедушка»). Он был назначен начальником Разведывательного управления Монгольской народно-революционной армии, являлся первым комендантом Урги, организатором не только армейских, но и пограничных подразделений, организовывал агентурную разведку против Китая15 . Он принимал активное участие и в общественно-политической жизни Монголии: был инициатором организационного собрания Союза монгольской революционной молодежи, членом которого состоял до самого своего выезда из Монголии в 1924 г., принимал активное участие в организации монгольского кооперативного движения16 . В 1922 г. за свою безупречную работу он был удостоен высшего воинского звания Монголии – «гушегана» (генерала). И одним из первых был награжден орденом Боевого Красного Знамени МНР17 .
Организация советской и монгольской агентурной разведки в Синьцзяне опиралась не только на этноконфессиональную близость калмыков к северо-западным монголам Китая, но и на настроения последних. Родственные волжским калмыкам народы Поднебесной до сих пор в первую очередь осознают себя ойратами (торгутами, олетами, хошутами и т. д.), а потом уже монголами18 . В докладе Канукова, подготовленном для Восточного отдела НКИД РСФСР, указывалось на антикитайские настроения джунгарских торгутов и отмечалось, что они «согласно своих легенд и устами народа мечтают издавно и сейчас, что из Волги должны перейти остатки торгоутов и освободить их от китайского ига и возродить самостоятельность»19. Важность этого внешнеполитического направления деятельности Москвы обосновывалась в докладе тем, что «с влиянием Советской России в Монголии, идея социализма и освобождения трудящихся подходит вплотную к великой китайской стене»20 .
Идеи доклада Канукова были созвучны взглядам народного комиссара иностранных дел РСФСР Г.В. Чичерина, который внимательно следил за всеми политическим изменениями на Дальнем Востоке, и в частности в Монголии. Он считал Монголию «самым серьезным аванпостом наступления революционных идей в Тибет и Китай, Индию»21 .
Для распространения коммунистического влияния в этом направлении Кануков предлагал переселить калмыков из РСФСР в Кобдоский округ Монголии, примыкавший к китайской провинции Синьцзян, которая граничила с Тибетом22 . В реализации этого плана было заинтересовано и монгольское правительство, которое, «чтобы сгустить свое редкое население и усилить свои реальные силы… приглашает заселить все родственные им народности из Совроссии, как, например, принятие в подданство в Монголии до 5 000 семей бурят, проживающих на территории Монголии, и приглашение переселиться голодающих калмыков из Волги»23 .
Постановлением № 105 от 22 января 1922 г. монгольское правительство не только приглашало калмыков, но и обещало переселенцам оказать денежную и материальную помощь, освободить на несколько лет от государственных и местных налогов24 . И хотя план переселения калмыков не был реализован, идея соединения российских калмыков с китайскими была очень популярна среди калмыков25 . Вопрос о необходимости налаживания и развития связей с китайскими калмыками Чапчаев пытался поднять в Политбюро большевистской партии26 . А руководством Калмыкии активно собиралась научная литература по истории, археологии и этнографии Монголии и Тибета27 .
Во второй половине 1921 г. Москва сосредоточила усилия на восточно- и центральноазиатском направлениях. В центре ее внимания оказались Китай и Тибет. Осенью началась реализация плана, предложенного Ленину в 1919 г. Амур-Сананом и Чапчаевым: была подготовлена и направлена в Тибет экспедиция Ямпилова – Хомутникова, которая провела большую дипломатическую и разведывательную работу в Лхасе28 . В.А. Хомутников, прибывший в Монголию в составе группы Канукова и зачисленный в штат МНРА на должность инструктора бригады, фактически выполнял специальные задания советского и монгольского правительств, постоянно выезжал то в РСФСР, то в ДВР как дипломатический курьер, то в Китай, Тибет и Индию с разведывательными заданиями29 .
Назначение Хомутникова политическим комиссаром первой экспедиции в Тибет было продиктовано, во-первых, тем, что был необходим калмык-коммунист, которому предстояло непосредственно общаться с далай-ламой. Во-вторых, одним из секретарей верховного правителя Тибета был земляк Хомутникова – донской калмык Шарап Тепкин. Поэтому, инструктируя его накануне поездки, В.И. Юдин, представитель НКИД РСФСР при частях РККА в Монголии, советовал ему по приезде в Лхасу обратиться к Тепкину, который может устроить встречу с далай-ламой и быть переводчиком30 . В-третьих, необходим был человек, способный организовать разведывательную работу31 . Историк В.Ш. Бембеев, анализируя архивные документы, в которых зафиксирована конспиративная деятельность Хомутникова, пришел к выводу, что тот «добыл много ценных сведений, которые имели важное значение в выборе и установлении дипломатических отношений РСФСР со странами Востока32 .
В заключении отчетного доклада Хомутникова подчеркивалось: «…Если будет отправлена в Тибет новая экспедиция, то для большего успеха необходимо ее основательно снабдить деньгами, дорожным снаряжением, хорошими проводниками, хорошо вооруженным конвоем, фотографическими аппаратами», а главное, чтобы «руководители ее были бы знакомы с бытом восточных народов»33 .
Еще одна дипломатическая и разведывательная экспедиция в Тибет под видом сугубо религиозной миссии была осуществлена в 1926– 1927 гг. также благодаря участию в ней калмыков: Чапчаева (фактический руководитель), М.Т. Бимбаева (выполнявшего секретное задание начальника Разведуправления Штаба РККА Я.К. Берзина), Ш. Ландукова (инструктор МНРА, конвоир экспедиции)34 . Несмотря на безрезультатность переговоров с далай-ламой, пребывание экспедиции Чапчаева в Лхасе не стало потерей времени: и Бимбаев, и Чапчаев постарались выполнить конфиденциальные пункты своей «тибетской программы». Они вели активную политическую и военную разведку, в результате которой Москва получила весьма ценные сведения о Тибете35 . Но главное, как писал советский полпред и одновременно торгпред в Урге П.М. Никифоров, «те, хотя и малые, сведения, которые привез нам из последней поездки полит. агент Чапчаев, дают нам возможность делать некоторые практические шаги для установления нашего прямого влияния в Тибете»36 .
Таким образом, в 1920-е гг. советское правительство в своей политике экспорта революции в страны Дальнего Востока активно использовало этноконфессиональные особенности калмыков. С другой стороны, этому способствовало и то обстоятельство, что для калмыцких коммунистов были характерны элементы не только революционного утопизма, но и мессианства.
Список литературы Участие калмыков в большевистском экспорте революции в страны Дальнего Востока (1920-е гг.)
- Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 404.
- Шириня К.К. Идея мировой революции в стратегии Коминтерна//Новая и новейшая история. 1995. № 5. С. 45.
- А.М. Амур-Санан -певец революции. Элиста, 1988. С. 163.
- Андреев А.И. От Байкала до священной Лхасы: Новые материалы о русских экспедициях в Центральную Азию в первой половине ХХ века (Бурятия, Монголия, Тибет). С.Пб.; Самара; Прага, 1997. С. 128. 5 Там же. С. 128-129. 6 Первый Общекалмыцкий съезд Советов 2-9 июля 1920 года: Протоколы. Элис та, 1971. С. 202. 7 Очерки истории К алмыцкой организации КПСС. Элиста, 1980. С. 46.
- Амур-Санан А.М. Мудрешкин сын. Элиста, 1987. С. 177-178.
- Адибеков Г.М., Шахназарова Э.Н., Шириня К.К. Организационная структура Коминтерна, 1919-1943. М., 1997. С. 10.
- Там же. С. 26.
- Фирсов Ф.И. Л енин, Коминтерн и становление коммунистических партий. М., 1985. С. 163.
- Роль и значение помогли международного коммунистического движения в становлении и развитии МНРП. М., 1978. С. 53.
- Бимбаев М.Т. Судьба моя военная. Элиста, 1983. С. 40.
- Национальный архив Республики Калмыкия (Далее -НА РК). Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 4. Л. 125-128.
- НАРК. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 2. Л. 67.
- НАРК. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 4. Л. 127 об.
- Кануков Х.Б. Избранные статьи, речи и выступления (1918-1927 гг.). Элиста, 1973. С. 9.
- Решетов А.М. Монгольские народы КНР: к проблеме этнического состава и современных этнокультурных процессов//Материальные и духовные основы калмыцкой государственности в составе России (к 360-летию со дня рождения хана Аюки). Ч. 1. Элиста, 2002. С. 153.
- НАРК. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 4. Л. 191.
- Там же. Л. 187об.
- Шишкин О. Битва за Гималаи. НКВД: магия и шпионаж. М., 1999. С. 98.
- НАРК. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 4. Л. 187-195.
- Там же. Л. 190.
- Там же. Л. 191-191об.
- Архив УФСБ РК. Д. 940-р. Л. 78.
- Там же. Л. 132.
- Архив УФСБ РК. Д. 931-р. Т. 8. Л. 66.
- НАРК. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 4 «а». Л.1 -19.
- Бембеев В.Ш. Человек из легенды (О жизни и деятельности В.А. Хомутникова). Элиста, 1991. С. 81.
- Архив УФСБ РК. Д. 940-р. Л. 10.
- Бембеев В.Ш. Указ. соч. С. 82.
- НАРК. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 2. Л. 150.
- Бембеев В.Ш. Указ. соч. С. 172-193.
- НАРК. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 4 «а». Л. 18.
- Андреев А.И. Указ. соч. С. 172-193.
- Архив УФСБ РК. Д. 422-р. Т. 1. Л. 71, 89; Т. 2. Л. 125; НА РК. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 2.
- Андреев А.И. Указ. соч. С. 206.