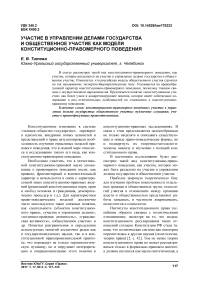Участие в управлении делами государства и общественное участие как модели конституционно-правомерного поведения
Автор: Титова Елена Викторовна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы теории государства и права, конституционного и административного права
Статья в выпуске: 2 т.17, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрен такой вид конституционно-правомерного поведения, как участие, которое разделяется на участие в управлении делами государства и общественное участие. Отмечается, что российская модель общественного участия строится по так называемому экспертно-бюрократическому типу. Указывается на правообразующий характер конституционно-правомерного поведения, поскольку таковое связано с осуществлением народовластия. Предлагается понятие «конституционное участие» как более узкое и конкретизирующее понятие, которое имеет собственное содержание и ряд отличительных особенностей по отношению к конституционно-правовому поведению.
Конституционно-правомерное поведение, участие в управлении делами государства, общественное участие, публичные слушания, участие в правообразующих правоотношениях
Короткий адрес: https://sciup.org/147150139
IDR: 147150139 | УДК: 340.2 | DOI: 10.14529/law170222
Текст научной статьи Участие в управлении делами государства и общественное участие как модели конституционно-правомерного поведения
Конституционное изменение в системе «человек-общество-государство», переворот в идеологии, внедрение новых ценностей и представлений о праве актуализировали необходимость изучения отраслевых моделей правового поведения, что в полной мере относится к исследованию такого его вида, как конституционно-правомерное поведение.
Необходимо отметить, что в отечественной конституционно-правовой науке упоминание о правомерном поведении носит, как правило, фрагментарный и вспомогательный характер и используется в связи с характеристикой иных конституционно-правовых явлений (реализаций конституционных норм, прав и свобод человека и гражданина, демократических процедур и т.д.). Для характеристики право-поведенческих моделей достаточно часто используются такие смежные понятия, как «деятельность субъектов конституционного права», «участие в управлении делами», «политико-правовая активность», «гражданская активность», «общественное участие» и др. Попытки разграничения и определения используемых понятий достаточно редки как в государствоведческих науках, так и в конституционной правоприменительной практике, что порождает не только терминологическую путаницу, но и затрудняет интерпретацию и операционализацию этого понятия в конституционно-правовых исследованиях. В связи с этим представляется целесообразным не только выделять и описывать существующие и новые право-поведенческие формы, но и подвергнуть их теоретико-методологическому анализу и изучению с позиций конституционного права.
В настоящем исследовании будет рассмотрен такой вид конституционно-правомерного поведения, как участие, которое может быть разделено на участие в управлении делами государства и общественное участие.
Наиболее широкую теоретическую базу для изучения проблем вовлеченности отдельных граждан и общественных групп, технологий участия в отношениях между органами власти и общественностью представляют работы западных, в частности американских, политологов и социологов.
Институты конституционного права теснейшим образом связаны с политическими отношениями, несмотря на то, что модель конституционного регулирования таких отношений согласно Конституции РФ стала такова, что политическая система как категория переместилась к другим наукам (политологии, теории права) [5, с. 42]. Тем не менее теория конституционного права не может рассматриваться только в формально-правовом аспекте, а должна изучаться как наука синтетическая, а политический подход к изучению конституций позволяет раскрыть сущность данного феномена [12, с. 50].
Политико-правовое поведение (а именно этот тип поведения наиболее близок к конституционно-правовому поведению), чаще всего связывается исследователями с категорией «политическое участие» и рассматривается как один из основных элементов данного типа поведения [14, с. 170–176]. По общему признанию исследователей, в политической науке не выработано однозначного определения понятия «политическое участие» и достаточно затруднительно разграничение понятий «гражданское участие», «общественное участие» (civic, public, social participation). Не меньшие методологические затруднения имеют место быть и в правоведении, поскольку указанные категории зачастую определяются одно через другое или же вообще используются как синонимичные.
В отечественном конституционном праве вовлеченность граждан в процесс выработки и принятия публично-властных решений традиционно рассматривается как право граждан в управлении государственными и общественными делами. Данное право впервые было закреплено в ст. 48 Конституции СССР 1977 года, а затем и в Конституции РСФСР 1978 года (ст. 9, 47). Конституционная формула участия граждан образца 1993 года существенно отличается от формулировок ранее действующих конституций. Исключение участия российских граждан в управлении делами общества, образовало как бы две не пересекаемые сферы – общественные дела и государственные дела, разделив общественные и государственные интересы.
Участие в управлении делами государства, согласно п. 1 ст. 32 Конституции РФ, детерминировано наличием гражданства и в конституционно-правовой доктрине рассматривается как в составе политических прав, элементов конституционно-правового статуса субъектов общественно-политических отношений, так и в составе механизма власти народа. Классификация форм участия в управлении делами государства в достаточно развернутом виде была представлена М. А. Лип-чанской и включает в себя следующие виды: 1) формы участия в зависимости от сферы применения – реализуемые в области правотворчества; в сфере исполнительной власти; в сфере отправления правосудия; 2) исходя из стадий управленческого процесса – участие граждан в формировании органов публичной власти, деятельности этих органов; 3) по субъектам применения – коллективные и индивидуальные формы участия граждан в управлении делами государства; 4) формы участия в зависимости от способа применения – прямые и опосредованные; 5) исходя из уровня нормативного закрепления – конституционные, законодательно-определенные и не имеющие нормативного закрепления; 6) с точки зрения субъективных поведенческих факторов – добровольное и принудительное участие; 7) в зависимости от интенсивности и последовательности – регулярные и иррегулярные формы участия граждан в управлении делами государства; 8) в соответствии с критерием содержательной направленности – легитимирующие и протестные формы. В первом случае активность субъектов гражданского общества направлена на поддержку деятельности государственных институтов, признание их субъектного состава, принятых решений и т.д. Во втором – предполагается негативная реакция субъектов на сложившуюся в обществе политическую, экономическую, иную ситуации или конкретные действия государственных органов и их должностных лиц [7, с. 130].
Общественное участие исследовано в науке конституционного права менее системно в силу ряда причин. С. А. Авакьян в одной из своих работ, посвященных конституционной теории и практике публичной власти, анализируя ее закономерности и отклонения, отметил, что народовластие, закрепленное как ключевой фактор конституционного строя России, в большей мере трактуется в Конституции 1993 года как государственное народовластие, то есть осуществляемое государственными органами. У общества же есть лишь соучастие во власти государства и средства воздействия на государственную власть. Далее, развивая идею о необходимости расширения как трактовки народовластия, так и того, что последнее предполагает и осуществление власти в обществе как организацию управления общественными делами, ученый предлагает считать это «позитивным отклонением», то есть дополнением одной конституционной закономерности другой, не менее необходимой [2].
В западной политологии идеи общественного участия активно разрабатываются в контексте концепции «демократии участия» и таких ее видов, как партиципаторная демократия (от лат. participate – участвовать) и де-либеративная демократия (от лат. deliberatio – размышление, от англ. deliberate – советоваться, совместно рассматривать). В самом общем плане партиципация может быть определена как «всякая добровольная активность, направленная на то, чтобы влиять, прямо или косвенно, на политический выбор на различных уровнях политической системы» [6, с. 153–155]; делиберативную демократию наиболее кратко определяют как «честное и открытое обдумывание сообществом достоинств конкурирующих политических аргументов» [2].
Разделяя политологическое и конституционно-правовое понимание категории «общественное участие», отметим следующее.
В политологии следует выделить западную и российскую интерпретацию феномена «общественное участие». В западной в наиболее широком смысле участие характеризуется как «ситуативная практика», реализуемая в рамках определенного территориального и социального пространства с присущими политическими, социальными, культурными и историческими особенностями [10, с. 49–58]. Участие как действия частных граждан, посредством которых они стремятся повлиять на власть и политику или поддержать ее, может быть «поддерживающим» (предполагает демонстрацию приверженности правящему режиму); «влияющим» (попыткой изменить приоритеты государственной политики или повернуть ее в другом направлении в соответствии с интересами конкретных участников политического процесса); существует «контактирующее участие», которое зависит от социально-экономического статуса участников (чем он выше, тем чаще они обращаются к должностным лицам для консультаций и согласований); кроме того, речь может идти о публичных и приватных формах участия (последние служат частным интересам в ущерб интересам большинства, но вместе с тем демонстрируют вовлеченность граждан в общественное участие) [9, с. 208]. Кроме того, различают следующие уровни участия: информационное, когда власть дает некоторую информацию (обычно задним числом) о своих планах; содействующее, когда правительст- венные структуры дают возможность сделать свой вклад (письменно или устно) в обсуждение этих планов; дискуссионное, когда помимо информации и сбора «отзывов» (реакции на информацию) правительственные структуры предоставляют возможность принять участие в обсуждении (форумы, слушания) своих планов; соучастие, когда граждане имеют возможность непосредственно участвовать в разработке решения [9, с. 53].
В российской политологической практике понятие «общественное участие» во многом совпадает по смыслу с понятием «гражданское участие». Акцент делается на вовлеченность граждан в обсуждение и разработку политических, социально-экономических, культурных программ и проектов, разнообразных гражданских инициатив. Указанные формы участия, по крайней мере в трактовке отечественных исследователей, являются менее связанными с властными отношениями и более всего применимы к таким институтам гражданского общества, как некоммерческие общественные организации. Тем самым подчеркивается различие в деятельности политических партий и движений третьего сектора. Российский вариант трактовки общественного и гражданского участия не предполагает включение в них электоральной и протестной активности [8, с. 30–33].
Конституционно-правовая наука преимущественно сосредоточена на поиске набора средств самоорганизации общества и его влияния на государственную власть. Конституционную основу общественного участия составляют ст. 3, 13, 29, 30 и 31 Конституции РФ, которые гарантируют право народа на участие в осуществлении публичной власти; свободу общественного мнения и путей его выражения; право на объединение; свободу собираться в публичных местах и политический плюрализм.
Необходимо отметить, что российская модель общественного участия строится по так называемому экспертно-бюрократическому типу, когда структуры, занимающиеся анализом общественных инициатив, трансформацией их в процесс выработки и реализации политических решений, организованы самим государством и действуют либо в его структуре, либо «аффилированы» с ним. Данная модель имеет как преимущества, так и недостатки. Первые выражаются в прямом выходе требований общественных групп на государственные механизмы принятия решений, вторые заключаются в том, что государственная бюрократия подвергает эти требования существенной корректировке, имеет возможность и зачастую прибегает к сужению ресурсов институтов гражданского общества и организационных средств выражения общественного мнения. Достаточно явно это подтверждается ужесточением требований к проведению митингов и демонстраций, злоупотреблением правом согласования, а точнее – несогласования публичных мероприятий со стороны органов исполнительной власти, сведением «на нет» практики императивных референдумов и отсутствием норм, регламентирующих консультативные референдумы на уровне большинства субъектов Российской Федерации. К сожалению, этот перечень можно продолжать достаточно долго. Применительно к право-поведенческой модели общественного участия это означает, что государство проявляет заинтересованность в развитии только контролируемой активности со стороны общества, достаточно негативно реагируя на проявления такой активности в отношении «не удобных» для государства направлениях.
Необходимо отметить, что в юридической литературе участие структур гражданского общества характеризуется как правообразующее правоотношение [4], связанное с реализацией принципа народовластия (ч. 1 ст. 3 Конституции РФ). Под правообразующими правоотношениями предлагается понимать специфические по содержанию и характеру правовые отношения, связанные с разработкой, принятием и изданием государственными органами правовых актов различной формы, а также участием граждан и организаций в данном процессе посредством выражения волеизъявления относительно характера и содержания принимаемых правовых норм [13, с. 148]. Базовой основой правообразующих отношений являются конституционные нормы, предусматривающие участие в управлении делами государства, участие в референдуме, участие в отправлении правосудия (п. 1, 2, 5 Конституции РФ). Определяемое конституционными установлениями поле так называемой делиберативной демократии предусматривает различные формы конституционного участия в обсуждении общественно важ- ных вопросов, основной из которых являются публичные слушания, легитимность которым была предана Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Исследователи данного конституционно-правового института предлагают следующую классификацию публичных слушаний: 1) в зависимости от инициирующего субъекта, слушания подразделяются на инициируемые общественностью и управляющим субъектом; 2) от уровня организации публичной власти слушания делятся на местные, региональные и федеральные, а также межрегиональные и межмуниципальные; 3) по степени необходимости их можно разделить на обязательные (принудительные) и необязательные (факультативные); 4) в зависимости от включенности публичных слушаний в правотворческий процесс выделяются два вида слушаний – включенные и не включенные; 5) по критерию периодичности – постоянные и ситуативные (случайные) [11, с. 472].
Реализация публичных слушаний как института делиберативной демократии оказывает значительное влияние на модель конституционно-правомерного участия, которое выражается в том, что при их проведении имеет место высокий уровень публичной самоорганизации, морализующий воздействие и рационализирующий влияние, результатом которого является переход от личных интересов к суждениям, исходящим из интересов общего блага.
Представляется, что в теоретикометодологическом плане рассмотренные формы участия могут быть обозначены понятием «конституционное участие», которое представляет собой более узкое и конкретизирующее понятие, имеет собственное содержание и ряд отличительных особенностей по отношению к конституционно-правовому поведению:
– являясь формой правовой активности, оно противопоставляется не только участию или уклонению от участия (например, избирателей от участия в выборах), но и бездействию, которое также является формой конституционно-правового поведения;
– характеризуя преимущественно действия граждан, оно подразумевает осознанный, рациональный и целенаправленный характер в противоположность стихийным действиям иных субъектов;
– выполняет инструментальную роль для описания конституционно-правомерного поведения, поскольку последнее как юридическая категория является более широким понятием.
Список литературы Участие в управлении делами государства и общественное участие как модели конституционно-правомерного поведения
- Авакьян, С. А. Конституционная теория и практика публичной власти: закономерности и отклонения/С. А. Авакян//Конституционное и муниципальное право. -2015. -№ 10. -С. 5-11.
- Бессет, Д. М. Делиберативная демократия и американская система государственной власти/Д. М. Бессет. -М.: РОССПЭН, 2011. -336 с.
- Джанда, К. Трудным путем демократии. Процесс государственного управления в США/К. Джанда, Д. М. Берум, Д. Голдман, К. В. Хула. -М.: РОССПЭН, 2006. -С. 207-209.
- Дрейшев, Б. В. Правотворчество в советском государственном управлении/Б. В. Дрейшев. -М., 1977. -160 с.
- Кабышев, В. Т. Народовластие в системе конституционного строя России: конституционно-политическое измерение/В. Т. Кабышев//Вестник СГЮА. -2012. -Дополнительный выпуск. -С. 39-45.
- Kaase M., Marsh A. Political Action Repertory. Political action: Mass Participation in Five Western Democracies/Ed. by Barnes S., Kaase M. Beverly Hills, London, 1979, P. 153-155.
- Липчанская, М. А. Участие граждан Российской Федерации в управлении делами государства: традиционные формы и современные тенденции/М. А. Липчанская//Ленинградский юридический журнал. -2013. -№ 1 (31). -С. 124-133.
- Мордасова, Т. А. Факторы развития общественного участия в современной российской публичной политике/Т. А. Мордасова//Власть. -2010. -№ 1. -С. 30-33.
- Nelissen N. Methods of public relations in Western Europe. Experiments with public participation in urban renewal in Western European municipalities//Cities of Europe: public participations in revitalizing of urban environment/ed. by T. Deelstra, O.Yanitsky. M., 1991, р. 53.
- Cornwall A. Locating citizen participation//IDS Bulletin 33 (2). P. 49-58.
- Очеретина, М. А. Понятие и типология института публичных слушаний/М. А. Очеретина//Научный ежегодник ИФиП УрО РАН. -2008. -№ 8. -С. 471-474.
- Тененбаум, В. О. Категории «политика» и «власть» в науке конституционного права/В. О. Тененбаум//Проблемы конституционного права: межвузовский научный сборник. -1974. -Вып. 1 (2). -С. 40-58.
- Трофимов, В. В. Участие структур гражданского общества в правообразующих правоотношениях как форма выражения народовластия/В. В. Трофимов//NB: Вопросы права и политики. -2012. -№ 5. -С. 147-170.
- Холмская, М. Р. Политическое участие как объект исследования (обзор отечественной литературы)/М. Р. Холмская//Полис. -1999. -№ 5. -С. 170-176.