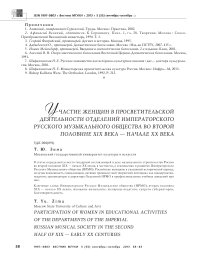Участие женщин в просветительской деятельности отделений Императорского русского музыкального общества во второй половине XIX века - начале XX века
Автор: Зима Татьяна Юрьевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 5 (55), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье определяется место гендерной составляющей в деле музыкального строительства России во второй половине XIX - начале XX веков, в частности, в становлении и развитии Императорского Русского Музыкального общества (ИРМО). Российские женщины в указанный исторический период, получив возможность социализации, активно проявили свой творческий потенциал как концертантки, педагоги, организаторы и директора Отделений ИРМО и профессиональных учебных заведений при них.
Императорское русское музыкальное общество (ирмо), вторая половина xix - начало xx веков, женщины-музыканты, женщины-педагоги, супруги губернаторов, благотворительность
Короткий адрес: https://sciup.org/14489624
IDR: 14489624 | УДК: 008(091)
Текст научной статьи Участие женщин в просветительской деятельности отделений Императорского русского музыкального общества во второй половине XIX века - начале XX века
В апреле 1917 года все дирекции Отделений Императорского Русского музыкального общества получили за подписью вицепредседателя В. Тимирязева и секретаря В. Направника циркуляр следующего содержания: «в связи с великими событиями, выведшими россию на путь свободы и широкой общественной инициативы, главная дирекция … признала своевременным обсудить при участии деятелей общества вопросы о дальнейшем направлении работы рМо и состоящих в его ведении консерваторий, Музыкальных училищ и Музыкальных классов» [4]. С этой целью на май в Петрограде был назначен съезд, участники которого еще не знали, что совсем скоро залп «авроры» возвестит с берегов Невы на весь мир о коренном сломе многовекового жизненного уклада Российской империи и с «дальнейшим направлением работы РмО» будет покончено. Однако первый сигнал о таком возможном развитии событий прозвучал уже после февральской буржуазной революции 1917 года, когда в марте 1917 года показатель статусности — «Императорское» — исчез из названия столь разветвленной и мощной структуры, каковой за пятьдесят семь лет развития стало Русское музыкальное Общество (РмО). мощь его к майскому съезду заключалась в функционировании 53-х (!) Отделений с 5-ю консерваториями, 25 музыкальными Училищами и 23 музыкальными классами.
Всю эту грандиозную концертно-педагогическую социокультурную конструкцию на момент последнего съезда РмО возглавляла «ея великогерцогское Высочество» принцесса Елена георгиевна Саксен-Альтенбургская (1857—1936). Именно ей, внучке-тезке великой княгини Елены Павловны, учре- дившей в 1859 году РмО (тогда еще не «Императорского»), суждено было в 1909 году стать последней его покровительницей и «замкнуть круг». князь С. м. Волконский характеризовал Елену георгиевну как «выдающегося знатока музыки», которая «знала пение … обладала отличным дыханием» [2]. Правда, голос её он называл «неприятным». Художник а. Н. Бенуа был иного мнения: она «обладала действительно прекрасным голосом … с мастерством заправской певицы специализировалась на Бахе и других самых строгих классиках». Такого же мнения в своих дневниках придерживался и сам император Николай ii, вспоминая музыкальные вечера в мраморном, каменноостровском и китайском (в Ораниенбауме) дворцах, где он бывал и где «великолепно звучал голос Тинхен» (так называли принцессу Елену в узком августейшем кругу). Со слов всё того же князя С. м. Волконского «её дом и дом её брата, принца георгия георгиевича Мекленбург-стрелицкого, были настоящими серьезными музыкальными центрами…» [2]. От себя добавим: это есть продолжение семейной традиции, ведь очагом культуры слыл михайловский дворец еще при их бабушке — великой княгине Елене Павловне, первой Покровительнице и учредительнице Русского музыкального общества. Причём Покровительнице — с большой буквы! Если бы на начальном этапе музыкального строительства в России не было бы личного участия великой княгини Елены Павловны, её постоянной моральной и финансовой поддержки (вплоть до продажи собственных бриллиантов для пользы дела), вряд ли Петербургская консерватория перешагнула бы нынче свой полуторавековой рубеж… действительно, исторически сложилось так, что до последней четверти XiX века в России самореализация императриц, великих княгинь, дам высшего света и супруг влиятельных сановников сводилась большей частью к благотворительности, через которую они фактически принимали участие в осуществлении социальной политики государства, и порой это превращалось для них в образ жизни. Женщины во многих случаях оказывались (вольно или невольно) движущими силами того или иного прогрессивного для своего времени явления в различных сферах общественной жизни, и красноречивый тому пример — Русское музыкальное общество — официальный координатор всей государственной системы функционирования музыкальной культуры в полина-циональной, державной, традиционалистской России. В то время, когда м. И. глинке, по меткому замечанию Б. асафьева, «удалось окончательно включить русскую музыку в круг явлений европейской музыкальной культуры», в границах самой России этот сегмент общества представлял собой «болото дилетантизма». Такое положение вещей в родном Отечестве, лучше кого-либо, понял антон Рубинштейн, покоряя европейскую аудиторию слушателей своей пианистической техникой и необычайным темпераментом. Он решил, что в России нужны свои профессионалы, своя профессиональная музыкальная школа, но задуманному им грандиозному социокультурному проекту не суждено было бы осуществиться без поддержки властей, в том числе и финансовой. Это он тоже прекрасно понимал и не ошибся в выборе кандидатуры, которая стала бы и проводником между высшей властью в государстве и располагавшая финансами. Ею оказалась, конечно, женщина!
Великая княгиня елена Павловна (1806— 1873) — бывшая принцесса Вюртембергского королевского дома, супруга, а с 1849 года вдова великого князя михаила Павловича (сына Павла i и внука Екатерины ii) — прониклась идеей своего «музыкального истопника» антона Рубинштейна и взялась претворять добрую идею в жизнь, вступив в переписку с многочисленными официальными лицами и высочайшими особами (в гИаСПб по этому вопросу только в деле под № 5 фонда 408 главной дирекции РмО хранится 34 бумаги (!), писанные её рукой) [4]…
Уже 23 ноября 1859 года состоялся первый симфонический концерт нового общества (РмО), а 26 ноября Великая княгиня уведомила комитет директоров о принятии ею Русского музыкального общества под свое покровительство: «Мне приятно уверить вас, что сочувствуя искренно развитию музыкального искусства на отечественной почве, Я всегда рада буду содействовать успехам общества и полезным его стремлениям к поощрению возникающих дарований» [8]. Так, на пороге больших общественно-политических перемен в стране, в 1859 году родилось РмО. Первый шаг на пути «пробуждения российского музыкального уха» был сделан, но для создания целой просветительско-образовательной системы требовались и следующие шаги, предусмотренные Уставом РмО, в частности, дело распространения музыкального образования в России. Оно началось с того, что на заседаниях 4 и 11 декабря 1859 года было постановлено открыть бесплатные курсы по разным отраслям музыкального искусства … И вновь — «женская составляющая»! лучшему петербургскому педагогу по вокалу г-же генриетте Ниссен-Саломан (1819— 1879) было предложено открыть у себя на дому уроки пения для женщин. РмО предлагало ей платить за 4 часа в неделю по 70 рублей в месяц [8]. В марте 1860-го учредили «Элементарный класс (теории) музыки» в помещении михайловского дворца(!), предоставленного для этого благого дела опять же великой княгиней Еленой Павловной.
В это самое время в журнале заседания комитета директоров РмО впервые появилась запись об учреждении консерватории. И тут ан. Рубинштейн, как обычно, обратился за поддержкой к женщине (!), к камер-певице, жене бывшего министра финансов и председателя департамента экономии государственного Совета, к Юлие федоровне
Абазе (1830—1915), урожденной Штуббе, дом которой, кстати, тоже являлся долгие годы музыкальным центром Петербурга. антон григорьевич «…приходил ко мне, — писала Ю. ф. абаза, — почти ежедневно от 2-х до 4-х…делился со мной всеми радостями и горестями своей артистической жизни…ведь он только-только начинал тогда свою карьеру композитора. однажды он пришел ко мне в особенно грустном настроении: я ждала грозы. на мой вопрос: “Что с вами сегодня?”, он отвечал: меня преследует неудержимое желание — создать что-нибудь полезное для россии, что не умерло бы вместе со мной, создать больше, чем лишь память о себе, как об артисте. Этого же можно достигнуть только созданием музыкальной школы , вроде консерватории, которая подняла бы весь эстетический и музыкальный уровень русского общества» . Ю.ф. помчалась к Елене Павловне разъяснять мысль Рубинштейна: «…видно было, как вся душа ея загорелась желанием осуществить эту идею, сколько бы жертв это ни стоило…“скажите ему, что я готова сделать все, что в моей власти, чтобы привести в исполнение его план, который давно уже слагался и у меня самой”» [1, с. 332—333].
И в очередной раз от имени «ея Величества» великой княгини Елены Павловны полетели в различные бюрократические инстанции бумаги-прошения, а также рескрипты к «государевым людям» (губернаторам и генерал-губернаторам) с призывом «оказывать материальное содействие вновь учрежденному училищу» . Вскоре из разных губерний России по подписным листам стали поступать пожертвования, суммы которых варьировались от нескольких сотен рублей до 15 копеек. Вот так на первую российскую консерваторию собирали деньги — «всем миром»! Она открылась в 1862 году в Петербурге и стала первым профессиональным музыкально-учебным заведением (изначально называвшимся Училищем РмО и являвшимся заведением частным!). В музыкальном пространстве российского социума началась новая эра...
к этому моменту в «нашей древней столице» уже два года как функционировало Отделение РмО, и оно тоже всерьёз надеялось видеть в москве консерваторию. Первого января 1866 года дирекция мо РмО получила от своей Покровительницы телеграмму следующего содержания: «Поздравляю общество с новым годом и с утвержденным уставом консерватории. Желаю успехов. елена» [4, д. 16, л. 225].
Соответствующие параграфы Устава гласили о том, что поступать в консерватории имели право как мужчины, так и женщины (без ограничения в возрасте и сословной принадлежности), а по её окончании получать звание «свободного художника». В связи с этим очень скоро в Российской империи образовался совершенно новый социальный класс людей — профессиональные музыканты. Среди них солидный процент составляли женщины. Они, как правило, выбирали себе жизненную стезю либо концертанток, либо музыкальных педагогов.
любопытен один факт: однажды а. г. Рубинштейн, пианист европейского уровня, на гастролях в Харькове застал выступления вчерашней выпускницы московской консерватории александры Зограф-Дуловой (1850—1919), совершавшей свой первый большой концертный тур, пролегавший через Рязань, Орёл, Тамбов, Воронеж, курск [9, с. 306]. маститый музыкант и представитель нарождающейся музыкальной формации случайно сошлись в одном хронотопе! Оба были тепло встречены местной публикой, готовой знакомиться с сочинениями Шуберта, Шумана, Вебера, листа и др. Впоследствии александра Юрьевна проявила себя еще и как потрясающий организатор, открыв частную музыкальную школу. Её примеру, видимо, последовали и сёстры Гнесины , тоже открывшие школу в москве. В Баку же функционировала музыкальная школа А. Н. Ермолаевой , и именно по её инициативе на каспии было создано Бакинское ИРмО и музыкальные классы при нём, которые, естественно, она и возглавила. В далёкой сибирской окраине, в Томске , камилла Ивановна Томашинская
(1865 — не ранее 1919) открыла частную музыкальную школу, после того как музыкальные классы Томского отделения ИРмО не посчитали возможным принять её в число педагогов.
многие выпускницы российских консерваторий в конце XiX века часто пополняли ряды преподавателей музыкальных учебных заведений провинциальных Отделений РмО (с 1873 года «Императорского»), где они находили применение всем своим талантам — педагогическим, исполнительским, организаторским и, подчас, журналистским. Так, например, в первый же год существования Харьковского ИРмО директор И. И. Слатин пригласил работать в класс пения ксению алексеевну маурелли-Прохорову, а во втором учебном году сюда приехала преподавать выпускница московской консерватории Елизавета михайловна мясоедова [7]. По окончании Петербургской консерватории педагогический коллектив отделения ИРмО Ростова-на-Дону пополнила пианистка Л. А. Кашперова , трудившаяся здесь вплоть до 1922 года [7]. В 1880-е годы в иркутских концертах выступала местная уроженка лидия Николаевна Мелиссова , поступившая позднее в Петербургскую консерваторию, которую закончила в 1895 году по классу В. В. демянского. затем л. Н. мелиссова совершенствовалась в Вене у ф. О. лешетицкого, концертировала по городам Сибири и, наконец, вернулась в родной город, где много выступала и преподавала в музыкальных классах Иркутского ИРмО до 1905/06 года [7].
к началу 1890-х годов Отделения Императорского Русского музыкального общества (ИРмО) имелись уже, помимо Петербурга и москвы, в Варшаве (1861), киеве (1863), казани (1864), Харькове (1871), Нижнем Новгороде (1873) и тогда же в Пскове и Саратове, в Нерчинске (1874), кронштадте (1874/75), Орле (1877), Омске (1876), Тобольске (1878), Томске (1879), Пензе (1881), Тамбове (1882), Воронеже (1882), Тифлисе (1883), Одессе (1886), астрахани (1891), Николаеве (1892). Повсюду находились энергичные любители музыки, всячески способствующие возникно- вению в их регионе столичной «миниатюры», то есть Отделения ИРмО. Исключительную роль в этом играли супруги губернаторов и местных сановно-чиновничьих особ.
В Вильне , к примеру, александра Сергеевна альбединская (супруга главного Начальника края Петра Павловича альбединского) с первого года существования здесь Отделения ИРмО (1874/75) исполняла обязанности его Председательницы. Она заслуженно стала «Почетным членом Виленского отделения», но в сезоне 1878/79 года вынуждена была сложить с себя обязанности руководителя. В Тобольске в числе предполагаемых директоров учреждаемого Отделения ИРмО в апреле 1878 года значилась супруга надворного советника, старшего чиновника особых поручений при казенной Палате Степанида Николаевна зубовская [4, д. 220, л. 3 об.]. В Томске открытию Отделения ИРмО способствовала энергичная и «прекрасная пианистка» — жена председателя Томского губернского правления и члена строительного комитета Императорского Сибирского университета Елизавета алексеевна Дмитриева-Мамонова (1847—19..?), по праву ставшая первым «Почётным членом То ИРмО» и продолжившая свою активную альтруистскую деятельность в Тобольске и Омске, следуя туда за назначениями мужа [6]. В Саратовском отделении ИРмО вскоре после избрания Председателем его дирекции жены губернатора — княгини марии алексеевны мещерской — последняя возбудила ходатайство перед Высшим Правительством об уступке дворового места для постройки здания музыкального Училища местного ИРмО, и, забегая вперед, заметим, что её многолетние хлопоты увенчались успехом. Собственное помещение — это всегда был «вопрос вопросов» для всех Отделений, но о нём речь пойдет особо и позже.
На благо общего дела нетипичный случай произошел в Тифлисе: в 1883 году там открылось Отделение ИРмО и его дирекция, «желая поддержать органическую связь местного общества с отделением, избрала на основании §50 устава, не из налич- ного состава директоров, председательницей дирекции отделения ея сиятельство княгиню Марию вахтанговну джамбакур-орбельяни, как влиятельную распространительницу взгляда о назначении музыкального образования среди высшего туземного общества. Помощником ей избран один из энергичных основателей отделения к. М. алиханов. Заведующим музыкальной частью и директором Музыкальных классов был приглашен М. М. ипполитов-иванов» [7]. В этих классах трудилась бывшая ученица легендарной Ниссен-Саломан, окончившая консерваторию у Эверарди, «свободный художник» Варвара михайловна Зарудная (1857—1939), причём до поступления в столичную консерваторию, она обучалась пению в музыкальном училище Харьковского ИРмО, и это — важный показатель того, что музыкально-образовательный комплекс «рубинштейновского проекта» стало возможно оценивать не столько по количеству (по наличию профессиональных учебных заведений), но и по качеству, ибо поступление в центральные консерватории после провинциальной подготовки говорят о новом уровне, на который они поднялись. Нижегородские музыкальные классы ИРмО тоже могут гордиться своими выпускниками, среди коих особенно выделилась Вера Ивановна Исакович-Скрябина (1875—1921) — блестящая пианистка, окончившая их в 1894 году, а в 1897-м — с золотой медалью и московскую консерваторию. Она с успехом концертировала в России, во франции.
Открытие провинциальных Отделений
ИРмО и музыкальных учреждений при них всегда становилось большим событием, причём не только местного значения. Представители Императорского двора, курировавшие ИРмО, не обходили их своим августейшим вниманием. В 1893 году, к примеру, в начале февраля в Сибирь поступила поздравительная телеграмма по случаю открытия музыкальных классов Томского отделения ИРмО. Подписала её новая Председательница ИРмО великая княгиня Александра Иосифовна (1830—1911), сменившая в 1892 году на этом посту своего супруга — великого князя константина Николаевича. Она телеграфировала: «радуюсь открытию Музыкальных классов. Желаю им прочного успеха и поздравляю то с благим началом. с удовольствием прочла отчёт о деятельности отделения за 1891/92 год. александра» [6, с. 237-238]. Надо полагать, что Великая княгиня не «ради приличия» упомянула Отчёт То ИРмО. В её правилах было делать все основательно, поэтому, вероятнее всего, она действительно с Отчётом ознакомилась.
Подобное великокняжеское внимание и льстило провинциальным культуртрегерам, и стимулировало их к дальнейшей деятельности, где «первую скрипку» играли преимущественно женщины. Еще важнее было то, что они осознавали свою причастность к значительному общегосударственному делу, которому немало сил, времени и материальных средств отдавал сам Императорский дом и особенно представительницы его прекрасной половины.