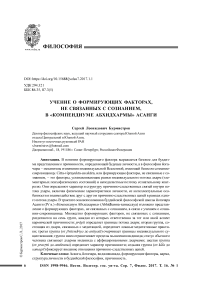Учение о формирующих факторах, не связанных с сознанием, в "Компендиуме Абхидхармы" Асанги
Автор: Бурмистров Сергей Леонидович
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
В понятии формирующего фактора выражается базовое для буддизма представление о причинности, определяющей будущее личности, а в философии йога-чары - механизмы изменения индивидуальной Вселенной, имеющей базисом сознание-сокровищницу. Citta-viprayukta-saхskāra, или формирующие факторы, не связанные с сознанием, - это факторы, устанавливающие рамки индивидуального потока дхарм (элементарных психофизических состояний) и неподвластные поэтому сознательному контролю. Они определяют характер и структуру причинно-следственных связей внутри потока дхарм, включая физические характеристики личности, ее интеллектуальные особенности и взаимодействие друг с другом причинно-следственных цепей в рамках одного потока дхарм. В трактате основоположника буддийской философской школы йогачара Асанги (IV в.) «Компендиум Абхидхармы» (Abhidharma-samuccaya) изложено представление о формирующих факторах, не связанных с сознанием, в связи с учением о сознании-сокровищнице. Множество формирующих факторов, не связанных с сознанием, разделяются на семь групп, каждая из которых ответственна за тот или иной аспект кармической причинности: prāpti определяет границы потока дхарм; вторая группа, состоящая из дхарм, связанных с медитацией, определяет ложные медитативные практики; третья группа (от jīvitendriya до anityatā) очерчивает границы индивидуального существования; группа имен ограничивает пределы мышления индивида; статус обычного человека связывает дхармы индивида с аффицированными дхармами; шестая группа (от pravétti до anukrama) определяет характер причинности; седьмая группа (от kāla до samagrī) фиксирует внешние отношения причинно-следственных цепей.
Асанга, йогачара, виджнянавада, формирующие факторы, карма, структура личности в буддийской философии, причинность
Короткий адрес: https://sciup.org/14974844
IDR: 14974844 | УДК: 294.321 | DOI: 10.15688/jvolsu7.2017.1.1
Текст научной статьи Учение о формирующих факторах, не связанных с сознанием, в "Компендиуме Абхидхармы" Асанги
DOI:
Учение о формирующих факторах, не связанных с сознанием ( санскр . citta-viprayukta-sa х skāra), было и остается в философии буддизма одним из основных компонентов. Оно рассматривалось не только в трактатах палийской Абхидхармы, но и в таких фундаментальных трудах, как «Энциклопедия Абхидхармы» Васубандху с комментариями, трудах Асанги и других буддийских мыслителей. Причина этого очевидна: понятие причинности играло центральную роль во всех системах индийской философии, как брах-манистских, так и неортодоксальных, будучи логическим основанием для учения о карме и, следовательно, о загробном воздаянии и судьбе души после смерти. Даже в буддизме с его принципом anātman, согласно которому не существует никакой «души», никакого постоянного я , а то, что мы условно называем так, есть лишь множество мгновенных и постоянно сменяющих друг друга элементарных состояний, не центрированных вокруг какой бы то ни было постоянной и не зависящей от них сущности, учение о карме играет фундаментальную роль, несмотря даже на то, что, как логично возражали буддистам их оппоненты из числа представителей ортодоксальных школ, несуществование души ставит под вопрос и смысл кармы: если души нет (или она, как утверждали некоторые представители ранних неортодоксальных школ, существовавших во времена Будды, умирает вместе со смертью тела), то кто тогда претерпевает кармическое воздаяние и справедливо ли, что живое существо должно отвечать за поступки того, к кому не имеет никакого отношения? Это возражение могло бы быть состоятельным лишь в одном случае: если рассматривать кармическое воздаяние как моральный феномен, считая его именно наказанием за прегрешения или наградой за добродетель. Но на самом деле карма – по крайней мере в буддийской философии – не имеет морального измерения. Она есть закон, по которому за определенными действиями следуют определенные результаты, и сама санскритская формула «tasmin sati ida х bhavati» (букв. «если есть то, имеет место это») указывает лишь на причинность, но не на то, что наши действия оцениваются или должны оцениваться по каким-либо моральным критериям.
Учение о карме осмыслялось в буддизме в виде концепции формирующих факторов (saхskāra). Дхармы – элементарные психофизические состояния, 75 (в поздних текстах – 100) типов которых исчерпывают, согласно буддийской философии, всю реальность сансары (колеса перерождений), – классифицируются по пяти группам (skandha): материя (rūpa), чувствительность (vedanā), представления (saхjñā), формирующие факторы (saхskāra), сознание (vijñāna). Из них четвертая группа и включает в себя те дхармы, которые формируют будущую «личность» (некую группу дхарм, которая возникнет после того, как нынешняя личность прекратит свое физическое существование). Действия человека, совершенные им когда-то, как известно, согласно общим для всей индийской культуры представлениям, формируют карму, которая затем результирует, принося человеку те или иные результаты – соответственно характеру действий. Кармой определяется в индийской философии не только нынешняя жизнь человека, но и его посмертное бытие, ибо, если какая-то часть кармы не успела проявиться в этой жизни, она приводит его к новому рождению и результирует уже тогда. Сам же человек в новом рождении продолжает создавать все новую и новую карму и вынужден рождаться и умирать снова – до тех пор, пока не найдет выход из колеса перерождений (и надо заметить, что в древнейших текстах речь идет не о новом рождении, а о «новой смерти» - punarmrtyu). Эта карма, однако, формирует не только внешние жизненные обстоятельства человека, но и его телесный облик, так что родиться он может не только калекой или представителем низшей касты, но и животным. «Вишну-смрити» гласит: «Грешники, претерпев мучения в адах, воплощаются во чреве животных... Принявший пищу у тех, чью пищу запрещается есть, и съевший запрещенную пищу становится червем, вор – соколом, захвативший лучший участок земли – животным, живущим в норах, похитивший зерно – мышью» и т. д. [3, с. 137–138]. Вот за эти новые телесные формы, в которые облекается сознание, и отвечают в буддийской философии формирующие факторы. Понятие saхskāra базируется на фундаментальном для буддизма учении о взаимозависимом воз- никновении, в котором осмысляется в контексте буддийской религиозной догматики идея кармы. Закон взаимозависимого возникновения в его наиболее общепринятой формулировке – это двенадцать звеньев, каждое из которых является следствием предшествующего и причиной последующего: 1) неведение (avidyā); 2) формирующие факторы (saхskāra); 3) сознание (vijñāna); 4) психофизический комплекс (nāmarūpa); 5) шесть органов чувств (sadāyatana); 6) чувственный контакт (sparśa); 7) ощущения (vedana); 8) жажда (tйsna); 9) привязанность (upādāna); 10) становление (bhava); 11) рождение (jāti); 12) старость и смерть (jara-marana) [4, с. 56-57]. Из этой схемы видно, что saхskāra – это факторы, формирующие сознание, которое затем само создает для себя наиболее подходящую телесную форму и все особенности характера (nāmarūpa) живого существа; сознание здесь первично по отношению к материальной форме, в которой воплощается живое существо и которая фактически есть проявление его сознания. «Термин saхskāra охватывает в своей семантике все те психические образования, суть которых сводится к реагированию определенным образом, к мотивирующей предуготовленности. Именно поэтому saхskāra может быть осмыслена как психическая диспозиция, содержащая гнозис (компонент знания), эмоциональный компонент и поведенческую мотивацию» [7, с. 136]. В группу формирующих факторов включаются дхармы, которые в буддизме на доктринальном уровне именуются cetana – мотивации [2, с. 206], рассматриваемые в их связи с шестью модальностями чувственного восприятия (пять наших обычных чувств и умозрительное восприятие, объектами коего являются дхармы). Каждая мотивация ценностно окрашена, ибо направляет сознание либо к действиям, привязывающим к сансаре, либо к действиям, освобождающим от нее, а кроме того, различение благих и неблагих действий и состояний сознания – это тоже определенное ментальное действие, которое неизбежно будет иметь кармические последствия. В своем классическом трактате «Компендиум Аб-хидхармы» (Abhidharma-samuccaya) Асанга определяет понятие мотивации так: это «конструирование [объектов] посредством сознания (cittābhisaхskāra), [то есть] ментальная деятельность (manaskarma), [которая] направляет сознание на благие, неблагие и нейтральные [цели]» (cittābhisaхskāro manaskarma kusalakusalavyakHtesu cittapreranakarmika) [10, p. 5]. Некоторые из этих формирующих факторов связаны с сознанием (citta-saхprayukta), то есть доступны для сознательного контроля. Это различные эмоциональные состояния, а также некоторые особенности интеллектуальной деятельности, которые человек может контролировать – пестовать, если они благи, и искоренять, если они не ведут к просветлению; к ним относятся, например, память (smrti), сосредоточение (samādhi), убеждение в существовании неизменного я (satkāyadйsti) и т. п.
Но некоторые дхармы для сознательного контроля недоступны. Мы ничего не можем сделать с ними непосредственно, хотя опосредованно ими все же можно управлять – не допуская сознательно таких состояний, которые ведут к появлению неблагих формирующих факторов, не связанных с сознанием. «Дхармы, не связанные с сознанием, – это очень широкий класс психических и психосоматических диспозиций, характеризующих психику индивида с точки зрения ее содержательной стабильности (prāpti-aprāpti), предуго-товленность к определенным видам йогичес-кого сосредоточения (asa х jñika, asa х jīsamāpatti и nirodhasamāpatti), установку на генерализацию (sabhāgatā) и осмысленную вербализацию опыта (nāmakāya, padakāya и vyañjanakāya), жизненное чувство как установку на психосоматическую целостность (jīvitā) и четыре тотальных свойства всего причинно-обусловленного: возникновение, длительность, разрушение, непостоянство (jāti, sthiti, jarā, anityatā)» [7, с. 136–137]. Каковы эти диспозиции? Васубандху в «Энциклопедии Аб-хидхармы» не останавливается на них сколько-нибудь подробно, хотя и касается этого вопроса в третьей части своего трактата. Более подробно этот вопрос освещается Асангой, и перевод обширного фрагмента «Компендиума Абхидхармы», где речь идет о формирующих факторах, не связанных с сознанием [10, p. 10–11], стоит привести полностью.
* * *
Каковы формирующие факторы, не связанные с сознанием? Это обладание (prāpti), бессознательное сосредоточение (asa х jñisamāpatti), сосредоточение, [именуемое] остановкой (nirodhasamāpatti), бессознательное [состояние] (āsa х jñika), жизнеспособность (jīvitendriya), тождество класса (nikāyasabhāga), рождение (jāti), старение (jarā), пребывание [существующим] (sthiti), невечность (anityatā), группы имен (nāmakāya), группы слов (padakāya), группы фонем (vyañjanakāya), статус обычного человека (p й thagjanatva), продолжение (pravrtti), логическая особенность (p й atiniyama), соответствие (yoga), непосредственность (java), последовательность (anukrama), время (kāla), пространство (deśa), число (sa х khyā), сочетание (sāmagrī).
Что такое обладание (prāpti)? Это получение, схватывание, обретение знания о росте (ācaya) и угасании (apacaya) благих и неблагих дхарм.
Что такое бессознательное сосредоточение? Это обретение знания об угасании неустойчивых дхарм сознания [и дхарм], связанных с сознанием, [каковое знание достигается] посредством внимания (manasikāre ъ a), коему предшествует знание об освобождении (nihsara ъ a), у бесстрастного [человека, чей разум] совершенно чист (śubhak й tsna), [и человека, превзошедшего даже ступень] бесстрастия.
Что такое сосредоточение, [именуемое] остановкой? Сосредоточение, [именуемое] остановкой, – это обретение знания об угасании неустойчивых дхарм сознания [и дхарм], связанных с сознанием, [каковое знание достигается] посредством внимания, коему предшествует знание о состоянии покоя (śāntavihāra), [у человека, достигшего] сферы ничто (ākiñcanyāyatana), [но еще] уклоняющегося [от вхождения в сферу] вершины бытия (bhavāgra).
Что такое бессознательное [состояние]? Бессознательное [состояние] – это обретение знания об угасании неустойчивых дхарм сознания [и дхарм], связанных с сознанием, у того, кто пребывает среди богов сферы невосприятия.
Что такое жизнеспособность? Это жизнь, ограниченная [некоторым] сроком, определя- емым ранее накопленной кармой, и определенным классом [живых существ].
Что такое тождество класса? Тождество класса [выражается] в сходстве индивидов, [принадлежащих] к тому или иному классу, [выделяемому среди] тех или иных [классов] живых существ.
Что такое рождение? Рождение – это возникновение ранее несуществовавших формирующих факторов (sa х skārā ъ āmabhūtva bhāve), [приводящих к появлению в определенном] классе [живых существ].
Что такое старость? Старость – это изменчивая связь (prabandhānyathātva) формирующих факторов [у существа, появившегося в определенном] классе [живых существ].
Что такое пребывание? Это существование в определенном классе [живых существ, выражающееся] в связи и сохранении [соответствующих] формирующих факторов.
Что такое невечность? Это невечность существования в определенном классе [живых существ, обусловленного] прекращением связи [соответствующих] формирующих факторов.
Что такое группы имен? Группы имен – это наименования, [обозначающие] собственную природу вещей.
Что такое группы слов? Группы слов – это наименования, [обозначающие] отличительные особенности вещей.
Что такое группы фонем? Группы фонем [определяются] относительно слогов, [из которых состоят] эти две [вышеназванных категории] и благодаря [которым] они проявляются. Ибо именно от звука (var ъ a) зависит способность [чего-либо быть] сообщением (sa х var ъ atā). Слог (aksara) же [называется так] по причине неразрушимости (aksara ъ atā) синонимов.
Что такое статус обычного человека? Статус обычного человека состоит в отсутствии (apratilambha, букв. «необретение») благих качеств (āryadharma).
Что такое продолжение? Продолжение – это непрерывность связи причин и следствий.
Что такое логическая особенность? Логическая особенность – это различие (nānātva) причин и следствий.
Что такое соответствие? Соответствие – это сходство (anurūpya) причины и следствия.
Что такое непосредственность? Непосредственность [состоит] в немедленном [возникновении] следствия [при наличии] причины.
Что такое последовательность? Последовательность [состоит] в единообразии череды (ekatvaprav й tti) причин и следствий.
Что такое время? Время [состоит] в непрерывности череды (prabandhaprav й tti) причин и следствий.
Что такое пространство? Пространство – это [распределение] причин и следствий [по направлениям]: восток, юг, запад, север, низ, верх или все десять направлений.
Что такое число? Число – это различение (bheda) [каждого] формирующего фактора [от всех других].
Что такое сочетание? Сочетание – это соединение причин, следствий и условий [их проявления].
* * *
Прежде чем приступить к анализу этих факторов, следует заметить, что вообще списки их в разных буддийских школах различаются. О.О. Розенберг приводит два таких списка: один из них насчитывает 75 дхарм, из которых 14 относятся к citta-viprayukta-sa х skāra, другой – 100 дхарм, из которых к рассматриваемой категории относятся 24 [8, с. 228–229], причем в списке из 75 дхарм присутствует необладание (aprāpti), то есть отсутствие знания о росте и угасании благого и неблагого в психике (если интерпретировать это понятие, опираясь на текст Асанги). Как формирующий фактор aprāpti может быть понято как такое отсутствие знания о росте, сохранении и угасании благих (kuśala) и неблагих (akuśala) дхарм, которое приводит к тому, что действия живого существа определяются эмоциональными и волитивными импульсами, не ограничиваемыми знанием о возможных кармических последствиях. В результате этот формирующий фактор, не будучи, естественно, осознанным как таковой, сохраняется в психике и влияет на дальнейшую судьбу индивида. Таким образом, представленный Асангой перечень формирующих факторов не универсален для всего буддизма и представляет только точку зрения йогачары.
И еще одно немаловажное замечание – особенно важное в контексте именно йога-чары как учения о только-осознавании (vijñaptimātra). Все определения, формулируемые Асангой, завершаются словом prajñapti, букв. «сообщение, назначение», этимологически непосредственно происходящим из каузативного наклонения глагола jñā «знать» – jñapayati «[он] дает знать, сообщает, информирует». В тибетском переводе в соответствующих местах стоит слово gdags «знак, метка; помечать». Китайский перевод еще более прямолинеен: там prajñapti переведено как 假立 ji Б lì «ложное установление». Иначе говоря, речь идет не о реальных дхармах, а только об обозначениях : сами соответствующие дхармы понимаются в йогачаре не как реальные (dravya-sat), но как только условные знаки, элементы не реальности, а лишь языка описания (prajñapti-sat). Все они играют роль всего лишь вспомогательных мыслительных конструкций, смысл которых – не обрисовать реальность такой, какова она есть, а способствовать достижению адептом просветления. О том же говорит и составленный предположительно Стхирамати комментарий к «Компендиуму Абхидхармы» (Abhidharma-samuccaya-bhāsya), где формирующие факторы, не связанные с сознанием, прямо названы «условными» (prajñaptisanto veditavyāh) [9, p. 11].
Дхарма «обладание» (prāpti) в «Энциклопедии Абхидхармы» Васубандху понимается как имеющая два вида – обладание и нео-бладание дхармами, входящими в поток собственных состояний (svasaхtāna) индивида. В комментарии к трактату – «Абхидхармако-ша-бхашье» поясняется, что «они не входят в поток чужой индивидуальности и не могут быть обретены другими [индивидами], как и в том случае, когда они вообще не входят в поток [психофизических состояний]. Аналогичным образом они не могут быть “обретены” неодушевленным существом» [2, с. 468]. Стхирамати в комментарии к «Компендиуму Абхидхармы» Асанги прямо пишет, что prāpti – это «получение, обретение, собрание [дхарм, входящих в психофизический комплекс, образующий так называемую “личность”]» (prāptih pratilambhah samāgama iti prajñaptiriti prajñaptinirdeśah) [9, p. 9]. Иными словами, prāpti как формирующий фактор ответствен за отнесение той или иной дхармы к конкретному потоку состояний, понимаемому как некоторая определенная личность, и исключает «перенос» дхарм от одной личности к другой [7, с. 389]. Речь идет здесь, собственно, о замкнутости всякой конкретной личности как системы. Все процессы, происходящие в пределах одной личности (одного перерождающегося и изменчивого комплекса дхарм, понимаемого как система), могут быть причинами только для других процессов и/или событий в рамках той же самой личности, а по отношению к другим аналогичным системам они могут быть в лучшем случае поводами. C буддийской точки зрения (и не только с буддийской – это «общее место» для всех религиозно-философских систем классической Индии, признающих существование кармы) личность «кармически замкнута»: все действия, слова и мысли, приводящие к возникновению кармы, непосредственно влияют только на того, кто эту карму создал. Но закон кармы – это, по существу, закон причинности, примененный к одной определенной области реальности – к личности человека или вообще живого существа, если учесть, что человек может в следующей жизни родиться животным, растением (в индуизме), богом, асурой, «голодным духом» preta (в буддизме, где постулируется существование шести классов живых существ, среди которых боги – такие же смертные существа). Все, что происходит в личности, может быть причиной для событий только в рамках самой этой личности и нигде более. Нечто подобное (хотя возникшее в других условиях, по другим причинам и в другом контексте) можно найти в социологической концепции Никласа Лумана, где общество понимается как операционно закрытая система. При этом «под “закрытостью” понимается не термодинамическая изолированность, а всего лишь оперативная замкнутость, что означает: рекурсивное условие возможностей собственных операций исходя из результатов собственных операций. Ведь нужно исходить из того, что реальные операции возможны лишь в мире, существующем одновременно с ними. Прежде всего, это исключает, что одна операция может оказывать влияние на другую. Если это все-таки должно стать возможным, то лишь в непосредственном подсоединении одной операции к другой. Такие рекурсивные отношения, в которых завершение одной операции является условием возможности некоторой другой операции, приводят, однако, к дифференциации систем, замыкание которых зачастую реализуется благодаря высококомплексным структурам, и к тому, что окружающий их мир существует одновременно с ними. Этот результат мы и называем операционной закрытостью» [5, с. 101]. Такая позиция для буддизма вполне естественна: если считать, что внешние по отношению к личности события могут быть именно причинами событий внутри нее, то освобождение из колеса сансары станет невозможным, ибо противостоять действию причинности, очевидно, невозможно. Если предмет, который мы жаждем заполучить, есть причина нашего вожделения, то преодолеть вожделение невозможно. Но это опровергается даже обычной житейской практикой: пища будет предметом вожделения лишь у голодного человека, а тот, кто только что сытно отобедал, при виде ее может даже испытать легкое отвращение. Таким образом, причина вожделения и отвращения – в нас же самих.
Естественно, поскольку «обладание» как формирующий фактор обусловливает само существование отдельной личности, оно не поддается сознательному контролю: это фактор, благодаря которому эмпирическое сознание индивида вообще существует.
Точно так же не может быть взят под контроль и другой фактор – asaхjñisamāpatti, или бессознательное сосредоточение. «Бессознательное сосредоточение – это такое сосредоточение, при котором [йогин пребывает] в бессознательном состоянии, или сосредоточение, при котором сознание отсутствует. Оно также есть прекращение деятельности сознания и явления сознания» [2, с. 480]. Достигается оно на высшем, четвертом уровне медитативного сосредоточения (dhyāna). Следствием его, как гласит комментарий к «Энциклопедии Абхидхармы», являются пять скандх богов сферы бессознательного, о которой там же сказано: «У тех, кто рождается среди бессознательных существ, то есть богов [соответствующей сферы], наступает пре- кращение функционирования сознания и явлений сознания. Это прекращение и есть реальная сущность, называемая бессознательным; то есть бессознательное – это дхарма, благодаря которой достигается на некоторое время невозникновение будущего сознания и явлений сознания» [2, с. 479]. Однако даже это состояние не есть выход за пределы колеса сансары – боги в буддизме понимаются как такие же живые существа, что и люди, животные и проч., и так же, как и они, подвержены страданию и смертны. Поэтому комментатор и пишет, что «благородные не входят в бессознательное сосредоточение, видя в нем лишь опасность падения, то, что вызывает несчастье. В него входят только те, кто считает это сосредоточение спасением [из круговорота бытия]» [2, с. 481]. Таким образом, asaхjñisamāpatti – формирующий фактор, не связанный с сознанием, именно потому, что у йогина, достигшего соответствующего состояния, и у божества, рождающегося в результате таких медитативных практик в соответствующей сфере буддийской космологии, отсутствует сознание, а значит, никакому контролю и исправлению это состояние не поддается. Тем не менее вся неблагая карма, которую накапливают этот йогин или это божество, должна дать свой плод, так что это состояние воспринимается как неблагое и его, согласно буддийским представлениям, следует избегать.
То же справедливо и для третьего фактора – nirodhasamāpatti, «сосредоточение-остановка». Стхирамати в комментарии поясняет, что «остановка» (или «угасание» – другой возможный перевод слова nirodha) – это устойчивое прекращение деятельности сознания и явлений сознания, достигаемое глубоким сосредоточением сознания (nirodha iti samapatticittakrtah kālāntaram asthāvaracittacaittasamudācāranirodhī āśrayasyāvasthāviśeso nirudhyate ‘neneti kйtvā) [9, p. 9]. То же пишут, естественно, Васубандху и его комментатор, указывая при этом, что такое сосредоточение практикуется для достижения полного спокойствия (śāntavihāra) и относится к сфере, в которой нет ни восприятия или концептуализации, ни их отсутствия (naivasaхjñānāsaхjñāyatanabhūmi) [2, с. 481– 482]. Достичь такого состояния могут только благородные (āryapudgala), то есть те, кто сту- пил на путь к просветлению или уже достиг его (śravaka, pratyekabuddha, buddha). «Обычные люди не могут вызвать у себя сосредоточение остановки, ибо они боятся самоуничтожения, ведь это сосредоточение порождается только силой Благородного пути и на него отваживаются лишь те, кто устремлен к нирване еще при данной жизни» [2, с. 482]. В этом состоянии у живого существа фактически отсутствует сознание, но, тем не менее, nirodhasamāpatti может быть достигнуто обычным человеком (не входящим в число āryapudgala) лишь посредством усилий, и только будды обретают его просто благодаря просветлению [2, с. 482].
Относительно четвертого формирующего фактора – бессознательного состояния (asa х jñika) Васубандху в своем труде дает лишь краткое пояснение: это «определенное состояние сознания, когда достигается блокада функционирования сознания. Поэтому оно и получает название “бессознательное” как полное отсутствие деятельности сознания» [2, с. 487]. Несколько более детален Стхирама-ти: «Состояние невосприятия [обретается] этими алмазами внимания – тремя оставшимися стадиями» (āsa х jñika х manaskāravajrair ebhir eva śesā adhisthānādibhis tribhir eva) [9, p. 9]. Возможно, речь идет о высших стадиях медитативного сосредоточения, на которых не только отсутствует деятельность сознания, но и нет возможности возобновить ее даже посредством стимула извне, и только сам медитирующий может выйти из него. Естественно, что такой фактор не может не быть citta- viprayukta , однако он все же остается именно формирующим фактором. У того, кто вошел в это состояние, на какое-то время прекращается возникновение новых состояний сознания, но, как пишет Васубандху, это состояние подобно лишь плотине, останавливающей течение воды [2, с. 479]. Сама вода от этого никуда не исчезает, и это состояние рано или поздно прерывается. Такое состояние – это всего лишь временное прекращение сансарических страданий, и его можно сравнить с успокоением боли посредством анальгетиков, тогда как задача состоит в том, чтобы устранить саму причину болезни – неведение (avidyā) и порождаемое им страдание.
Таким образом, первым формирующим фактором выступает «обладание» (prāpti), ко- торое очевидным образом выделяется в особую группу в числе формирующих факторов, не связанных с сознанием. Вторую группу образуют три состояния сосредоточения (asaхjñī-samāpatti, nirodha-samāpatti и āsaхjñika), которые тоже формируют определенную карму или по крайней мере (если говорить об āsaхjñika) на какое-то время прерывают страдание в сансаре, но не устраняют его полностью.
Следующая группа факторов связана с определением класса для живого существа. Сознание само подготавливает соответствующую его характеристикам телесную форму и воплощается в нее, и это определяет, в частности, накопленная им ранее жизнеспособность или жизненная сила (jīvitendriya). Суть ее у Васубандху разъясняется так: «жизнеспособность есть плод созревания [кармы]» [2, с. 438], и продолжительность жизни живого существа определяется тем, какая карма была накоплена им в прежних существованиях (насколько вообще допустимо говорить в буддизме о «чьей-то» прошлой жизни). Асан-га так об этом и говорит: жизнеспособность определяется кармой, которая определяет также, в какой из шести форм родится живое существо. Близко к нему и понятие «тождества класса» (nikāyasabhāga). У Асанги это сходство индивидов того или иного класса, входящего, в свою очередь, в некий более высокий класс, а Васубандху говорит об этом еще короче: «сходство – это подобие живых существ» [2, с. 477]. Аналогично объясняет это понятие и Стхирамати: «Тождество класса – это поток скандх, [относящийся к] одному рождению» (nikāyasabhāga ekajanmikah skandhasaхtānah) [9, p. 9]. Рождение (jāti) – следующий фактор, относящийся к этой группе, и «возникновение ранее несуществовавших формирующих факторов (saxskaranamabhutva bhāve)», как определяет его Асанга, и очевидно, что оно приводит к дальнейшему созданию кармы, которая и привязывает всю эту группу скандх к сансаре. Связь понятий рождения и тождества класса поясняется и Стхи-рамати, который пишет, что тождество класса, собственно, и проявляется только в виде обретения некоторой внешней телесной формы (bāhyasyāpi rūpasya jatimattve nikayasabhagamatragrahanax) [9, p. 10]. Связан с названными и следующий фактор – старость (jarā), представляющий собой результат действия формирующих факторов (как связанных, так и не связанных с сознанием) на протяжении одной жизни. Очевидна и суть следующего за ним фактора – sthiti, «пребывание»: имеется в виду пребывание живого существа в одном из классов в течение всего срока жизни, обусловленного кармой. Однако и это существование заканчивается, когда исчерпывается действие тех формирующих факторов, которые привели живое существо к рождению в этом классе, – об этом говорит невечность (anityatā) как формирующий фактор. Поток формирующих факторов, как сказано в комментарии Стхирамати к «Компендиуму Аб-хидхармы», прерывается только в момент смерти (prabandhavinaso maranax veditavyam) [9, p. 10] – чтобы, естественно, возобновиться в следующей жизни.
Таким образом, суть третьей группы citta-viprayukta sa х skāra – формирование определенного типа существования комплекса дхарм, условно именуемого живым существом. Можно предположить, что сама логика построения этого фрагмента трактата Асанги – «восхождение» от факторов, являющихся следствиями, к другим факторам, которые являются их причинами (hetu) или условиями (pratyaya), обеспечивающими причинам возможность реализоваться и произвести следствия.
В такую схему укладывается четвертая группа факторов, включающая, по трактату Асанги, группы имен, слов и фонем (nāmakāya, padakāya, vyañjanakāya). Это факторы, ответственные за формирование и поддержание знаковой картины мира в сознании живого существа, и роль их отчасти может быть проиллюстрирована учением Ф. Бэкона об идолах разума – два их типа (из четырех), а именно: идолы площади, связанные с общепринятой практикой словоупотребления, и идолы театра, являющиеся результатом неверных теорий, некритически принимаемых за истину, помрачают разум, препятствуя истинному познанию [1, с. 322]. Но в буддизме речь идет не о познании обычного физического мира, а о познании истинной реальности (tathatā), которому препятствуют как аффекты (kleśa), так и ложные концептуализации. Группы имен, слов и фонем отвечают за формирование эпистемологических препятствий (jneya-avarana) к обретению просветления и истинного знания, учение о которых составляет одно из наиболее существенных отличий махаяны от хинаяны. Группы имен Асанга определяет как наименования собственной природы вещей (dharmanax svabhavadhivacane namakaya iti prajñaptih), и именно эти наименования (adhivacana – «название, эпитет») скрывают от сознания истинную природу реальности, так как оно склонно воспринимать ее через слова, понятия, обозначения, принимая в конце концов слова за саму реальность. Стхирама-ти комментирует этот фрагмент так: «[различные] наименования собственной природы [вещей] – это “глаз”, “ухо”, “бог”, “человек” и тому подобное» (svabhāvādhivacanaх caksuh śrotraх devo manusya ityevamādi) [9, p. 10], то есть речь идет о приписывании единичного объекта к классу, причем видно, что здесь перечисляются классы живых существ (боги, люди и т. д.) и органы восприятия или опоры сознания (глаз или зрение, ухо или слух и т. д.), посредством которых сознание и получает доступ к внешнему миру. В действительности все высказывания, даже речения самого Будды, суть лишь инструменты, а не точная карта реальности. Это касается даже таких фундаментальных терминов, как сансара и нирвана: убеждение в их реальном существовании есть причина закабаления в сансаре, и вполне закономерно, что слова понимаются Асангой как один из формирующих факторов. Более того, перечисляя формирующие факторы и давая им определения, Асанга каждое определение завершает словом prajñapti – «обозначение» или «постижение». Эти факторы суть только обозначения некой единой реальности [11, p. 47], из чего можно сделать вывод, что само понятие формирующего фактора – тоже только ментальный конструкт и имеет смысл лишь как средство для изменения сознания адепта.
Следующий формирующий фактор – статус обычного человека, prthagjana. Однако «обычный человек» здесь – не обязательно мирянин: им может быть и монах, и в то же время мирянин (согласно махаяне) может и не быть «обычным человеком». Pйthagjana – это тот, кто еще не является «вступившим в поток» (srotāpanna) и тем более – не поднялся на более высокие ступени религиозного совершенства (sakйdāgamin, anāgamin, arhant). «Вступивший в поток» (тот, кому еще суждены новые рождения, но он никогда не родится уже в неблагих классах живых существ – среди животных, обитателей ада и «голодных духов») – это человек, преодолевший три вида оков, привязывающих к сансаре: веру в существование неизменного Я (satkāyadйsti), сомнение (vicikitsa) и привязанность к ритуалам и религиозным обетам (śīlavrataparāmarśa) [4, с. 108–109]. По существу, Асанга ставит здесь вопрос о границах буддийской сангхи: если монах может быть человеком, еще не сбросившим с себя эти оковы, а мирянин может быть свободен от них, то кто тогда является подлинным членом сангхи? Ответа на этот вопрос Асанга в «Компендиуме Абхид-хармы» не дает, хотя сама эта проблема требует, очевидно, достаточно подробного анализа (впрочем, это выходит за рамки настоящей работы).
Этот фактор может быть выделен в особую группу, так как статус обычного человека сам по себе формирует определенное сознание, которое после смерти физического тела создает себе новую телесность в соответствии со своими особенностями. Почему он выделяется Асангой в качестве формирующего фактора, не связанного с сознанием – ведь каждый, на первый взгляд, способен отличить, вступил ли он в поток или еще остается вполне сансарическим существом? Причина этого видится в исторических особенностях буддийской идеологии, формировавшейся в полемике с брахманистскими религиозно-философскими системами, в которых существование неизменной и вновь и вновь возрождающейся души было одним из базовых постулатов. Но обретение знания об этом истинном Я (Ātman) требовало сложных медитативных практик, так что даже продвинутый йогин, считающий себя, возможно, уже свободным от сансары, оставался, согласно буддистам, сансарическим существом, pйthagjana, если полагал реальным Я. Иными словами, адепты брахманистских систем, какими бы выдающимися мастерами психотехники ни были, оставались привязаны к идее Я и брахманистским ритуалам, а это, вопреки положениям их собственных систем, привязывало их, согласно буддистам, к сансаре.
Следующие пять факторов явно объединяются в особую, шестую группу, элементы которой описывают причинность. На идее причинности, на идее, что каждое действие человека и событие, происходящее с ним, имеет свою причину и само, в свою очередь, будет иметь следствия и так ad infinitum, построены не только буддизм, но и брахманистские системы; эта идея вообще была, наверное, краеугольным камнем индийской философской мысли вообще. «Продолжение» (pravйtti) – это, как следует из слов Асанги, связь причин и следствий (hetu-phalaprabandhānupacchede pravйtti), то есть непрерывность причинно-следственной связи, означающая, что каждое событие имеет свою причину (и, естественно, условия для ее реализации, сами по себе причиной не являющиеся) и следствия, которые, в свою очередь, будут причинами или условиями множества других следствий. Согласно комментарию Стхира-мати, «непрерывность связи [причин и следствий – это] состояние продолжения [действия причины] в каждый момент [времени, даже] отделенный [от момента существования или действия причины, когда] она уже отсутствует непосредственно» (prabandhānupacchede pravйttivyavasthānam ekasmin ksaъe vyavacchinne vā tadupacārābhāvāt) [9, p. 10]. Иначе говоря, причина действует даже тогда, когда предмет или процесс, послуживший причиной, более не существует. Pratiniyama («логическая особенность») – это различие причин и следствий: «разнообразие причин и следствий – [это] добродетельное поведение [как причина] желаемого результата и недобродетельное – [как причина] нежелаемого результата: это и есть взаимная причинность каждого результата» (hetuphalanānātvam istasya phalasya sucaritam anistasya duścaritam ity evamādi phalānāх pйthak pйthag anyonyahetukatvam) [9, p. 10]. Действие, согласно комментарию Стхирамати, порождает свой и всегда только свой результат, так что кармически значимые события отграничены друг от друга по тому, какую карму они порождают. Соответствие (yoga) определяется как сходство причины и следствия: следствие определяется как порожденное данной конкретной причиной, в противном случае все было бы следствием всего и само понятие причинности потеряло бы смысл. К этой же группе относится и непосредственность (java), определяемая как немедленное возникновение следствия при наличии причины, и последовательность (anukrama), понимаемая как единообразие череды (ekatvapravйtti) причин и следствий.
Эти факторы определяют единство того «потока» (sa х tāna) событий в рамках одного сознания-сокровищницы (ālaya-vijñāna), который и называется в брахманистских системах перерождающейся личностью, «душой» (jīva). «Личность» предстает в йогача-ре как множество цепочек причинно-следственных связей, причем такое множество, элементы которого никак кармически не влияют на другие аналогичные множества; если же имеет место влияние, то мы имеем дело с одной и той же «личностью». В этой группе факторов фиксируются те из них, которые ответственны за пребывание «личности» обычного человека (p й thagjana) в сансаре или, наоборот, являются причинами, благодаря которым p й thagjana может ступить на путь к просветлению.
Наконец, седьмая группа включает время (kāla), пространство (deśa), число (saхkhyā) и сочетание (sāmagrī). Эти факторы ответственны, как видим, за простран-ственно-временнóе «распределение» других формирующих факторов, задавая для них своего рода «координатную сетку», и за количественный аспект их функционирования. Время, понимаемое как непрерывность череды (prabandhapravйtti) причин и следствий, согласно комментарию Стхирамати, понимается просто: что возникло и уже завершилось – то относится к прошлому, что предполагается – к будущему, что возникло и еще не завершилось – к настоящему (yat tatra hetuphalam utpannaniruddhaх so ‘tītah kāla iti prajñapyate yad anutpannaх so ‘nāgatah kālah yadutpannāniruddhaх sa pratyutpannah kāla iti) [9, p. 10]. Иначе говоря, время «кармически анизотропно», закон причинности имеет очевидную временнýю направленность (от прошлого через настоящее к будущему), и невозможно повлиять на прошлое, изменив его так, чтобы уничтожить причину нынешних страданий, – можно только не создавать новых причин страдания. Неоднородно и про- странство как «среда», в которой действует причинность. Число, по определению Асанги, есть отличение каждого формирующего фактора от всех прочих (saхskārāъāх pratyekaśo bheda). Согласно Стхирамати (комментарий которого здесь не вполне ясен), «[в том, что касается] различения каждого [формирующего фактора], число [рассматривается] при невозможности различения чисел “два”, “три” и т. д. [в отношении] неразличимо-тождественного по своей сути» (pratyekaśo bhede saхkhyety abhinnaikātmakatve dvitrisaхkhyādyanupapatteh) [9, p. 10]. Возможно, речь идет о сущностно одинаковых, но количественно различных формирующих факторах, определяемых именно «числом» (которое в таком случае выступает формирующим фактором второго уровня). Наконец, сочетание (sāmagrо) определяется как соединение причин, следствий и условий для их проявления.
* * *
Итак, в философии ранней йогачары выделяется группа формирующих факторов, не связанных с сознанием, то есть находящихся за пределами сознательного контроля живого существа. Воздействовать на эти факторы, как сказано выше, можно только косвенно – изменяя те психологические установки и мыслительные привычки, на которые адепт в силах повлиять, и через них менять и те факторы, которые прямой трансформации не поддаются. Но и эта группа неоднородна, и в ней, как было показано, выделяются семь подгрупп, в каждой из которых собраны факторы, ответственные за ту или иную сферу бытия, представляющего собой, согласно учению йогачары, сознание-сокровищницу (ālaya-vijñāna) – универсальное вместилище семян (bīja) будущих аффектов и кармически обусловленных диспозиций (vāsanā). Сознание-сокровищница – базовое понятие философии вид-жнянавады, введение которого в идеологию буддизма, осуществленное йогачаринами, призвано было решить одну из самых существенных философских проблем буддизма – проблему кармы. Понятие это, по существу, касается сферы причинности и вводит наряду с обычным для здравого смысла представлением о причинности также особое, связыва- ющее то, что происходит с человеком, с ранее совершенными им действиями, произнесенными словами или пестуемыми мыслями, причем связь эта неявная и для сознания, не впитавшего в себя традиционные индийские религиозные представления, неочевидная. Собственно, исторические причины формирования понятия кармы (помимо очевидного и общечеловеческого стремления придать хоть какой-то смысл нашим бессмысленным в большинстве случаев страданиям) коренятся в особенностях ведийской ритуалистики, и здесь нет необходимости углубляться в эту тему (подробнее о генезисе понятия кармы в ведийской ритуалистике см.: [6]). Важно для нас сейчас то, что понятие сознания-сокровищницы призвано было сохранить наряду с обычной причинностью, понимаемой в соответствии с повседневным здравым смыслом, особую причинность – кармическую, действующую только в рамках определенной личности (в брахманистских системах) или определенного потока (saхtāna) дхарм (в буддизме).
Формирующие факторы в этом контексте выступают как то, что кармически обусловливает грядущие события, касающиеся данной личности, включая даже те, которые произойдут в будущей жизни. С этой точки зрения уже первая дхарма, входящая в рассмотренное нами множество формирующих факторов, не связанных с сознанием, обусловливает единство того потока дхарм, который условно называется личностью. Без этого невозможно было бы выделение различных таких потоков (saхtāna), то есть отдельных личностей, и Вселенная, как она понимается в философии школы йогачара, представляла бы собой некую единую личность с единой же кармой, не имеющую вовне себя не только других личностей, но и физического мира как такового. Дело в том, что, согласно учению йогачары, существование внешнего относительно сознания физического мира по меньшей мере сомнительно в том смысле, что все, с чем имеет дело даже эмпирическое сознание, – это не предметы per se, а только объекты, данные через посредство акта познания. Но так как само познание ограничено кармой, накопленной ранее живым существом, то и мир, который предстает перед его взором, определяется тоже кармой. Одна и та же река человеком воспринимается как полная воды, жителем ада – как поток огня, «голодным духом» (preta) – как поток гноя и нечистот, богом – как полная нектара (amйta), и все эти восприятия обусловлены кармически. Иными словами, существует некоторая внешняя относительно нашего обыденного сознания реальность, но, какова она в действительности, мы сказать не можем, так как для этого нам надо, образно говоря, взять в одну руку реальность саму по себе, а в другую – наше представление или понятие о ней и сравнить их; это, очевидно, невозможно, и это значит, что мы не можем выйти за пределы сознания и его содержаний.
Но вместе с тем это значит, что все сущее, включая и формирующие факторы, суть только vijñapti, «представление» – иначе говоря, все дхармы этого класса (равно как и все другие) суть только элементы языка описания, но не имеют отношения к реальности, а это, в свою очередь, означает, что само структурирование потока психики на эти элементы есть не более чем инструмент, предназначенный для упрощения управления психикой, нужный, чтобы направлять ее к обретению знания истинной реальности (tathatā) и просветлению. В «Компендиуме Абхидхармы» о формирующих факторах, не связанных с сознанием, тоже говорится как о представлениях , что подчеркивает и сам Асанга, и понимание их как реальных (dravyasat) само по себе будет эпистемологическим препятствием (jneya-avarana) на пути к просветлению.
Тем интереснее структура формирующих факторов, не связанных с сознанием, которые и являются группой неподвластных сознательному управлению причин закабаления в сансаре. Своеобразие этой группы в том, что входящие в нее факторы полностью «замыкают» в себе живое существо, исчерпывающе описывая каждый кармически значимый элемент той среды, в которой оно существует: prāpti фиксирует границы потока дхарм, образующего данное живое существо (данную «личность»); дхармы, определяющие состояния сознания, достижимые посредством медитации, фиксируют «выходы» из колеса перерождений, de facto тупиковые (с точки зрения буддийской доктрины), но воспринимающиеся как подлинные в брахманистских системах;
факторы от жизнеспособности (jīvitendriya) до невечности (anityatā) определяют границы этого потока дхарм в пределах одного телесного существования; группы имен, слов и фонем ограничивают пределы мышления индивида; статус обычного человека (pйthagjana) связывает индивидуальный поток дхарм с аффици-рованными дхармами (sāsrava-dharma), обусловливающими пребывание в сансаре; факторы от продолжения (prav й tti) до последовательности (anukrama) определяют собственный характер связи причин и следствий в индивидуальном потоке дхарм; наконец, факторы от времени (kāla) до сочетания (samagrī) фиксируют «внешние» отношения друг к другу причинно-следственных цепочек в индивидуальном потоке дхарм. Это множество дхарм, собственно, и очерчивает ту индивидуальную реальность, которая понимается в йогачаре как сознание-сокровищница, пораженное аффектами, проросшими из хранящихся в нем же семян (bīja), и которое необходимо избавить от семян – как уже проросших так и потенциальных, еще ждущих прорастания, – ибо сознание-сокровищница, освобожденное от них, и есть истинная реальность (tathatā) и нирвана.
Список литературы Учение о формирующих факторах, не связанных с сознанием, в "Компендиуме Абхидхармы" Асанги
- Бэкон, Ф. О достоинстве и приумножении наук/Ф. Бэкон//Сочинения: в 2 т. Т. 1/Ф. Бэкон; пер. с англ. П. А. Федорова, Я. М. Боровского. -М.: Мысль, 1971. -С. 85 -546.
- Васубандху. Энциклопедия Абхидхармы (Абхидхармакоша). Т. 1. Раздел I: Учение о классах элементов; Раздел II: Учение о факторах доминирования в психике/Васубандху; изд. подгот. Е. П. Островская, В. И. Рудой. -М.: Ладомир, 1998. -670 c.
- Вишну-смрити/пер. с санскр., предисл., коммент. и прил. Н. А. Корнеевой. -М.: Восточная литература, 2007. -421 с.
- Лама Анагарика Говинда. Психология раннего буддизма. Основы тибетского мистицизма/Лама Анагарика Говинда. -СПб.: Андреев и сыновья, 1993. -472 с.
- Луман, Н. Общество как социальная система/Н. Луман; пер. с нем. А. Антоновского. -М.: Логос, 2004. -232 с.
- Маламуд, Ш. Наблюдения над понятием «остаток» в брахманизме/Ш. Маламуд//Испечь мир: ритуал и мысль в древней Индии/Ш. Маламуд; пер. с франц. В. Г. Лысенко. -М.: Восточная литература, 2005. -С. 36-57.
- Островская, Е. П. Реконструкция/Е. П. Островская, В. И. Рудой//Васубандху. Энциклопедия Абхидхармы (Абхидхармакоша). Т. 1. Раздел I: Учение о классах элементов; Раздел II: Учение о факторах доминирования в психике/изд. подгот. Е. П. Островская, В. И. Рудой. -М.: Ладомир, 1998. -С. 117-191, 338-429.
- Розенберг, О. О. Труды по буддизму/О. О. Розенберг. -М.: Наука, ГРВЛ, 1991. -295 с.
- Abhidharmasamuccayabhвsyam/ed. by N. Tatia. -Patna: Kвъоprasвda Jвyasavвla-Anuъоlana-Saхsthв, 1976. -156 p.
- Asanga. Abhidharma-samuccaya/Asanga; сritically edited and studied by Pralhad Pradhan. -Santiniketan: Visva-Bharati, 1950. -110 p.
- Ng Suk-fun. Time and Causality in Yogвcвra Buddhism. PhD thesis/Ng Suk-fun. -Hong Kong: University of Hong Kong, 2014. -183 p.