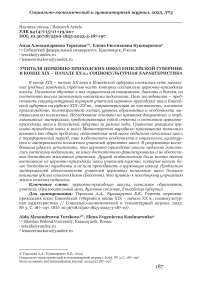Учителя церковно-приходских школ Енисейской губернии в конце XIX - начале ХХ в.: социокультурная характеристика
Автор: Терскова Аида Александровна, Кушнаренко Елена Евгеньевна
Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3 (29), 2023 года.
Бесплатный доступ
В конце XIX - начале ХХ века в Енисейской губернии сложилась сеть начальных учебных заведений, третью часть которых составляли церковно-приходские школы. Начальное обучение в них осуществляли священники, диаконы и дьячки, но постепенно школы заполнялись светскими педагогами. Цель исследования - представить социокультурный портрет учителей церковно-приходских школ Енисейской губернии на рубеже XIX-ХХ вв., охарактеризовав их численность, сословное происхождение, половозрастной состав, уровень образования и особенности материального положения. Исследование основано на архивных документах и опубликованных материалах, представляющих собой отчеты о состоянии церковно-приходских школ в Енисейской губернии за разные годы. Сравнение учащихся церковно-приходских школ и школ Министерства народного просвещения позволило выявить как общие проблемы, свойственные всей массе педагогов начальных школ в пореформенный период, так и обозначить особенности в социальном, культурном и материальном положении учителей церковных школ. В результате исследования удалось установить, что церковно-приходские школы медленно заполнялись светскими педагогами, не имея достаточного финансирования и не обеспечивая достойного жалованья учителям. Другой особенностью было почти полное вытеснение из церковно-приходских школ учителей-мужчин, которые искали более достойного заработка и не шли преподавать в церковную школу. Проблемам материальной обеспеченности учителей церковных начальных школ большое внимание уделял епископ Никон (Бессонов), что привело к некоторому улучшению жизни сельских педагогов.
Церковно-приходские школы, начальное образование, учителя, образовательный ценз, духовное сословие, енисейская губерния
Короткий адрес: https://sciup.org/140301497
IDR: 140301497 | УДК: 94 | DOI: 10.36718/2500-1825-2023-3-187-197
Текст научной статьи Учителя церковно-приходских школ Енисейской губернии в конце XIX - начале ХХ в.: социокультурная характеристика
Введение . Пореформенный период в истории Российского государства характеризовался процессами модернизации, которые проявились не только в технической, научной или экономической сферах, но и привели к значительным социокультурным переменам. Одной из них стало повышение значимости образования для конкретного человека, который имел возможность изменить свой социальный статус и сделать карьеру. Именно увеличение социальной мобильности населения как вертикальное, так и горизонтальное, а также разрушение сословных рамок, отличало конец XIX – начало ХХ в.
Рост количества начальных учебных заведений во второй половине XIX века и вместе с ним рост учительской интеллигенции был связан как с государственными реформами, так и с общественным подъемом, направленным на подготовку учителей для народных школ.
Учителя церковно-приходских школ не выступали объектом исследования. По сложившейся традиции конца XIX – начала ХХ в. исследователи, обеспокоенные низкой грамотностью населения в России, изучали становление системы народного образования и на ее фоне давали характеристику церковноприходским школам, духовенству и педагогам, преподающим в них. Так как основная масса трудов по истории школы принадлежала перу прогрессивных общественных деятелей, то общественное отношение к церковно-приходским школам изначально формировалось отрицательное, а участие духовенства в образовательном процессе считалось малополезным [1, 2]. Особый интерес к начальным школам и их развитию пришелся на
1910–1920 годы, что было связано с обсуждением в Государственной Думе вопроса о введении всеобщего начального образования в городах империи, а затем после Февральской и Октябрьской революций с кардинальным реформированием всей системы начального образования, создающим единую школу. В этот период наиболее системно дается характеристика учебным заведениям и педагогическим кадрам, в том числе церковным школам в Сибири, Приенисейском регионе и в отдельных городах губернии [3, 4, 5]. Вопросы реформирования церковных школ освещались также на страницах журнала «Енисейские епархиальные ведомости» [6, 7].
В советской исторической науке изучению истории развития церковноприходских школ внимания не уделялось. Школы по-прежнему рассматривались только в контексте становления системы народного образования, причем церковные школы считались наиболее отсталыми учебными заведениями пореформенной России. Вопрос о педагогических кадрах церковно-приходских школ рассматривался в рамках общей характеристики учителей начальных учебных заведений, либо был проанализирован в связи с проблемой становления российской интеллигенции, среди которой особой группой указаны учителя начальных и средних учебных заведений, однако учителя церковно-приходских школ не относились к учительской интеллигенции [8, 9].
В постсоветский период интерес к системе начального образования и к фигуре учителя возродился с новой силой. Вопросы подготовки педагогических кадров и характеристики учащих освещены в трудах В.В. Бибиковой, В.И. Федоровой и Г.Ф. Быкони [10, 11]. Особенно хочется отметить фундаментальный труд А.И. Шилова, в котором автор на широком документальном материале анализирует систему начального образования Сибири [12]. В процессе становления системы образования в Восточной Сибири А.И. Шилов, опираясь на советскую ме- тодологию, выделяет три этапа, давая подробную характеристику политике правительства в образовательном вопросе, различным видам учебных заведений (двуклассным училищам, городским училищам, церковно-приходским школам, железнодорожным и частным школам) и педагогическим кадрам на каждом этапе развития. Выводы, к которым приходит историк, во многом совпадают с советской исторической школой.
Значительный вклад в изучение учительской интеллигенции в Енисейской губернии, ее значимости для сельского населения и способам взаимодействия учителя и сельчан посвящены работы В.И. Федоровой [13, 14]. Автор в своих рассуждениях основывается на культурно-антропологическом подходе к истории, подробно рассматривая социокультурный портрет сельского учителя, сравнивая его с учителями средних учебных заведений, проживающих в городах.
Вопросы о количестве церковноприходских школ и отношении к ним прихожан отмечены в работах, посвященных исследованию духовного сословия Российской империи и истории церкви Синодального периода, однако анализа педагогического состава школ в них не приводится [15, 16, 17]. В последнее время появились работы краеведов, которым удалось воссоздать историю отдельных приходов Приенисейского региона, дать характеристику начальным учебным заведениям в приходе, количеству учащихся, восстановить имена некоторых учителей [18, 19].
Таким образом, вопрос о педагогических кадрах церковно-приходских школ Енисейской губернии освещен недостаточно подробно и требует значительно большего внимания.
Цель исследования . Охарактеризовать социокультурные особенности учителей церковно-приходских школ в 80-е годы XIX – начале ХХ в. в сравнении с учителями министерских школ, что позволит более ярко выделить общие и отличные черты среди учительской интеллигенции начала ХХ в.
Материалы и методы исследования . В основу исследования положены опубликованные отчеты по церковноприходским школам Енисейской губернии за 1888–1889, 1896–1897, 1912–1913 и 1913–1914 гг., а также документы Государственного архива Красноярского края, касающиеся делопроизводственной практики по отдельным школам, отчет за 1917 г., поданный местным органам власти [20, 21, 22, 23, 24]. Работа основывается на принципах историзма и объективности, а также строится на сравнительно-историческом методе, который позволил выявить наиболее существенные социокультурные отличия учителей церковно-приходских школ в Приени-сейском регионе.
Результаты исследования и их обсуждение . Начальное образование в Российской империи до Октября 1917 г. не было всеобщим. Грамотность населения в Енисейской губернии по переписи 28 января 1897 г. составляла 13,6 %, это на 2 % выше, чем средняя грамотность по Восточной Сибири. Среди мужчин 20 % были грамотны, среди женщин – 6,7 % [12, с. 163]. Потребность в школах была большая. Рост начальных школ наблюдался в Сибири, как и по всей России, в пореформенный период. Особенно быстро школы стали возникать в последней четверти XIX в. «В Сибири с 1854 по 1888 г. было открыто 757 начальных училищ, а с 1889 по 1906 г. – еще 3890 школ» [5, с. 13]. Д.Г. Жолудев подчеркивал, что школьная система в Приенисей-ском регионе начала складываться только в конце XIX в. [8, с. 47]. Решить проблему грамотности сельского населения должны были два ведомства: Министерство народного просвещения и Синод.
Церковно-приходские школы по распоряжению правительства стали открывать с 1804 г. как низшее звено сельских школ. Подобное распоряжение вновь последовало в 1836 г. Основываясь на нем, епархиальные архиереи создавали школы при церквях и монастырях. Однако, как подчеркивал Н.В. Чехов, к середине XIX в. все школы подобного типа уже были закрыты. «Таким образом, две попытки правительства организовать дело народного образования при посредстве духовенства потерпели полную неудачу. Гораздо большее значение в истории русской народной школы имела третья попытка организации церковно-приходских школ, рядом со школами Министерства народного просвещения» [2, с. 93–94]. Новый указ 1884 г. о создании церковно-приходских школ передал приходские школы и школы грамоты в ведение Синода.
Первые церковно-приходские школы в регионе возникли в 30–40-е гг. XIX в. – это Частоостровский приход, села Сухобузимское, Нахвальское, Погорельское [10, с. 160]. В 1871 г. в Енисейской губернии на 170 приходов приходилось всего 5 приходских школ [25, л. 163]. 13 июня 1884 г. был утвержден «Устав церковно-приходской школы» (ЦПШ). Данный тип школ имел целью утверждать в народе православное учение веры и нравственности христианской и сообщать первоначальные полезные знания. Современные исследователи, опираясь на мнение дореволюционных и особенно советских историков, подчеркивают, что церковно-приходские школы были результатом реакционной политики правительства и обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева [15, с. 78; 16, с. 124]. Церковные школы, скорее, воспитывали, а не образовывали сельское население. Вместе с тем хочется отметить, что структура церковно-приходских школ, создаваемая как тупиковая система начального образования, так как после ее окончания невозможно было поступить на следующую ступень обучения, к началу ХХ в. видоизменилась и подстроилась ближе к населению, решая собственные проблемы.
В 1888–1889 гг. (пятый год существования школ) церковно-приходских школ в епархии насчитывалось 69, а школ грамоты – 24 [20, с. 8]. К 1897 г. в Енисейской губернии действовали 108 ЦПШ, охватывающих около половины приходов. По данным однодневной школьной переписи 18 января 1911 г., церковно-приходские школы составляли в Восточной Сибири 35,4 % от общего количества образовательных учреждений [5, с. 142]. В 1912 г. уже насчитывалось 212 церковных школ в 315 приходах [26, л. 141; 27, л. 111].
Церковно-приходские школы были нескольких видов: однокомплектные, двухкомплектные, трехкомплектные (обучение в них длилось 2–4 года, а комплекты определяли количество классов); двуклассные (обучение 5–6 лет, включало в себя дополнительные предметы в старшем отделении) и второклассные школы (готовили учителей для школ грамоты, срок обучения в них составлял 3 года) [22, с. 9]. К январю 1916 г. в регионе было 226 ЦПШ, что составляло треть от общего количества начальных учебных заведений, основную массу среди которых представляли школы Министерства народного просвещения, которых было 555 [3, с. 13–14]. Через год в Енисейской губернии действовали 242 церковные школы, причем в городах только 15, остальные располагались в сельской местности. Большинство школ к 1917 г. оставались одноклассными и однокомплектными (70 %), а срок обучения в них был определен 3 года. Ряд школ были двухкомплектные и трехкомплектные, срок обучения в них был увеличен до 4 лет. В одноклассной церковноприходской школе преподавали Закон Божий, церковное пение, славянский язык, чтение, правописание, арифметику [24, л. 33, 35; 22, с. 96–100].
Количество двуклассных церковноприходских школ за пять лет с 1912 по 1917 г. увеличилось с 14 до 24. После окончания двуклассной школы можно было продолжать образование в учительской семинарии. Эти школы были очень востребованы среди населения. В двуклассных школах преподавали Закон Божий, пение, русский язык, арифметику, историю, географию, естествознание, геометрию, рукоделие [22, с. 97–100]. Также в церковном ведомстве работали учительские школы в Ачинске, Красно- ярске и Минусинске, которые готовили преподавателей для церковноприходских школ [24, л. 33, 35]. В начале ХХ в. церковно-приходские школы, подстраиваясь под потребности общества и не желая терять учеников, становились более светскими, в них расширялась предметная программа, увеличился срок обучения, они наполнились светскими педагогами, даже Закон Божий в некоторых школах передали для преподавания светским лицам по примеру министерских школ [24, л. 37].
Среди всех губерний Сибири по количеству церковно-приходских школ лидировала Томская губерния, в которой их насчитывалось к 1913 г. 1086 ед. Енисейская губерния занимала пятое место среди сибирских регионов по числу ЦПШ, деля место с Иркутским регионом [17, с. 102].
Структура церковно-школьного аппарата, контролирующего работу начальных учебных заведений, состояла из Епархиального училищного совета и его уездных окружных отделений, а также школьной инспекции, возглавлял которую епархиальный наблюдатель. На рубеже веков эту должность занимали протоиерей Михаил Лотоцкий, Леонид Смирнов, Николай Асташевский. Приходские священники заведовали хозяйственной частью школ, руководили учебно-воспитательным процессом, выполняли обязанности законоучителей и учителей пения. Иногда диаконы брали на себя учительские труды.
Несмотря на количественный рост церковно-приходских школ в губернии, процент детей, получающих в них образование, был невелик. В Енисейских епархиальных ведомостях за 1884 г. сообщалось, что к 1884 г. в губернии 50 начальных училищ с 1479 учащимися (сюда же относились и школы Министерства народного просвещения). Грамоте обучались только 2,34 % детей школьного возраста [6, с. 60–61]. Рост числа школ в регионе в конце XIX – начале ХХ в. привел к тому, что в школах к 1915 г. обучались уже 43,3 % детей школьного возраста, а общая численность учащихся составляла в министерских школах 33 091 человек, в церковноприходских – 11 464 человека. Таким образом, в министерских школах количество детей в три раза было больше, чем в церковно-приходских школах, которые охватывали только 11 % учащихся [3, с. 1]. Этот факт, безусловно, свидетельствовал о том, что министерская школа развивалась успешней, чем школа церковного ведомства.
Главная проблема, с которой сталкивались церковные школы в 80–90-е годы XIX в. – это нехватка светских педагогов. Так, в 1888–1889 гг. светских учителей в школах данного типа было всего 25 человек, тогда как представителей клира в 64 учебных заведениях трудилось 78 человек [20, с. 9–10]. Церковнослужители составляли 44 % педагогов по общеобразовательным предметам. Уровень образования педагогов в 80-е годы XIX в. в данных школах был низкий, только треть из священников имела законченное семинарское образование, а светские учителя, как правило, вообще не имели педагогического образования, заканчивая военную гимназию, духовное училище, народное или уездное училище [20, с. 11–12].
В 90-е годы XIX в. ситуация в церковных школах по-прежнему не менялась, количество светских педагогов составляло только 31 % в 1893 г. и 35 % в 1897 г., а остальные 69–65 % учителей являлись представителями клира [28, л. 12–15; 21, с. 24]. Однако к концу XIX в. сформировалась тенденция, свойственная всем педагогическим кадрам в регионе: учительниц среди светских преподавателей стало больше, чем учителей (22 учителя и 46 учительниц в ЦПШ) [21, с. 24]. Такая закономерность обозначилась в министерской школе значительно раньше, чем в церковно-приходской.
Церковно-приходская школа стала заполняться светскими педагогами лишь в начале ХХ в. По социальному происхождению учителя ЦПШ принадлежали к мещанам, разночинцам, были выход- цами из сельского духовенства, крестьян, казачества. Больше половины учителей начальной школы были в возрасте от 20 до 30 лет, а 24 % учащих были моложе 20 лет [14, с. 28]. Педагогический персонал в церковных школах в 1904 г. составлял 244 человека, не считая клира [7, с. 481]. К 1913–1914 гг. количество учителей в церковно-приходских школах губернии увеличилось с 272 до 288 человек. Причем учителя составляли 22 %, а учительницы – 78 % преподавателей [23, с. 136]. Учительниц в церковных школах было значительно больше, чем в школах министерских, где в 1908 г. учительницы составляли 39,5 %, а в 1915 г. – 64,4 % [3, с. 13–14; 12, с. 196–197]. К 1917 г. общеобразовательные предметы в церковных школах вели 348 педагогов, среди которых было 82 % женщин и 16 % мужчин [24, л. 33, 35]. Женщины-учительницы вытеснили мужчин из церковноприходской школы, чему было несколько причин: во-первых, основную массу педагогических кадров для церковных школ готовили Епархиальное женское училище, светская школа (Красноярская второклассная учительская школа) и женская гимназия; во-вторых, работа в школе данного типа не пользовалась популярностью у мужчин из-за низкого заработка.
Характеризуя выпускников различных учебных заведений, которые попадали работать в приходские школы, епархиальный наблюдатель отмечал, что из второклассных школ выходили неплохие педагоги, но не везде были дополнительные педагогические классы, и у выпускников было недостаточно практики [23, с. 137]. Из Епархиального женского училища, где срок обучения увеличили до 7 лет и действовали подготовительные классы, учительницы выходили робкие, неопытные, со слабыми теоретическими и методическими знаниями. Они, по мнению епархиального начальства, были не любознательны и не стремились развиваться. Епархиальное женское училище выпускало по преимуществу девочек из семей духовного сосло- вия, но в церковно-приходские школы шли работать самые слабые выпускницы, а не лучшие кадры училища [23, с. 138]. Из классической женской гимназии выходили педагоги, хорошо преподающие русский и арифметику, однако плохо знающие славянский и пение [23, с. 138]. Дольше всего оставались трудиться учителями выпускники второклассных учительских школ и городских училищ, вышедшие из податных сословий. Для них заработок учителя церковно-приходской школы являлся средним, а найти другое место работы при низком образовательном цензе было сложно. Выпускники учительской и духовной семинарий очень быстро уходили на другие места службы [22, с. 133–134]. Самые худшие педагоги выпускались из прогимназий, так как закон им разрешал работать учителями, но они не сдавали специального экзамена и не имели полного курса по некоторым предметам [22, с. 135].
Уровень образования у учителей министерских школ был выше, чем у церковно-приходских школ. В министерские школы в начале ХХ в. шли в основном выпускники учительских семинарий, а количество педагогов со средним педагогическим образованием колебалось от 35 до 75 %, тогда как в школах церковно-приходских педагоги со средним профессиональным образованием составляли от 44 до 20 % в разные годы [12, с. 196–197; 23, с. 136; 3, с. 14; 24, л. 35].
Невысокий образовательный уровень учителей епархиальное начальство старалось компенсировать различными совещаниями и съездами церковношкольных деятелей, которые давали возможность обменяться опытом, открытием в уездах учительских библиотек. Особенно активно эта работа началась при епископе Никоне [22, с. 137, 140; 23, с. 190]. Однако большие трудности возникали из-за частой смены педагогов и оттока педагогических кадров из церковных школ. Учителя не задерживались на одном месте более 3–4 лет, тогда как около 2 лет было необходимо для приоб- ретения педагогического опыта. Так, в 1912–1913 гг. 43,3 % учителей церковных школ проработали на одном месте от 1 года до 3 лет и только 19 % педагогов преподавали в школах от 5 до 10 лет [22, с. 123]. Эта текучесть кадров была свойственна и министерским школам: «Малоопытные учителя, прослужившие до трех лет, составляли 60,6 %» [12, с. 146]. Епархиальный наблюдатель писал: «Большинство учителей, три года отработав в школе, спешат покинуть школу ради другого образа жизни. В министерских училищах высок процент мужчин, и здесь остаются работать педагогами всю жизнь» [23, с. 137]. Учительницы, по мнению начальства, ставили своей задачей удачно выйти замуж, а, вступив в брак, покидали место работы. Епархиальный совет оставлял на местах замужних преподавательниц, но это не изменяло ситуацию с частой сменой педагогов. Как правило, замужняя учительница переезжала вслед за супругом, теряя место службы. Она была обременена домом и семьей, и это также становилось причиной ухода со службы. Еще одним основанием покинуть школу был очень низкий заработок, который не позволял содержать семью на зарплату учительницы. Ситуация несколько улучшилась в 1917 г ., что связано было с Первой мировой войной, мобилизацией и некоторым улучшением материального положения учителей церковно-приходских школ: 60 % учителей проработали в школе сроком до 5 лет, а 23 % трудились в приходских школах около 10 лет [24, л. 37].
Материальное положение учителей церковно-приходских школ играло большую роль в становлении этого типа учебных заведений. Священники в 80-е годы XIX в. преподавали Закон Божий бесплатно, либо за незначительную плату. Учителя нескольких школ, содержащихся на средства частных жертвователей, получали жалование 100–120 руб. в год, но, как правило, крестьянское общество выносило приговор о содержании учителя натурой, либо за небольшую плату, а наиболее бедные приходы отка- зывались оплачивать труд учителя до более благополучных времен. Уездные наблюдатели в случае отказа в жаловании от общества просили пособие от училищного совета для содержания учителей. В среднем жалование в 1888– 1889 гг. составило 61 руб. 76 коп. в год [20, с. 14–17].
В 1890-е годы наблюдался рост заработной платы учителей в регионе. Жалование учителя зависело от образовательного ценза, стажа работы, типа школы, выполняемых обязанностей. У мужчин оплата была несколько выше, чем у женщин. Учительницы министерских школ получали 350–450 руб., учителя-мужчины – 350–600 руб. [12, с. 201]. Жалование преподавателей церковных школ также зависело от многих факторов и варьировалось от 144 до 360 руб. в год, средняя сумма по губернии составляла 164 руб. [21, с. 26]. Таким образом, жалование учителя церковно-приходской школы было в 2 раза меньше, чем зарплата педагога министерской школы.
В начале ХХ в. жалование учителя ЦПШ немного возросло. Учителя церковных школ со средним образованием получали 360 руб. в год, имеющие свидетельство на звание учителя – 240–270 руб., не имеющие свидетельства – 180 руб. в год [7, с. 482]. В связи с увеличением государственного финансирования церковно-приходских школ в предвоенное время содержание учителей было увеличено до 480 руб. в год [22, с. 132]. Однако педагоги основной массы церковных школ не имели надбавок за выслугу лет и пенсии, как преподаватели министерских школ.
Большое значение для преподавателей церковных школ имело решение квартирного вопроса, особенно этому способствовал епископ Никон (Бессонов). В 1912 г. квартиры для преподавателей имелись только в 1/3 школ. Большинство учителей, приезжая в село, отказывались жить при школах из-за удаленности школы от села и из-за дороговизны заводить собственное хозяйство. Выгоднее было снимать комнату у зажи- точных крестьян со столом при сумме расходов 8–12 руб. в месяц. Многие крестьяне дорожили интеллигентными жильцами не ради барыша, а ради удовольствия пользоваться их общением. Появление в селах в начале ХХ в. других интеллигентных работников – агрономов, инструкторов, типографов, врачей и фельдшеров – создало кризис в квартирном вопросе. За комнату со столом требовали уже не 10, а 20 руб., а в некоторых местах невозможно было найти удобной квартиры за любую цену [22, с. 34–35]. В переселенческих поселках учителя вынуждены были снимать «угол» в одном помещении со всей крестьянской семьей. Инспектора подчеркивали, что наличие квартир при школе необходимо не только учителям, но и детям, которые до начала уроков остаются без присмотра. Епископ Никон предложил всем учителям, не имеющим квартиры, с марта 1913 г. выплачивать квартирное пособие из церковных сумм с одобрения благочиннических съездов духовенства. Через год вопрос с квартирами для учителей улучшился: не имели квартирного пособия и не получали квартир только 20 % учителей, тогда как в предыдущем году эта цифра доходила до 70 % [23, с. 143]. Таким образом, материальное положение учителей церковно-приходских школ в начале ХХ в. несколько улучшилось с ростом заработной платы и решением квартирного вопроса.
Заключение. На рубеже XIX–XX веков церковно-приходские школы из традиционных учебных заведений, находящихся под контролем православного причта, постепенно превращались в учебные заведения с широким перечнем общеобразовательных предметов, откликаясь на потребности времени, а духовенство уходило от преподавательской работы в школах. В этот же период школы наполнились светскими педагогами, преимущественно девушками и молодыми женщинами, которые имели среднее образование или звание учительницы. Материальное обеспечение учителей приходских школ было худшим по срав- нению со школами ведомства народного просвещения, что приводило к частой смене педагогов, отличающихся незначительным опытом и низкой квалификацией. Епархиальное начальство старалось сделать церковно-приходскую школу более привлекательной, решало квартирный вопрос для учащихся. Безусловно, церковно-приходские школы требо- вали дальнейшей модернизации, а объединение их в 1917 г. со школами Министерства народного просвещения во многом послужило на пользу населению, формируя единую систему народной школы, прекратив соперничество двух ведомств, сплотив учительские кадры региона.
Список литературы Учителя церковно-приходских школ Енисейской губернии в конце XIX - начале ХХ в.: социокультурная характеристика
- Вахтеров В.П. Нравственное воспитание и начальная школа. М.: Русская мысль, 1901. 241 с.
- Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х годов XIX века. М.: Польза, 1912. 224 с.
- Березовский Н.П. О состоянии начального образования в Енисейской губернии за 1915 год. Общие сведения. Красноярск, 1916. 57 с.
- Оносовский А. Начальные школы г. Красноярска: краткий историко-статистический очерк (до августа 1913 г.). Красноярск, 1914. 76 с.
- Юрцовский Н.С. Очерки по истории просвещения в Сибири. Вып. 1. Общий ход развития школьного дела в Сибири. 1703–1917 гг. Ново-Николаевск, 1923. 250 с.
- Савенков И. Несколько слов о народном образовании в связи с религиозно- просветительским делом в епархии // Енисейские епархиальные ведомости. Отдел неофициальный. 1884. № 4. С. 54–71.
- Оносовский А. Краткие заметки о церковных школах Енисейской епархии за 1904 год в связи с предполагаемым введением земств в Сибири // Енисейские епархиальные ведомости. Отдел неофициальный. 1905. № 18. С. 473–487.
- Жолудев Д.Г. Краткая история школ Красноярского края (до Великой Октябрьской социалистической революции). Енисейск, 1961. 155 с.
- Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX в. М.: Мысль, 1971. 367 с.
- Бибикова В.В. Роль частной и общественной инициативы в развитии образования Енисейской губернии в XIX – начале XX века. Красноярск: Офсет, 2004. 204 с.
- Очерки истории народного образования Красноярского края (XVII – начало XXI в.) / Г.Ф. Быконя, В.И. Федорова, С.Н. Ценюга [и др.]. Красноярск: Литера-Принт, 2014. 580 с.
- Шилов А.И. Начальное образование Восточной Сибири конца XIX – начала ХХ в. Красноярск: Изд-во КГПИ им. В.П. Астафьева, 2012. 720 с.
- Федорова В.И. Школа – учитель – общество. Из истории народного образования Енисейской губернии XIX – начало ХХ в. Красноярск, 2015. 244 с.
- Федорова В.И. Учительская интеллигенция Енисейской губернии на рубеже XIX–XX веков: социокультурная характеристика // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. № 5 (182). С. 27–33.
- Леонтьева Т.Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX – начале ХХ в. М.: Новый хронограф, 2002. 253 с.
- Федоров В.А. Русская Православная церковь и государство. Синодальный период. 1700–1917. М.: Русская панорама, 2003. 480 с.
- Харченко Л.Н. Православная церковь в культурном развитие Сибири (вторая половина XIX – февраль 1917 г.): очерки истории. СПб.: Изд-во Политех. ун-та, 2005. 510 с.
- Кравченко Р.А. Каратуз православный // Сибирский крест: историко-публицистический альманах. Красноярск: Восточная Сибирь, 2021. Вып. 1. С. 126–299.
- Храм Вознесения Господня деревни Бугачево Красноярской епархии (материалы подготовлены к 125-летию храма) / авт.-сост. Н. Трубленко (Кочергина), В. Гордова. Красноярск: Палитра, 2020. 79 с.
- Отчет о состоянии церковно-приходских школ и школ грамотности Енисейской епархии за 1888/1889 учебный год. Красноярск: Типография Ал.Д. Жилина, 1890. 32 с.
- Отчет о состоянии церковно-приходских школ Енисейской епархии за 1896/1997 учебный год. Красноярск: Типография Ал.Д. Жилина, 1898. 51 с.
- Отчет о состоянии церковно-приходских школ Енисейской епархии в 1912/1913 учебном году. Красноярск: Типография Епархиального Братства, 1914. 201 с.
- Отчет о состоянии церковно-приходских школ Енисейской епархии в 1913/1914 учебном году. Красноярск: Типография Епархиального Братства, 1914. 217 с.
- Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. 904. Оп. 1. Д. 307.
- ГАКК. Ф. 297. Оп. 1. Д. 104.
- ГАКК. Ф. 674. Оп. 1. Д. 7982.
- ГАКК. Ф. 674. Оп. 1. Д. 4827.
- ГАКК. Ф. 674. Оп. 1. Д. 4430.