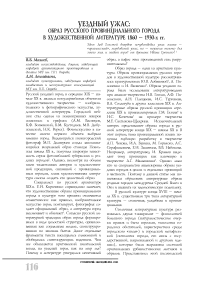Уездный ужас: образ русского провинциального города в художественной литературе 1860 - 1930-х гг
Автор: Махаев В.Б., Лемайкина Л.М.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Россиеведение
Статья в выпуске: 1 (5), 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14720349
IDR: 14720349
Текст статьи Уездный ужас: образ русского провинциального города в художественной литературе 1860 - 1930-х гг
Русский уездный город в середине XIX — начале XX в. являлся популярнейшим объектом художественного творчества — изобразительного и фотографического искусства, художественной литературы. Городской пейзаж стал одним из полноправных жанров живописи и графики (А.М. Васнецов, К.Ф. Богаевский, Б.М. Кустодиев, М.В. Добу-жинский, Н.К. Рерих). Фотоискусство в качестве своего первого объекта выбрало именно город. Выдающийся нижегородский фотограф М.П. Дмитриев создал запоминающийся визуальный образ столицы Поволжья начала XX в., получила широкую известность серия фотопейзажей губернских и уездных городов2. Однако, несмотря на обилие имен талантливых авторов и художественной продукции, связанной с провинциальным городом, лишь художественная литература смогла создать его целостный образ.
Специалист по русской архитектуре XIX в. Е.И. Кириченко справедливо замечает, что художественные образы провинциального города в культуре того времени отличаются семантически: как правило, изобразительное искусство город поэтизирует, фотография создает официальный образ, а литература город высмеивает и обличает3. Согласно русской литературной традиции образ города формировался в виде целостной структуры, организованная как социальная модель, сконструированная по законам бытия. Даже отдельные фрагменты текста насыщались символикой и обобщались синтезирующим видением. Чем же объясняется критический писательский взгляд на уездный город как на мир зла? Почему в литературе утвердился негативный образ, а пафос этих произведений стал разрушительным?
Образ города — один из архетипов культуры. Образы провинциальных русских городов в художественной культуре рассматривались культурологами Ю.В. Лобановой4, А. Пилипенко и И. Яковенко5. Образы уездного города были исследованы литературоведами при анализе творчества Н.В. Гоголя, А.Ф. Писемского, А.Н. Плещеева, И.С. Тургенева, В.А. Соллогуба и других классиков XIX в. Литературные образы русской провинции середины XIX в. проанализировали Г.М. Газина6 и Н.С. Кочетова7 на примере творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Исключительный интерес представляют образы города в русской литературе конца XIX — начала XX в. В этот период тема провинциальной жизни получила глубокую разработку в творчестве А.П. Чехова, И.А. Бунина, М. Горького, А.С. Серафимовича, Е.И. Замятина, В.В. Набокова. Например, литературовед И. Крамов выделяет тему провинции как ключевую в творчестве А.Г. Малышкина8. Однако мало кто из специалистов анализировал образы уездных городов в целом и отдельных провинций в частности. Поэтому в данной статье мы попытаемся обрисовать литературные образы уездных городов междуречья Средней Волги и Оки и выявить их идеологическую подоплеку.
В русской культуре конца XVIII — начала XX в. существовали три типа литературной культуры — столичная, усадебная и провинциальная.
Столичная литературная культура развивалась двумя «жанрами» — физиологией большого города (натуралистические очерки нравов и быта горожан, типология городских обитателей, характеристика среды городского «низа») и городской метафизикой (онтология города, его связь с государственной, национальной и другими идеями), которые были выражены системой оригинальных урбанистических мотивов и образов. Представители этой писательской культуры являлись выходцами из всех социальных слоев большого города.
Другой тип литературной культуры был сформирован в наследственных помещичьих и барских поместьях, где родилась национальная гуманистическая традиция, воплотившая высокие нравственные представления и гражданственность.
Литературную культуру третьего типа создали провинциальные писатели, выходцы из среды разночинцев, в целом они проповедовали демократическую идеологию. Немногочисленные местные писатели показывали объективные причины отсталости провинции и скрашивали безрадостные картины сильным чувством привязанности к родным местам. Провинциальная литература отличалась тематической и жанровой узостью. Здесь мы не встретим такого излюбленного мотива усадебной прозы и поэзии, как противопоставление шумной городской жизни и сельского уединения. Как правило, провинциальная литература ограничивалась прозаическими или стихотворными зарисовками, описанием нравов, сатирой на горожан и городские порядки, историческими очерками. При этом провинциальные писатели, как и столичные, были ярыми обличителями царизма и самодержавия, православной церкви, они с гневом говорили в своих произведениях о нужде, темноте и бесправии, о страданиях горожан призывали к борьбе с общественными язвами. Как пишет литературовед И.Д. Воронин, они «беспощадно изобличали провинциальную отсталость, застой общественной жизни, кумовство и круговую поруку небольшой кучки власть имущих дворян»9.
Писателями-диссидентами вынужденное пребывание в провинции расценивалось как наказание за убеждения и творчество, причем наказание неадекватное, чересчур суровое. Это стало субъективно-психологической основой их творческого метода, причиной враждебной настроенности по отношению ко всему местному — образу жизни, нравам, традициям. Писатели критиковали уездный город с точки зрения революционно-демократической прогрессистской идеологии и столичной культуры, они не видели в провинции органического существования, особую историческую среду, национальную традицию провинциального бытия. Собирая в уездных городах ссыльных писателей-диссидентов, власть способствовала созданию негативного образа провинции в общественном сознании. Казус, происшествие, локальный образ вырастали до колоссальных обобщений, до общенациональных масштабов. Этот образ не удалось развеять в 1900-е гг., когда появилась романтическая идеализация провинции, но именно в это время представление о «мировом зле» сконцентрировалось в универсальном образе города, в том числе провинциального. Для русского писателя в качестве идеала всегда выступал европейский город, поэтому наши полугородские-полусельские поселения рассматривались ими как имитация чего-то более значительного, как псевдогород.
Яркие образы уездного города создал выдающийся русский писатель-сатирик М.Е. Салтыков-Щедрин. В 1844 — 1868 гг. он находился на государственной службе, являясь чиновником военного министерства, МВД, рязанским и тверским вице-губернатором, председателем Пензенской казенной палаты (1864 — 1866), управляющим Тульской и Рязанской казенных палат. В 1866 г. он ревизовал казначейства в Саранске, Инсаре и Краснослободске, в 1865 — 1866 гг. бывал в Саранске проездом. Будучи высокопоставленным чиновником, М.Е. Салтыков-Щедрин в 1848 - 1856 гг. находился в ссылке в Вятке за публикацию повести «Запутанное дело» в «Отечественных записках». Писатель-сатирик прекрасно знал и понимал провинциальный быт и нравы. В своих произведениях он выразительно обрисовал отвратительную среду мелкого чиновничества: вопиющий произвол городских властей, взяточничество, канцелярскую волокиту, жестокое обращение с бесправными обывателями, глумление над личностью простых горожан, ханжество и пустословие интеллигенции, всеобщую жажду накопительства.
Писатель, для прозы которого характерна резкая типизация и гиперболизация, создал обобщающий образ провинциального города как модели государства, а городского общества — как модели нации. Этот образ строится в виде блестящей сатирической летописи губернского («Губернские очерки», 1856; «История одного города», 1870), уездного («Глупов и глуповцы», «Письма о провинции», 1868; «Пошехонские рассказы», 1883 — 1884; «Пошехонская старина», 1887). Характер моральных проблем горо-
РОССНЕВЕДЕННЕ
жан, которые послужили писателю прототипами, во многом совпадал, делал их типичными для всей русской провинции. Приметы городов и сел междуречья Волги и Оки мы находим в «Пошехонских рассказах», повести «Испорченные дети» и других произведениях. Как пишет исследователь рязанского периода жизни и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина Н.С. Кочетова, в провинции «было все, что воплотилось в творчестве писателя: изуверы-помещики и безропотные крестьяне-рабы, мерзавцы-губернаторы и негодяи-чиновники, крестьянские бунты и военные усмирения, голодные уезды и обогащающиеся представители капитала» 10.
Провинция М.Е. Салтыкова-Щедрина— это край дремучего невежества и беспросветной дикости, сказочной безалаберности и безответственности, всеобщей бестолковщины. Писатель рисует выразительнейшие социально-психологические типы провинциалов. На страницах его произведений мы найдем уродливые, гротескно-фантастические маски рядовых обывателей — спекулянтов, откупщиков, менял, беспринципных интеллигентов — мечтателей и фантазеров. Здесь же представители «начальства», всякого рода чиновники — реформаторы и ретрограды, идеологи застоя и казнокрады. Описанная М.Е. Салтыковым-Щедриным провинциальная мертвечина — это сопротивление всякому изменению, даже самым здравым преобразованиям, это «ожидание реформы как казни» 11. Писатель показывает относительность нравственных законов, власть обветшалых традиций. Знаменитый город Глупов стал символом дикости, химерическим палладиумом жестокого и бестолкового порядка вещей в России середины XIX в., а глуповский ландшафт являет читателю мрачные, гнетущие картины глубокого падения общественных настроений и нравов в условиях политической реакции середины XIX в. В образе уездного города писатель отобразил самодержавно-деспотическую Россию, где господствует «власть негодяев, мерзавцев, распутников»12. Н.С. Кочетова справедливо замечает: «Без-гласие провинции выгодно столицам: оно помогает им думать, что Россия — земля обетованная, Петербург присвоил себе право инициативы, право награждать и карать, требовать и рекомендовать, олицетворяя собой высшую государственную власть»13. Печаль- но, но социально-политический критицизм М.Е. Салтыкова-Щедрина не утратил своей остроты ни в XX, ни в начале XXI в.
Широкую панораму провинциальной жизни создал в ряде своих выдающихся произведений М. Горький. В 1902 г. в течение 5 месяцев он отбывал ссылку в Арзамасе. Этот старинный уездный город, его облик, жители и городские нравы послужили богатейшим материалом для известного «Окуровского» цикла, в который вошли повести «Городок Окуров» (1909 — 1910), «Жизнь Матвея Кожемякина» (1910 — 1911) и рассказ «Городок» (1924). В первой повести и рассказе показан Арзамас 1905 г., во второй — он же в 1860 — 1900-е гг.
Предмет художественного исследования М. Горького — «уездные гнезда российской косности, в 1905 — 1906 годах тяжко показавшие устойчивость своего быта»14. Если в 1890-е гг. мещанство являлось символом застоя, а провинциальная интеллигенция дополняла гнетущую картину провинциального убожества, то М. Горький поднимает проблему реакционности уездного мещанства. Его составляют мелкие торговцы, домовладельцы и ремесленники, которые воплощают дикие нравы уездной России, ее вековые «традиции» — предрассудки, суеверия, косность патриархального эгоистического существования. Писательское перо рисует масштабную картину дряхлеющего мелкобуржуазного мира, растленного и бесчеловечного. Со страниц «Окуровского» цикла веет душевной гнилостью нравственно опустошенных людей. Читателя поражает затхлая, тоскливая, мелочная, некультурная жизнь прозябающих мещан, лишенных больших жизненных целей. Мещанство является одним из устоев реакции, считает писатель, ибо за внешней благообразностью скрываются мрачные необузданные нравы и разрушительные силы. Из одного произведения цикла в другой переходят персонажи с «говорящими» именами Ушат Помоевич, Уксус Умирайлыч, «обезьяноподобный Четыхер», Лодка. Панорама уездной жизни, обрисованная М. Горьким, так широка, что можно говорить об эстетике окуровской жизни. Крепкие патриархальнособственнические устои, мещанский уют скрывают ненависть ко всему новому, обезличенность и изолированность, страстное желание спрятаться и навсегда успокоиться. Как пишут Б. Михайловский и Е. Тагер, «окуров-щина — питательная среда для квиетизма и фатализма, философии покорности и смире-ния»15. Однако и в этой собственнической среде существуют люди, томящиеся мещанским бытом, мечтающие об иной жизни — красивой и осмысленной. Вольнолюбивые герои не находят здесь себе места и становятся добровольными скитальцами.
Негативный облик города, нарисованный М. Горьким, так же впечатляющ, как и населяющие его персонажи. Городок Оку-ров— это «безнадежное место», прикрытое «толстым слоем плотных, как войлок, туч»16. «С бесплодного, холмистого поля дома города, серые, прижатые к земле, кажутся кучами мусора; там и тут они заросли по крыши густой, пыльной зеленью. В грудах серого хлама торчит десяток колоколен и пожарная каланча, сверкают на солнце белые стены церквей, — это вызывает впечатление чистеньких полотняных заплат на грязных лохмотьях». Писатель сравнивает город с квашней, с червивыми грибами, высыпанными из лукошка, с помоями: «На улице было пусто, сыро, точно в корыте, из которого только что слили грязную воду». Смена времен года лишь добавляет в облик города неприятные краски. Осенний город — «мокрый, озябший, распухший от дождя»; «жалобно распростертый в тесной лощине между рыжих, колючих холмов, Оку-ров казался странно маленьким, полинявшим». Зимний «раздетый холодными ветрами», «прильнувший к земле»; «вокруг него на холмах оледенела тишина, и Окуров стоит на блюде из серебра, кованного морозом, отчеканенного вьюгами». Весной «город взмок, распух и словно таял, захлебнувшаяся земля вся в заплатах луж, в серых нарывах пузырей, стала подобна грязному телу старухи нищей». Летом «город был насыщен зноем... Над заборами тяжело и мертво висели вялые, жухлые ветви деревьев, душные серые тени лежали под ногами».
Указанные выше литературоведы пишут о метафоре как излюбленном приеме М. Горького. «Наиболее общая установка метафор Горького — это одушевление, подчеркнутая и детализованная антропоморфизация природы и мира вещей» 17. Город предстает перед ним то скопищем жалких жилищ, образующих «человеческое тело», это «горбатым карликом-шутом»18, распятым челове- ком. «Приник к земле город, точно распятый по ней, и отовсюду кто-то невидимый, как бы распростертый по всей земле, шепчет, просит: Пожалей! Прости» «Вдали громоздились неясные очертания города — крестообразная куча домов зябко прижалась к земле и уже кое-где нехотя дышала в небо сизыми дымами, — точно ночные сны печально отлетали. Город казался огромным человеком: пойманный и связанный, полуживой, полумертвый, лежит он, крепко прижат к земле, тесно сдвинув ноги, раскинув длинные руки, вместо головы у него — монастырь, а тонкая, высокая колокольня Николы —точно обломок копья в его груди». Отдельные городские постройки видятся писателю частями человеческого тела: «каланча торчит между крыш города, точно большой серый кукиш».
В таком косном пространстве возможна лишь серая, сонная и скучная жизнь. «Кажется, вся эта тихая жизнь нарисована на земле линючими, тающими красками и еще недостаточно воодушевлена, не хочет двигаться решительно и быстро, не умеет смеяться, не знает никаких веселых слов и не чувствует радости жить.». «Воздух базара пропитан сухой злостью, все пьянеют от нее и острого недоверия друг к другу, все полны страха быть обманутыми и каждый хочет обмануть — словно здесь сошлись враждебные племена». Город — это пространство, где сконцентрировано зло. Пригородное село Выездная Слобода неподалеку от Арзамаса считалось пристанищем головорезов, здесь скрывались от рекрутских наборов, часто случались грабежи и убийства. Одна из улиц села красноречиво именовалась Погибловкой. «Печальное ощущение бессилия — в нем легко и быстро гасла каждая мысль, которая пыталась чем-то помешать этому процессу поглощения человека нудной и горестной оку-ровской жизнью». Писатель, обошедший пол-России, обобщает: «Сотни маленьких городов, таких же, как Окуров, так же плененных холодной, до отчаяния доводящей скукой и угрюмым страхом перед всем, что ново для них. Набитые полуслепыми людьми, которые равнодушно верят всему, что не тревожит, не мешает им жить в привычном, грязном, зазорном покое, — распластались, развалились эти чуждые друг другу города по великой земле, точно груды кирпича, бревен и досок, заготовленных кем-то, кто хотел возвести сказочно огромное здание, но пропал, и весь дорогой материал тоже пропадает без строителя и хозяина, медленно сгнивая под зимними снегами и дождями осени».
Описанное М. Горьким жилище так же принижено негативной метафорой, как и образ города в целом. Дом сапожника Сетунова это «ветхая изба с красными облупленными ставнями в один створ... Сам он был человек измятый, изжеванный, а домишко его с косыми окнами, провисшей крышей и красными пятнами ставен, казалось, только что выскочил из жестокой драки и отдыхает, сидя на земле». Дом Кожемякина выглядит безрадостно. «Пустырь, покрытый развалинами сгоревшего флигеля, буйно заросший дикой коноплею, конским щавелем, лопухами, жимолостью и высокой, жгучей крапивой. В этой густой, жирно-зеленой заросли плачевно торчали обугленные стволы деревьев, кое-где от корней бессильно тянулись к солнцу молодые побеги, сорные травы душили их, они сохли, и тонкие сухие прутья торчали в зелени, как седые волосы». Напротив расположен живописный «мертвый барский дом». «Темный и слепой наглухо забитый верхний этаж барского дома, источенная ржавчиною рыжая крыша, обломанные ветром трубы, согнутые флюгера и презрительно прищуренные слуховые окна, стекла их выбиты.» Жилище часовщика Корцова по прозвищу Лягавая Блоха — еще один пример местного убожества. «Двор его дома грязен, густо зарос крапивой и репьем, забросан обломками дерева, железа, посреди двора гниет широкий диван, из его сиденья торчат клочья волоса. В комнатах пыльно, неуютно, все сдвинуто с места, к цепям стенных часов привешен, вместо гири, кусок свинцовой трубы». Писателя привлекает все самое отталкивающее. «На углу Напольной стоит двухэтажный обгоревший дом. Сгорел он, видимо, уже давно: дожди и снега почти смыли уголь с его бревен, только в щелях да в пазах остались, как сгнившие зубы, черные, отшлифованные ветром куски и, словно бороды, болтаются седые клочья пакли».
Окуровский храм давно утратил какой бы то ни было священный ореол и превратился в заурядный притон. «Церковь была почти не освещена, только в алтаре да пред иконами, особо чтимыми, рассеянно мерцали свечи и лампады, жалобно бросая желтые пятна на черные лики. Сырой мрак давил людей, лиц их не было видно, они плотно набили храм огромным, безглавым, сопящим телом, а над ними, на амвоне, точно в воздухе, качалась темная фигура священника». «Все знали, что в монастыре балуют (сладострастники. — Авт.)».
В 1931 г. в статье «О действительности» М. Горький с деланным оптимизмом писал, что «отлично знакомые нам городки Окуровы превращаются в центры социалистической культуры. Это похоже на сказку, но это — факт»19. В статье «О самом главном» (1932) «главный советский писатель» пытался убедить читателей в том, что «исчезают древние городки Окуровы, гнездища тупых мещан, людей ленивого ума, мелких паразитов, которые всю жизнь жульнически старались разбогатеть на крови рабочих, крестьян и умирают полунищими. Вместо Окуровых в центрах промышленности создаются новые, социалистические города, уничтожая в стране древний идиотизм мещанства, скопища деревянных особнячков, в три окна, душные чуланы, где изо дня в день непрерывно шла мелкая борьба зоологического индивидуализма слепых, себялюбия, самости, ячества, зависти, жадности и всякой гадости» 20.
В том же Арзамасе в 1912 — 1918 гг. прошло отрочество выдающегося советского писателя А.П. Гайдара. В его автобиографических произведениях можно найти уже знакомые обличительные ноты, основанные, впрочем, не на глубоком знании русской жизни, а на подростковом негативизме. «Я рос в городке Арзамасе. Там громко гудели колокола тридцати церквей, но не было слышно заводских гудков»21. «Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах, огороженный ветхими заборами. Через город, мимо садов, тянулись тихие зацветшие пруды, в которых вся хорошая рыба давным-давно передохла. Под горою текла речонка Теша. Город был похож на монастырь: стояло в нем около тридцати церквей да четыре монашеских обители. Много у нас в городе было чудотворных святых икон, но чудес в самом Арзамасе происходило почему-то мало. Вероятно, потому, что в шестидесяти километрах находилась знаменитая Саровская пустынь с преподобными угодниками, и эти угодники переманивали все чудеса к тому месту». «Тихий и патриархальный был у нас городок. Под праздники, особенно на пасху, когда колокола всех тридцати церквей начинали трезвонить, над городом поднимался гул, хорошо слышный в деревеньках, раскинутых на двадцать километров в окружности»21.
Арзамас 1914 г. описывается А.П. Гайдаром с подкупающей подростковой иронией. Такой город не вызывает у автора отвращения, потому что представляется ему безобидно-заурядным. Молодой герой повести «Школа» (1930) его запросто покидает, уходя в романтическую даль на братоубийственную гражданскую войну. Его ведет какая-то неведомая сверхцель, которая не имеет ничего общего с окружающей действительностью.
Известный советский писатель К.А. Федин в сатирической повести «Наровчатская хроника» (1924 — 1925) описывает провинциальный городок середины 1920-х гг. Писателем высмеивается неудавшаяся «американизация», предпринятая в 1900-е гг. (в конце 1920-х гг. эта проблема вновь станет актуальной; известно, что В.И. Ленин для построения социализма требовал учиться американской предприимчивости). Местный помещик Вакуров, воодушевленный идеей о том, что Наровчату предначертано стать своего рода российским Чикаго, вознамерился положить начало новому градостроительству. Для этой цели он соорудил на полдороге от города к товарной станции великую громаду в четыре этажа — высота, невиданная в наших ме-стах»22. Здание имитировало американскую архитектуру: чугунные лестницы и площадки располагались по фасадам многоэтажного кирпичного здания. Однако станция не развивалась, пустырь не застраивался, и «сооружение его возвышается по сей день в величественном одиночестве, вызывая изумление приезжих людей»22. В послереволюционные годы в городе было «полное безлюдие», «вся мирская жизнь приблизилась по внешности к монастырской».
Повесть не имеет прямого отношения к Наровчату Пензенской области (где родилась мать писателя), материалом для нее послужили реальные (при этом почти неправдоподобные) события в Сызрани в 1919 г. Когда повесть прочли жители Наровчата, восторженная читательница прислала писателю фотографии села и окрестного монастыря. Ответ писателя показывает, насколько сложными были его отношения с уходящей провинцией. «Вы не знаете, как тронули меня присылкой очень славных фотографий окрестностей неведомого мне и почти загадочного
Наровчата! Все эти немного странные имена— Наровчат, Инсар, Земетчина, а с ними и такие простые — Краснослободск, Нижний Ломов, Пестравка звучат для меня такой музыкой, которую слышишь, кажется, только в детстве и потом уносишь ее в своей груди в неизвестность будущего и тоскуешь о ней и с нею умираешь. Я никогда не был в Пензенской области. Но мать и отец мои родом были пензяками. Только отзвуки давних рассказов и разговоров взрослых, смутные картины столетней давности, что-то зыбкое, неуловимое, как исчезнувший сон, заключены для меня в слове — Наровчат»23.
Замечательный советский прозаик А.Г. Малышкин в своих рассказах, повестях и незаконченном романе создает яркий собирательный образ уездного города. И.Д. Воронин характеризует А.Г. Малышкина как выдающегося писателя, неизменно работавшего с позиций историзма, умевшего за многочисленными бытовыми деталями разглядеть глобальные исторические процессы 24. В образе уездного города, который называется А.Г. Малышкиным по-разному — Омшанск, Рассейск и Мшанск, — писатель синтезирует реальные черты Мокшана, где он провел свои детские годы, и Саранска, где он жил и плодотворно работал в 1918 — 1919, неоднократно навещал в 1930-е гг. Писатель планировал написать о Саранске книгу, но не успел, хотя, многие приметы этого города без труда можно найти в романе «Люди из захолустья» (1938), в котором он создал, пожалуй, самые сочные и детализированные образы уездного города 1910 — 1920-х гг.
Уездный город, отношение к которому было сформировано А.Г. Малышкиным уже в первых рассказах 1913 — 1915 гг. и не менялось в последующие десятилетия, — это образ символический. Во многом он корреспондируется с образами, созданными в рассказах А.П. Чехова, в повести А.С. Серафимовича «Мышиное царство» (1912), в «Окуровском» цикле М. Горького и его рассказах «По Руси» (1913), в рассказах Е.И. Замятина из книги «Уездное» (1913). Захолустный городок в этих произведениях олицетворяет народную, коренную Русь с ее невзгодами и темнотой, с неизбывным ощущением простора и мощи. Уездному городу противостоит Петербург — равнодушный и холодный, властно распоряжающийся судьбами людей. В северной столице сконцентрировались бюрократическая властность, рутина фальшивых идей и сословных предрассудков, которые непреодолимо стоят на пути к пониманию жизни народа.
Действие романа «Люди из захолустья» происходит в 1929 — 1930 гг., он насыщен экскурсами в местную историю, автор показывает, что город и горожане совершенно не изменились за несколько десятилетий. В связи с этим образы уездного города, созданные писателем в 1913 — 1938 гг., можно рассматривать как итоговые в русской литературе начала XX в.
А.Г. Малышкин избрал резко негативный подход к предмету, его манере свойственен острый критицизм, а художественная идеология базируется на полном отрицании традиционного образа жизни, традиционной культуры и религии в целом и провинциальной в частности. Фантасмагорическая нелепость, убожество и ужас уездного бытия — вот как можно охарактеризовать одну из главных тем А.Г. Малышкина. Косность и застойность провинциальной жизни, жестокие нравы в быту, эгоизм, собственнические инстинкты рассматриваются автором как непреложное начало русской дореволюционной жизни. Начало, которое, по мысли революционного писателя, должно быть изъято из жизни народа любыми методами. Поэтому «в отношении Малышкина к герою нет доброты, любви, безоглядного сострадания, какие со времен Акакия Акакиевича становятся общественной и литературной традицией... отрицание Малышкина в высшей степени патетично», замечает литературовед И. Крамов 25.
Писатель формулирует тему, ставшую в начале XX в. канонической: существуют две России, неразрывно связанные и враждебные друг другу, — это столица и провинция. Если дореволюционный Петербург для А.Г. Малышкина —это «город-чиновник, роскошный, властолюбивый, эгоистичный... противоестественный, книжный, фальшивый... город-хозяин, главный русский барин, уверенный в смирении холопов» 26, то Москва 1920-х гг. — это «город-космос, находящийся в процессе социалистической реконструкции. Уездный город при этом остается заматерелой дикой глушью. Это неуправляемая косная стихия, утратившая связь со столицами и быстро меняющимся временем, замкнутое в себе и погруженное в хаос пространство, которое подлежит расчистке для строительства принципиально нового мира. В отношениях дореволюционной провинции и столицы «нет органического единства и естественных связей... Есть единство, навязанное и скрепленное силой» 27. В послереволюционные годы ничего не изменилось, считает А.Г. Малышкин. Такой взгляд на провинциальный город был характерен для советской культуры 1930-х гг., и во многом он объясняет деструкцию традиционных ценностей в послереволюционные годы.
А.Г. Малышкин выстраивает выразительные образы города и горожан. Острая писательская рефлексия городской среды, насыщенность многочисленными, точно выхваченными из реальности деталями, тем не менее, не расчленяет текст на фрагменты, описание целостно и закончено. И. Крамов указывает, что «излюбленный художественный прием А.Г. Малышкина —контраст..., мотив столкновения — закоснелый, уродливый, душный мирок и — осмысленная, смелая жизнь»28. Свойственные авторской манере выражение истинной внутренней сути предмета через тотальную психологизацию среды, эстетизация безобразного и едкие деструктивные мотивы, открытый антибуржуазный и антимещанский пафос, тоска по рациональному близки к эстетике экспрессионизма, которая по ряду причин не получила в отечественной культуре 1920 — 1930-х гг. большого развития.
Писатель привлекает как близкие, так и далекие исторические реминисценции: он приводит легенду о возникновении города, не скрывая того, что она может быть недостоверной, так как революционный автор полностью исключает значимость истории города для его настоящего и будущего. Выдуманное им название уездного города — Мшанск — созвучно словам «мшистый», «мышиный», «межевой», «матерый», «мохнатый», «мещанский», «мошенник», «мошна», а древнее название города — Муримза— созвучно слову «маразм». В романе читаем: «А вот и широковетвистый сквер, вознесшийся над городом высоко на валу, на останках древнего земляного кремля. За городом тянулся столь же древний, незапамятный вал, где жители когда-то отбивались от набегов ногайцев. В туманные времена на месте Мшанска стояла Муримза, легендарная мордовская столица. Город был повит... сказочной исторической смутью». А.Г. Малышкин ошибочно считал Мокшан столицей древнего мордовского царства. Впоследствии было установлено, что этот город был основан как крепость в 1679 г. одновременно со строительством Пензенской сторожевой черты. Между тем наличие мордовского поселения на этом месте до середины XVII в. археологами не исключается. Широкое бытование легенд о древнемордовских городах среди интеллигенции, связанной с Мордовией в 1930-е гг., вполне объяснимо: в 1928 г. Саранск стал центром Мордовского округа, в 1930 г. — Мордовской автономной области, а в 1934 г. — столицей Мордовской АССР, и для подтверждения этого статуса требовалась легенда, пусть даже и являвшаяся исторической фикцией. Писатель выстраивает четкую городскую топографию, выделяя центральную улицу, городской верх и низ. «Пензенская улица (одноименная улица в Мокшане или Базарная улица в Саранске. — А в' т), расположенная на круче, высоко над Лягушачьей слободой (заречьем. —А вIт), с высокими каменными домами, принадлежащими людям благородно-чиновного или купеческого — звания. В палисадниках играли гитары, за каменными окнами прятались гордые недотроги-красавицы, или они гуляли в садах, которые сползали райской гущей яблонь до самой Мши (р. Мокша или р. Саранка. — Авт.), где всклень, вровень с берегами неслась обильная вода»29.
А.Г. Малышкин выстраивает и временной цикл уездной жизни, чередование будней и праздников. «Праздник в Мшанске не просто ритуал, вековой обычай, — пишет И. Крамов. — Он воплощение духа Мшанска, обнаженная и сокровенная его суть. В праздник глушь выплескивает наружу все, что таится до поры под крышами низких домиков. Если кого и обманет мирный, болотный быт, то в праздник Мшанск обнажит перед ним свое буйно-звериное нутро»30.
Развертывая метафору «социального низа», «дна жизни», А.Г. Малышкин не проявляет сочувствия к обездоленным жителям нижней части города: «Лягушовка, бобыльи завалинки, дорога, засоренная золой и соломой... С кручи по спуску от Пензенской улицы на ледянках каталась детвора, во что попало закутанные звереныши с сияющими глазами». Бедняцкие дети и их нехитрые развлечения вызывают у писателя явную, ничем не оправданную неприязнь. Это место в романе можно сравнить с детскими воспоминаниями художника И.К. Макарова, проведшего 1900-е гг. в
Саранске. Вот как ностальгически он описывает место, напоминающее ледяной «спуск» из романа А.Г. Малышкина: «В моей памяти до сих пор сохранились впечатления ничем не омрачаемого детства, первая школа, первый учитель... Проходя мимо школы на соборной горе, я видел веселые толпы мальчиков, бегавших по косогору; когда звенел колокольчик, созывавший всех на уроки, шумливая ватага скрывалась за дверями...» 31
Как указывает И. Крамов, в провинциалах А.Г. Малышкин «ненавидит приниженность, лукавство, забитость, жестокость — клеймо рабьего прошлого, всю подвальную атмосферу убогой глуши» 32. Его герои стоят в длинном ряду уродливых, жалких, чудовищных фигур, олицетворяющих в русской литературе рабство и проклятие ему. В поведении горожан писатель находит лишь алогичное, их поступки, поведение и даже жесты не подвластны рациональному. Так он придирчиво замечает: «Прохожие плелись по середине улицы, по дороге». Даже деревянный декор жилых домов вызывает у писателя отвращение: «Четыре-пять каменных сундуков с узкими захолустными окошечками. А больше —трехоконные мещанские флигельки, с завалинками, со скамеечками для вечерних пересудов, с чахлой ветелкой; застрехи и оконные наличники изукрашены пронзительно-затейливой деревянной резьбой: всякие кочетки, кружочки, угольнички — плод самодельной ернической фантазии, от которой в душе тошно отрыгалось что-то вроде изжоги».
Если столица находится в постоянном движении и обновлении, то провинция расположена на противоположном социокультурном полюсе и, по замечанию И. Крамова, она ассоциируется с окостенелостью и смертью. Сквозной мотив романа (и ряда рассказов писателя) — человек, ставший гробовщиком, жизнь, превратившаяся в смерть, город (дом), опустившийся в могилу: «Одна сторона улицы, совсем одичалая, скособочилась бугром, заметенная снегом, в котором не видно ни тропки, и за бугром — опять пустырь. Пензенская представала глазам, словно вырытая со дна могилы».
Развивая антропоморфную метафору М. Горького, А.Г. Малышкин углубляется в нездоровые городские внутренности. Городские пространства имеют резко деформированные, тяжелые формы со следами деструкции: «Было что-то... гнетущее, давно погре-
РОССНЕВЕДЕННЕ
бенное в приземистой, из выщербленного кирпича, острожной ограде, помнившей крепостное право, николаевскую бессрочную солдатчину... Тупорылые каменные упоры поддерживали бывший острог под кручей... А внизу бурые, криво разбегающиеся бедняцкие слободки, ветлы, зады, переходящие в поля, в полях ногайский вал, за валом — снеговая метельная невидаль». Город переходит в загородное пространство — еще более враждебное новой жизни — в дикую степь, населенную крестьянами. Русское захолустье необозримо как бескрайняя степь, просторы которой завораживают и пугают.
Город у А.Г. Малышкина — это текст с сугубо социальной символикой: «В давние июльские сумерки тут провожали мобилизованных, отслужили молебен, и лохматое мужицкое скопище, окруженное конными стражниками, покорно повалило по дороге». Вполне ординарные постройки ассоциируются у него с эксплуатацией, насилием, преступлением: «На излете селения чернели редкие избенки — все дальше одна от другой. Около самой росстани —каменный флигель, в нем когда-то зарезали бакалейщика с большими деньгами... А вот бывшая полиция с пожарным двором, на котором убивали пьяных и мужиков». Город — это пространство, утратившее смыслы, ясные значения, но переполненное патологическими символами: «Весь [город] наполовину обозначился, наполовину угадывался отсюда в виде неясного скопища ближайших изб и дальних темнот, с кустами, скворешнями и трупами колоколен в небе».
Дом бедняка в уездном городе — это убогий мир «маленького человека». Искривленные формы здания ассоциируются с деформированным сознанием человека, автор так же, как и при описании города, подчеркивает все самое безобразное: «Кузьма Федорович обитал в самодельной, похожей на каравай, глиняной хибарке, с двумя крошечными, вровень с землей, окошечками. Хибарка до того скособочилась, что крыша одной застрехи лежала прямо на сугробе. Перед окошечками — связанная кое-как из слег загородка и изуродованная старостью ветла... За хибаркой имелся огородный клинышек, который Кузьма Федорович пускал под картофель, а в иные годы под овес». Интерьер этой избы был убог: «Под берложьим, приземистым потолком боязно было разогнуться. Вечер мерцал чуть-чуть в обледенелых око- шечках. Вместо пола — земля (язвительная деталь, обозначающая «власть земли» над крестьянином,. — Авт.), в нее вкопан стол и единственная лавка, она же и топчан, на котором брошен тулуп шерстью вверх». В описании среды у А.Г. Малышкина часто слышны сатирические ноты: «До революции сюда нередко паломничали местные любители-художники... — с мольбертами, с кистями, с закуской. Они находили, что эта избушка — очень красивый русский видик. Если бы ветла уродилась еще покряжистее, а глиняная лачужка совсем обвалилась, они нашли бы видик еще милее».
В романе «Люди из захолустья» и других произведениях А.Г. Малышкина чрезвычайно сильна негативная символизация среды, в городской мозаике выступают утрированные детали, описанию города и горожан свойственна яркая зрелищность, подчеркивающая иррациональность провинциальной жизни. Однако это зрелище неадекватно действительности, в значительной степени это художественная условность, сконструированная воображением писателя. А.Г. Малышкин утверждает: уездный мир уже не столько жесток, сколько беспомощен, он поражен болезненной уродливостью и обречен на гибель. В романе столичный журналист-большевик не предпринимает никаких активных действий, он созерцает умирающий мир, убежденный, что естественный процесс завершится гибелью захолустья без усилий извне.
Насколько адекватно отразила русская литература провинцию? В среду русской интеллигенции, сложившейся в крупных городах к 1840-м гг., именно книга внесла фермент личностного начала, тем самым наделив этот социальный слой революционной силой, сделав его чуждым и опасным для общинно-государственного сознания большинства горожан. Для русской литературы критическое отношение к «почвенной» действительности было традиционно, социальная реальность воспринималась писательским сознанием как пронизанная сверху донизу рабским, крепостническим началом. Провинция как бы сконцентрировала в себе все пороки национальной жизни. Поэтому обличение грехов провинциалов и бичевание пороков уездной жизни стало символом веры русского писателя социальной направленности. В русской культуре серебряного века город, как столичный, так и провинциальный, стал источником и средоточием соци- ального и духовного зла. Исключением в этот период выступают лишь удаленные от центра древние городки, чей экзотический «этнографический» облик породил в изобразительном искусстве серию сентиментально-идеалистических образов («Мир искусства»). В конце XX в. тотальная критика города стала общим местом в пересмотре социокультурных ценностей. Так, историк А. Иконников-Галицкий пишет: «Русская литература оклеветала уездный город. В глазах столично-городской читающей общественности его образ прочно соединен с понятиями «гниль», «захолустье», «затхлая провинция». В общем, мещанство и скука.... Приметы вечные: безлюдностъ, разруха, бедность, тишина»33.
Действительно, наиболее яркие образы уездного города читатель встречает у А.Г. Малышкина, провинциала по рождению, ставшего столичным писателем. Его образы являются экспрессионистической эпитафией всей русской провинции. Деструкция уездной культуры в 1910 — 1920-е гг. во многом инспирировалась извне, из столичного центра, который был сломан цивилизационным сдвигом (мировой войной, социальными революциями). Запоздалое осознание провинциалами катастрофичности этих сдвигов сделало местную культурную традицию непривлекательной, полностью обессмыслило ее.
Если сравнить литературный и фотографический образы города, обнаружится поразительная вещь. Некоторые приметы городской жизни писатели передали точно, другие исказили, но важно совсем не это. Прозаические тексты доказывают всю мерзость уездной жизни. А реальность, документированная фотокамерой, убеждает нас в гармонии среды, какой бы город мы не взяли — Арзамас или Темников, Краснослободск или Саранск, Ардатов или Алатырь. Все они были подробно запечатлены местными фотомастерами в начале XX в. Причем наиболее выразительны фотопанорамы, выполненные с поймы рек. Отсюда город, расположенный на возвышенности, виден как единое целое. Возвышенные склоны и косогоры сплошь усеяны зданиями. Крутые подъемы разрисованы тропинками. Над городом вознесены храмы с золотыми куполами. Городской центр украшен сквером и увенчан собором. В XX в. в этих городах была достигнута гармония архитектуры и природного ландшафта, утраченная вместе с уничтожением пра- вославных святынь в советскую эпоху. Снос рядовой застройки, исторической ткани в 1960 — 1980-е гг. исказил уютный облик этих городов. Исчезло то, что сто лет назад едко высмеивали замечательные писатели. Именно поэтому мы с таким недоверием читаем сегодня их произведения.
Знаковый анализ городских образов позволяет выстроить ряд бинарных оппозиций. Они описывают феномен провинциального города через сумму смысловых пар. В идее города воплощается пафос государственной семиотической деятельности, направленной на поселение как на концептуальный объект, превращенный в символ производящего, изобильного и дарующего богатства, приносящего центру плоды своего труда, признательного власти за свое появление и покровительство. В литературных образах провинциального города воплощены противоположные значения — отсталость, косность, неуправляемость, нечистота, бессмысленность. Предначертанная властью идея города выступает как закономерное, должное, идеальное. Идея должного была заложена в городском гербе — этом визуальном элементе управленческой культуры, с ее вездесущим контролем и регулированием общественных отношений. В художественном образе города была воплощена невозможность должного, его абсурдность и утопичность. В имперской культуре громадное значение придается камуфлированию низменной действительности системой символических средств. В оппозиции идея/образ отразился традиционный дуализм национальной культуры, при котором идеальный образ жизни в принципе не совпадает с реальностью.
Между тем и негативный образ города, даже созданный такими блестящими мастерами, как М.Е. Салтыков-Щедрин и А.Г. Малышкин, был далек от реальности. В гиперболизированных литературных образах провинции — не просто антиимперская, антигосударственная направленность оппозиционной культуры. Глобальная идея русской литературы этой эпохи — испорченность мира: мир, лежащий во зле и человеческая жизнь, ставшая страданием. Избавление от мирового зла и страдания достигается либо религиозным спасением, либо революционной ломкой и переустройством всего бытия. В литературном образе захолустного русского городка — безжалостное осуждение горожан как людей пассивных и ограниченных, обличение тради-
РОССНЕВЕДЕННЕ
ционного образа жизни как средоточия антиценностей, тенденциозное истолкование веками существовавшей среды как пространства, изначально построенного неправильно. Такой мир невозможно исправить постепенно, его следует демонтировать, убеждала великая литература. Революционные преобразования в начале XX в. ставили целью после демонтажа сакрального каркаса города созда- ние социального абсолюта вне традиционной национальной культуры. Тотальное неприятие провинциального города в художественной литературе начала XX в. явилось симптомом надвигающейся социальной катастрофы, оно свидетельствовало о неминуемой деструкции традиционной культуры и о закономерном завершении целого этапа культурно-исторической эволюции в 1920-е гг.
26Там же. С. 78 - 79.
27 Там же. С. 76.
Список литературы Уездный ужас: образ русского провинциального города в художественной литературе 1860 - 1930-х гг
- Горький М. Городок//Собр. соч.: В 30 т. М„ 1951. Т. 15. С. 131
- Дворжанский А.И. Губернский город Пенза на старых фотографиях Конец XIX -начало XX в. Пенза, 1999
- Кириченко Е.И. и др. Русская провинция. М., 1997. С. 72
- Лобанова Ю.В. Образ города в художественной культуре: Автореф. дис _ канд. филос. наук/Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. СПб., 1998
- Пилипенко Л, Яковенко И. Культура как система. JVL, 1998. С 220 -223
- Газина Г.М. М.Е. Салтыков-Щедрин и российские нравы второй половины XIX в. Автореф. дис.... канд. филос наук/Мордов. гос. ун-т. Саранск, 1998
- Кочетова Н.С. Провинция в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина (на материале Рязанской губернии). Рязань, 1975
- Крамов И. Александр Малышкин. М., 1965
- Воронин И.Д. Литературные деятели и литературные места в Мордовии. Саранск, 1976. С 56-65.
- Михайловский Б.В., Тагер Е.Б. Творчество М. Горького. М., 1969. С. 127
- Семенова А.А. «Окуровская Русь» М. Горького: К проблеме русского национального характера. Великий Новгород, 2003.
- Горький М. Городок Окуров//Собр. соч.: В 30 т. М., 1950. Т. 9. С. 201.
- Горький М. Большая любовь//Собр. соч.: В 30 т. Т. 9. С. 611
- Гайдар А.П. Школа//Собр. соч.: В 4 т. М„ 1964. Т. 1.
- Федин К.А. Наровчатская хроника//Собр. соч.: В 9 т. М., 1960. Т. 3
- Макаров И.К. Записки о семье художников Макаровых. Саранск, 1974. С. 90, 96.
- Иконников-Галицкий А. В поисках Волги//Новая Россия. 1999. № 3. С. 24.