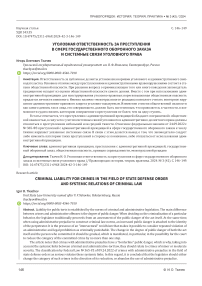Уголовная ответственность за преступления в сфере государственного оборонного заказа и системные связи уголовного права
Автор: Ткачев И.О.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Экономическая безопасность государства: уголовно-правовой аспект
Статья в выпуске: 3 (42), 2024 года.
Бесплатный доступ
Ответственность за публичные деликты установлена нормами уголовного и административного законодательства. Основное отличие между преступлениями и административными правонарушениями состоит в степени общественной опасности. При решении вопроса о криминализации того или иного поведения законодатель традиционно исходит из оценки общественной опасности самого деяния. Вместе с тем при использовании административной преюдиции для конструирования уголовно-правовых норм повышенная общественная опасность придается личности виновного. Именно наличие «межотраслевого» рецидива позволяет считать повторное нарушение административно-правового запрета уголовно-наказуемым. Изменение степени общественной опасности как самого деяния, так и лица, его совершившего, должно быть постепенным, что проявляется, в частности, в возможности судом снизить категорию совершенного преступления не более, чем на одну ступень. В статье отмечается, что преступления с административной преюдицией обладают «пограничной» общественной опасностью, в силу чего с учетом системных связей уголовного и административно-деликтного права должны относиться к преступлениям небольшой или средней тяжести. Отнесение федеральным законом от 24.09.2022 г. № 365-ФЗ преступлений с административной преюдицией в сфере государственного оборонного заказа к числу тяжких нарушает указанные системные связи. В связи с этим делается вывод о том, что законодателю следует либо изменить категорию таких преступлений в сторону ее понижения, либо отказаться от использования административной преюдиции.
Административная преюдиция, преступления с административной преюдицией, государственный оборонный заказ, общественная опасность, принцип справедливости, межотраслевой рецидив
Короткий адрес: https://sciup.org/14131614
IDR: 14131614 | УДК: 343.35 | DOI: 10.47475/2311-696X-2024-42-3-146-149
Текст научной статьи Уголовная ответственность за преступления в сфере государственного оборонного заказа и системные связи уголовного права
Российская Федерация относится к числу тех стран романо-германской правовой семьи, в которых отношения, возникающие в связи с реализацией ответственности за публичные деликты, урегулированы как уголовным, так и административно-деликтным правом. При этом вопрос о разграничении преступлений и административных правонарушений носит дискуссионный характер. Формат настоящего исследования не позволяет в полной мере осветить все имеющиеся в науке подходы. В связи с этим мы лишь присоединимся к той группе авторов, которые полагают, что основное отличие преступлений от административных правонарушений заключается (а точнее, должно заключаться) в степени общественной опасности [1, с. 42–43; 2, с. 27–28; 3, с. 8–11; 4].
Можно сказать, что изменение степени общественной опасности является проявлением одного из законов диалектики, а именно закона перехода количественных изменений в качественные. В силу указанного закона, определенное увеличение степени (т. е. количества ) общественной опасности приводит к тому, что по своему характеру (т. е. качеству ) деяние уже отвечает свойствам не административного правонарушения, а преступления, что требует его соответствующей криминализации.
В доктрине уголовного права уже обращалось внимание на наличие таких правонарушений, которые обладают «пограничной» общественной опасностью [5, с. 29; 6, с. 58] и находятся в своеобразной «буферной зоне» [1, с. 45; 7, с. 61], возникающей на стыке уголовного и административно-деликтного права. К числу таких деликтов, безусловно, следует отнести преступления с административной преюдицией, вновь появившиеся в отечественном уголовном праве в 2009 году. Возврат к использованию названной законодательной конструкции в свое время вызвал немало критики [8; 9; 10]. Вместе с тем последовательное расширение законодателем круга преступлений с административной преюдицией указывает на то, что какие бы то ни было предпосылки для отказа от использования данного приема юридической техники на сегодняшний день отсутствуют. А следовательно, с наличием преступлений с административной преюдицией в уголовном праве следует смириться даже самым ожесточенным ее противникам.
Федеральным законом от 24.09.2022 № 365-ФЗ1 Уголовный кодекс Российской Федерации
(далее — УК РФ)2 был дополнен сразу четырьмя новыми составами с административной преюдицией — ст. 201.2, 201.3, 285.5 и 285.6. Указанные нормы установили уголовную ответственность за нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу или договора, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, либо за отказ или уклонение от заключения соответствующих контракта или договора. Отнесение указанных преступлений к категории тяжких еще больше актуализирует вопрос о соотношении административно-правового и уголовно-правового запретов.
Материал и методы
При написании статьи были использованы нормативноправовые акты, регламентирующие вопросы уголовной ответственности за преступления с административной преюдицией, в том числе в сфере государственного оборонного заказа, а также специальная литература по предмету исследования. Основу исследования составили такие общенаучные методы научного познания (анализ, синтез, диалектический метод), а также такие частнонаучные методы исследования как метод формально-юридического анализа нормативных актов и различные приемы толкования правовых норм.
Описание исследования
Использование административной преюдиции в очередной раз актуализирует вопрос о том, что именно должно обладать свойством общественной опасности, изменение степени которой, как уже отмечалось, может приводить к качественному изменению характера публично-правовой ответственности, возникающей в связи с совершением соответствующего правонарушения. Стоит заметить, что в нормах УК РФ, так или иначе связанных с основанием уголовной ответственности, термин «общественная опасность» употребляется исключительно по отношению к совершаемому лицом деянию. Напротив, в разделе IV, нормы которого определяют основания и условия освобождения от уголовной ответственности и от наказания, говорится об общественной опасности как самого деяния, так и лица, его совершившего (ч. 1 ст. 75, ст. 80.1 УК РФ).
Специфика преступлений с административной преюдицией заключается в том, что их объективную сторону образует деяние, аналогичное по своим юридически значимым свойствам деянию, образующему состав административного правонарушения. Такое деяние считается преступным лишь потому, что лицо, его совершившее, ранее привлекалось за аналогичное правонарушение к административной ответственности. Следовательно, ранее назначенное административное наказание не привело к достижению указанной в ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ1 цели частной превенции. Учитывая, что об уголовной ответственности можно говорить только тогда, когда повторное деяние совершается (по общему правилу) в период административной наказуемости лица, можно сказать, что имеет место своеобразный «межотраслевой рецидив» [11, с. 50; 12, с. 327]. Совершение нового правонарушения виновным свидетельствует, что ранее назначенное ему в рамках КоАП РФ наказание оказалось недостаточным для целей его исправления и как следствие неспособно предупредить совершение данным лицом новых аналогичных деяний. В повторно совершенном деянии таким образом проявляется аккумулированная повышенная общественная опасность самого делинквента. Именно с этим, по всей видимости, законодатель связывает в настоящее время применение к таким лицам более строгого по своему характеру вида публично-правовой ответственности.
Вместе с тем охранительные отрасли — уголовное и административно-деликтное право — являются частью упорядоченной системы права, в силу чего обладают системными свойствами. Одним из свойств системы является ее целостность и внутренняя согласованность (упорядоченность). В силу указанных свойств изменение в оценке степени общественной опасности публично-правового деликта (независимо от того, оцениваем ли мы опасность самого делинквента или его конкретного поведенческого акта) должно быть постепенным. Неслучайно положения ч. 6 ст. 15 УК РФ позволяют суду после назначения наказания за содеянное, т. е. после «измерения» степени общественной опасности конкретного деяния, изменить категорию преступления в сторону ее понижения только на одну ступень. То есть, по справедливому замыслу законодателя, если преступление (как родовая категория) отнесено к числу тяжких (ч. 4 ст. 15 УК РФ), конкретное деяние, не признанное малозначительным (ч. 2 ст. 14 УК РФ), не может быть расценено судом как преступление небольшой тяжести. Больший «скачок» в оценке степени общественной опасности деликта нарушал бы системные связи внутри уголовного права. Но это также справедливо и к его внешним системным связям.
Применительно к ранее обозначенной нами «буферной зоне» это означает, что переход от административной ответственности к уголовной должен быть плавным и постепенным. В связи с этим мы в целом разделяем подход отечественного законодателя к пенализации преступлений с административной преюдицией. Из тридцати трех таких преступлений двадцать три в соответствии с положениями ст. 15 УК РФ отнесены к категории преступлений небольшой тяжести, а еще шесть — к категории средней тяжести.
Вместе с тем применительно к составам, введенным в УК РФ Федеральным законом от 24.09.2022 № 365-ФЗ, бросается в глаза колоссальное, не поддающееся разумному объяснению усиление ответственности за повторно совершенное правонарушение. Как следует из диспозиций соответствующих уголовно-правовых норм, административную преюдицию порождает повторное совершение правонарушений, предусмотренных чч. 1, 2 или 2.1 ст. 14.55 и чч. 1 или 2 ст. 7.29.2 КоАП РФ. Так, санкция чч. 1 и 2 ст. 14.55, а также чч. 1 и 2 ст. 7.29.2 КоАП РФ предусматривает для должностных лиц наказание в виде штрафа в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, а по ч. 2.1. ст. 14.55 КоАП РФ размер административного штрафа составляет от пятидесяти до ста тысяч рублей. Стоит заметить, что административный штраф, исходя из положений ч. 1 ст. 3.2 КоАП РФ, является одним из наиболее мягких административных наказаний. За большинство административных правонарушений, образующих административную преюдицию по действующей редакции уголовного закона, могут быть назначены гораздо более строгие наказания в виде лишения специального права, ареста или обязательных работ. При этом повторное совершение таких, очевидно более опасных с точки зрения законодателя, правонарушений образует состав преступлений, относящихся к категориям небольшой или средней тяжести. В то же время повторное совершение административных деликтов, предусмотренных чч. 1, 2 или 2.1 ст. 14.55 и чч. 1 или 2 ст. 7.29.2 КоАП РФ, расценивается законодателем как тяжкое преступление и может повлечь наказание вплоть до восьми лет лишения свободы, а в квалифицированных составах (ч. 2 ст. 201.2 и ч. 2 ст. 285.2 УК РФ) — до десяти лет. При этом кумулятивная санкция указанных уголовно-правовых норм содержит обязательные дополнительные наказания (лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а при назначении основного наказания в виде лишения свободы также штраф).
Заключение и вывод
Изложенное выше позволяет заключить, что повторное совершение административного правонарушения, наказуемого штрафом, не может свидетельствовать о столь существенном повышении степени общественной опасности виновного. Объяснением наличия столь строгого наказания в нормах, предусматривающих уголовную ответственность за преступления в сфере государственного оборонного заказа, могло бы явиться наличие поощрительной нормы в виде специального основания освобождения от уголовной ответственности. Вместе с тем, действие соответствующих примечаний распространяется только на основные составы ст. 201.2 и ст. 285.5 УК РФ.
Мы полагаем, что стимулирование граждан к правопослушному поведению и достижение целей частной и общей превенции не могут обеспечиваться за счет установления неоправданно строгого наказания, не отвечающего принципу справедливости (ч. 1 ст. 6 УК РФ). В случае если законодатель полагает, что деяния в виде нарушения условий государственного контракта по государственному оборонному заказу или договора, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, либо отказа или уклонения от их заключения заслуживают столь серьезного наказания, ему следует отказаться от использования административной преюдиции при конструировании соответствующих уголовно-правовых норм. В противном случае оказывается нарушенными системные свойства уголовного и административно-деликтного права.
Список литературы Уголовная ответственность за преступления в сфере государственного оборонного заказа и системные связи уголовного права
- Акутаев Р. М. Об уголовных проступках и категоризации преступлений в свете постановления Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2013 г. // Российская юстиция. 2013. № 5. С. 41-45.
- Антонович Е. К., Осипов А. Л. Актуальные вопросы применения института административной преюдиции в уголовном судопроизводстве // Адвокат. 2017. № 1. С. 26-34.
- БезверховА. Г. Административная преюдициальность в уголовном законодательстве России: истоки, реалии, перспективы // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». 2011 № 2 (10). С. 39-52.
- Безверхов А. Г. Возвращение «административной преюдиции» в уголовное законодательство России // Российская юстиция. 2012. № 1. С. 48-53.
- Изюмова Е. С. Административная преюдиция уголовной ответственности за незаконную организацию игорной деятельности // Административное и муниципальное право. 2014. № 4. С. 325-332.
- Капинус О. С. Законодательные инициативы о регламентации в Уголовном кодексе РФ уголовного проступка: критический анализ // Российская юстиция. 2021. № 3. С. 25-29.
- Карабанова Е. Н., Цепелев К. В. К вопросу о перспективе использования административной преюдиции в уголовном праве России // Российская юстиция. 2020. № 11. С. 57-60.
- КибальникА. Г. Недопустимость административной преюдиции в уголовном законодательстве // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 2 (7). С. 119-125.
- Колпаков В. К. Вредность и общественная опасность административного правонарушения // Административное право и процесс. 2018. № 8. С. 7-11.
- Лопашенко Н. А. Административной преюдиции в уголовном праве — нет! // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2011. № 3 (23). С. 64-71.
- Уголовно-правовое воздействие: монография / Г.А. Есаков, Т. Г. Понятовская, А. И. Рарог [и др.] ; под ред. А. И. Ра-рога. Москва: Проспект, 2012. 288 с.
- Юрченко И. А. Мелкое преступление: новеллы российского уголовного законодательства и вопросы его совершенствования // Сибирское юридическое обозрение. 2018. № 1. С. 58-63.