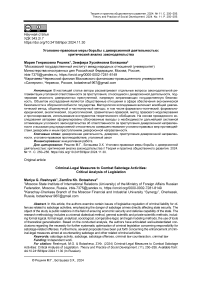Уголовно-правовые меры борьбы с диверсионной деятельностью: критический анализ законодательства
Автор: Решняк М.Г., Боташева З.Х.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье авторы рассматривают отдельные вопросы законодательной регламентации уголовной ответственности за преступления, относящиеся к диверсионной деятельности, подчеркивая опасность диверсионных преступлений, напрямую затрагивающих государственную безопасность. Объектом исследования являются общественные отношения в сфере обеспечения экономической безопасности и обороноспособности государства. Методология исследования включает всеобщий диалектический метод, общенаучный и частнонаучный методы, в том числе формально-логический, формально-юридический, аналитический, социологический, сравнительно-правовой, метод правового моделирования и прогнозирования, использование инструментов теоретического обобщения. На основе проведенного исследования авторами сформулированы обоснованные выводы о необходимости дальнейшей системной оптимизации уголовного законодательства об ответственности за преступления диверсионной направленности и высказан ряд предложений относительно совершенствования уголовно-правовых мер противодействия диверсиям и иным преступлениям диверсионной направленности.
Диверсионная деятельность, диверсия, преступления диверсионной направленности, уголовно-правовое противодействие, уголовный закон
Короткий адрес: https://sciup.org/149146973
IDR: 149146973 | УДК: 343.2/.7 | DOI: 10.24158/tipor.2024.11.30
Текст научной статьи Уголовно-правовые меры борьбы с диверсионной деятельностью: критический анализ законодательства
1Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Москва, Россия, ,
1Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs Russian Federation, Moscow, Russia, , 2Karachay-Cherkess Branch of the Moscow Financial and Industrial University “Synergy”, Cherkessk, Russia,
Длящийся на протяжении последних десятилетий глобальный кризис в США и европейских государствах обусловил потрясение основ установленного международного порядка, очевидные или неочевидные нарушения международного права. Желание США и их сателлитов удержать свое главенствующее положение в мировом сообществе приводит к тому, что во взаимоотношениях между странами стали использоваться недопустимые методы достижения желаемых целей1. Необъявленная война, сначала «холодная», начавшаяся с введения санкций против РФ, в настоящее время повышает свой «градус» и продолжается уже на полях специальной военной операции (далее – СВО), где принимают участие граждане стран НАТО и применяется поставленное Украине странами НАТО оружие и техника. Во время боевых действий военными нередко совершаются разные диверсии, однако и на территории России в последнее время увеличилось количество таковых. Согласно С.И. Ожегову, диверсия предполагает совершение действий, направленных в мирное или военное время на причинение противнику как можно большего ущерба, способного оказать существенное влияние в целом на его военное, экономическое и/или политическое состо-яние2. При этом диверсии могут быть разнообразными по форме – политической, идеологической, экономической, информационной, психологической, биологической, военной.
В российском уголовном законодательстве уголовная ответственность за совершение диверсий предусматривалась практически с начала существования Советского государства. Следует отметить, что в УК РСФСР 1922 г. (далее – УК 1922 г.) само слово «диверсия» отсутствовало, а наказуемым являлась, в соответствии со ст. 65, «организация в контрреволюционных целях разрушения или повреждения взрывом, поджогом или другим способом железнодорожных или иных путей и средств сообщения, средств народной связи, водопроводов, общественных складов и иных сооружений или строений, а равно участие в выполнении указанных преступле-ний»3. Наказание за совершение указанных действий устанавливалось в виде высшей меры с конфискацией имущества. Другими словами, за совершение диверсий безальтернативно назначалась смертная казнь с обязательной конфискацией. Подобная суровость была обусловлена состоянием государства в тот исторический период. Стоит отметить, что в данной норме закона присутствовало упоминание о возможных смягчающих обстоятельствах и при их наличии наказание могло быть не столь суровым – лишение свободы на срок не ниже 5 лет со строгой изоляцией и конфискацией всего имущества4.
В УК РСФСР 1926 г. (далее – УК 1926 г.) диспозиция статьи 58.9, посвященной диверсии, претерпела существенное изменение: «Разрушение или повреждение с контрреволюционной целью взрывом, поджогом или другими способами железнодорожных или иных путей и средств сообщения, средств народной связи, водопровода, общественных складов и иных сооружений или государственного или общественного имущества…»5. Хотя наказание за преступление практически не изменилось – расстрел с конфискацией имущества, но в санкции появилась альтернатива в виде объявления врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной республики и тем самым гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов Союза ССР навсегда6. Обратим внимание на то, что в отличие от УК 1922 г. в диспозиции УК 1926 г. речь уже идет не об организации и участии в диверсии, а о совершении конкретного действия, что, безусловно, имеет логическое обоснование.
В УК РСФСР 1960 г.7 (далее – УК 1960 г.) ответственность за диверсию предусматривалась статьей 68, которая впоследствии была исключена Федеральным законом от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ8. Однако в принятом в 1996 г. УК РФ норма о диверсии восстановлена в виде ст. 281, диспозиция которой определяет диверсию как «совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации…». Одновременно содержание наказания существенно изменилось – за совершение преступления в УК РФ было предусмотрено лишь лишение свободы на срок до 15 лет (в ч. 1) и до 20 лет (в ч. 2). Обратим внимание на то, что во всех уголовных законах в диспозиции анализируемой нормы в качестве обязательного элемента присутствует конкретная цель, к вопросу о которой мы вернемся далее.
Возрастание после начала СВО диверсионной активности на территории Российской Федерации, в том числе умышленные повреждения железнодорожных путей, попытки подрывов и поджогов других инфраструктурных объектов, о чем неоднократно сообщали СМИ1, потребовало от государства совершенствования мер предупреждения соответствующих противоправных деяний и ответственности за их совершение. Это направление государственной политики, в частности, затронуло уголовное законодательство, в которое был внесен ряд изменений и дополнений, в целом ориентированных на усиление и дальнейшую дифференциацию ответственности за диверсию и связанную с ней общественно опасную деятельность (Нудель, 2023: 5–7).
На фоне происходящих событий возобновился интерес к научным исследованиям в сфере антидиверсионного законодательства (Глазырин, 2024; Коряковцева, Семенцова, 2022; Лопатина, 2023; и др.). Следует отметить, что, несмотря на мнение российских ученых (Емельянов, 2000; Сопов, 2009; Тихонин, 2022; и др.) по вопросам квалификации диверсии, длительное время эти действия квалифицируются как террористический акт2 по ст. 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ).
Федеральным законом от 29 декабря 2022 г. № 586-ФЗ3 в гл. 29 УК РФ были включены три новые статьи об ответственности за содействие диверсионной деятельности, в том числе за вовлечение в нее, ее финансирование, а равно пособничество и организацию (ст. 281.1); прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (ст. 281.2); организацию диверсионного сообщества и участие в нем (ст. 281.3). Одновременно часть 1 ст. 63 УК РФ была дополнена еще одним обстоятельством, отягчающим наказание, состоящим в совершении преступления, преследующего цели пропаганды, оправдания и поддержки диверсии, которые раскрыты примечаниях к ст. 281.3 УК РФ4. Помимо этого, Федеральным законом от 28 апреля 2023 г. № 157-ФЗ были внесены изменения непосредственно в ст. 281 УК РФ5.
Обратим внимание на то, что в пояснительной записке к законопроекту о дополнении УК РФ ст. 281.1–281.3 используется понятие «преступления диверсионной направленности», при этом подчеркивается, что деяния, входящие в его объем, по степени общественной опасности сопоставимы с преступлениями террористической опасности, тогда как существующие уголовно-правовые меры противодействия диверсионной деятельности, по мнению авторов законопроекта, не соответствуют уровню ее опасности, не учитывают присущие ей организованность и направленность против обороноспособности и экономической безопасности государства6. Очевидно, что указанная законодательная инициатива изначально основывалась на концепции формирования таких уголовно-правовых мер противодействия диверсионной деятельности, которые аналогичны существующим относительно схожей с ней террористической деятельности. Таким образом, в ч. 1 ст. 63 и гл. 29 УК РФ были закреплены новые положения, практически идентичные по содержанию п. «р» ч. 1 ст. 63 УК РФ и ст. 205.1, 205.3 и 205.4 УК РФ, регламентирующим преступность и наказуемость деяний, относящихся к террористической деятельности (терроризму).
Мы разделяем позицию ученых, считающих, что «сам принцип дополнения УК статьями, подобными ст. 205.1, порочен. Сегодня самостоятельной нормой Особенной части УК является содействие совершению терроризма, завтра таковым признают вовлечение в государственную измену, послезавтра – организацию убийства и т. д.» (Кочои, 2005: 79), и неоднократно обращали внимание на отсутствие системности и определенности при совершенствовании уголовного законодательства (Решняк, 2021: 104). Полагаем, что при подготовке рассматриваемой законодательной инициативы следовало применить иной подход к повышению эффективности противодействия диверсиям, заключающийся в отнесении последних к числу преступлений террористической направленности, тем более что на схожесть и сопоставимый уровень общественной опасности диверсионной и террористической деятельности указали сами авторы законопроекта. Применение этого подхода одновременно позволило бы исключить необходимость внесения указанного выше дополнения в ч. 1 ст. 63 УК РФ и включения в УК РФ новых статей 281.1, 281.2 и 281.3, устранив тем самым потенциальную конкуренцию данных статей со статьями 205.1–205.5 УК РФ об ответственности за аналогичные деяния, способствующие осуществлению террористической деятельности.
Полагаем, что создавать целый институт уголовной ответственности за диверсию и сопутствующие ей преступления было нецелесообразно, так как подобные действия были наказуемы и до этого – они могли признаваться приготовлением к диверсии либо соучастием в ее осуществлении в виде соисполнительства, организации или пособничества. Считаем, усиление борьбы с диверсионной деятельностью можно было произвести за счет распространения на нее существующих законодательных, организационных и иных мер противодействия терроризму, на что мы уже обращали внимание (Решняк, 2023: 303). Допустимость включения диверсии в объем понятий террористической деятельности и преступлений террористической направленности, по нашему мнению, может быть обоснована не только сходством объективных признаков и сопоставимой степенью общественной опасности данных видов противоправной деятельности, но еще и существующим законотворческим опытом отнесения к преступлениям террористической направленности уголовно наказуемых деяний, посягающих не только на общественную безопасность, но и на иные объекты, включая основы конституционного строя и безопасность государства. К последним преступлениям относятся посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), насильственные захват или удержание власти (ст. 278 УК РФ) и вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ). Представляется вполне логичным продолжить этот перечень, включив в него диверсию.
Таким образом, повышение эффективности уголовно-правового противодействия диверсионной деятельности можно было осуществить двумя альтернативными путями, в том числе при их сочетании, первый из которых связан с включением диверсии в объем законодательного понятия террористической деятельности, а второй – с усилением наказания, уточнением (дополнением) признаков и дальнейшей дифференциацией уголовной ответственности за диверсию.
В частности, Федеральным законом от 28 апреля 2023 г. № 157-ФЗ были внесены корреспондирующие изменения в ст. 205 и 281 УК РФ, способствующие унификации уголовно-правовых мер противодействия террористическим актам и диверсиям, включая сроки лишения свободы в санкциях данных статей. В пояснительной записке к проекту этого Закона1 подчеркивается сходство объективных признаков террористического акта и диверсии, в том числе возможность совершения данных преступлений не только единолично или организованной группой, но и группой лиц по предварительному сговору, что было учтено в новой редакции п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ, совпадающей по своему содержанию с п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Кроме того, часть 2 ст. 281 УК РФ была дополнена пунктом «в», в котором закреплен квалифицирующий признак диверсии, заключающийся в сопряженности этого преступления с посягательством на специфические объекты, относящиеся к топливно-энергетическому комплексу и организациям обороннопромышленного комплекса, а равно к Министерству обороны РФ, Вооруженным Силам РФ, войскам Национальной гвардии либо к органам государственной власти, которые привлекаются к выполнению задач в области обороны, а также на объекты. Необходимость этого дополнения хотя и не обосновывается в пояснительной записке к законопроекту, первоначально не включавшему такое положение, однако подтверждается фактическими событиями, в частности нападением на Курскую АЭС2.
Обратим внимание на еще одни системные изменения, внесенные в ст. 205 и 281 УК РФ, также подчеркивающие взаимосвязь данных норм и предусмотренных ими преступлений. Тем же Федеральным законом от 28 апреля 2023 г. № 157-ФЗ был признан утратившим силу п. «б» ч. 2 ст. 205 УК РФ, где содержался квалифицирующий признак террористического акта в виде наступления по неосторожности смерти человека, вызывавший вопросы по поводу своей обоснованности (Кадников, Дайшутов, 2016: 105; Рарог, 2017: 164–165). Одновременно из п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и ч. 3 ст. 281 УК РФ было исключено указание на умышленный характер причинения смерти человеку в результате террористического акта или диверсии, расширяющее содержание этого особо квалифицирующего признака, который теперь включает в себя как умышленное, так и неосторожное причинение смерти потерпевшему.
Также, учитывая необходимость системного подхода к изменению уголовного законодательства, полагаем целесообразным внести дополнение в п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности»1 (далее – Постановление), включив в перечисленный в нем примерный перечень преступлений, для совершения которых создается незаконное вооруженное формирование, диверсию, изложив его в следующей редакции: « Под незаконным вооруженным формированием в статье 208 УК РФ следует понимать не предусмотренные федеральным законом объединение, отряд, дружину или иную вооруженную группу, созданные для реализации определенных целей (например, для совершения террористических актов, диверсий , насильственного изменения основ конституционного строя или нарушения территориальной целостности Российской Федерации) ». Одновременно было бы логичным внести ст. 281 УК РФ в перечень преступлений в п. 30.1 данного Постановления.
В последнее время нередко возникают предложения об усилении ответственности за совершение диверсий2. По нашему мнению, подобный подход носит популистский характер, так как действующая санкция ст. 281 УК РФ вполне достаточна, однако полагаем целесообразным дополнить ст. 56 УК РФ, включив в имеющийся в ней перечень преступлений также преступление, предусмотренное ст. 281 УК РФ.
Остановимся еще на одном моменте, связанном с некоторыми особенностями квалификации. Согласно информации МВД РФ, с февраля 2022 г. по январь 2024 г. на железной дороге были совершены 184 диверсии. Среди задержанных за совершенное деяние более трети – под-ростки3. Безусловно, среди них имеются идейные враги РФ из числа детей украинских мигрантов. Однако многие несовершеннолетние, задержанные за поджоги релейных шкафов на железной дороге, действия которых квалифицируются как диверсия, просто не представляли тяжесть последствий своих действий в силу отсутствия у них достаточного жизненного опыта и юридических знаний. Характерным примером может послужить случай в Ачинске, когда подросток согласился совершить поджог релейного шкафа за 15 тыс. р. и пригласил для компании своего товарища. В качестве орудия преступления выступили тара с горючим, телефон, зажигалка4. Аналогичная ситуация произошла в Саратовской области, где за попытку поджога релейного шкафа были осуждены 19-летний студент и его 17-летняя подруга. В качестве орудия преступления в данном случае выступили купленные в магазине гвоздодер и керосин5. И в том, и в другом случае их действия квалифицировали как попытку диверсии. Сравним с другой внешне подобной ситуацией, когда совершеннолетний гражданин РФ был осужден за подготовку практически аналогичной диверсии, но при этом орудием преступления выступало взрывное устройство6. Имеется ли различие между приведенными примерами? На наш взгляд, при формальной схожести ситуаций имеется содержательное различие, заключающееся, как представляется, в цели действий перечисленных диверсантов. Возникает вопрос – можно ли утверждать, что все, кто поджигал релейные шкафы, имели целью своих действий, которая является обязательным признаком субъективной стороны данного преступления, именно подрыв экономической безопасности или обороноспособности Российской Федерации? Полагаем, что это не так. В качестве примера можно привести случай в Саратове, когда задержанный за поджог релейного шкафа объяснил свои действия так: «Он написал, что есть работа – порча имущества – и скинул мне фотографию, что нужно испортить, это были шкафы около железной дороги»1. На наш взгляд, несмотря на политическую конъюнктуру, в подобных случаях ответственность должна наступать по ст. 267 УК РФ.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, несмотря на своевременность и обоснованность отдельных изменений и дополнений, внесенных в последние годы в уголовное законодательство в части усиления ответственности за диверсии, сохраняются предпосылки для дальнейшего совершенствования соответствующих положений УК РФ, в основу которого, как нам представляется, должна быть заложена концепция неразрывного единства террористической и диверсионной видов противоправной деятельности. Ключевым элементом этой концепции должно стать включение диверсии в объем террористической деятельности, что позволит обеспечить формирование и дальнейшее развитие единой системы мер противодействия соответствующим преступлениям, а также осуществлять дифференцированный подход к их предупреждению, в том числе при их осуществлении террористическими сообществами и террористическими организациями. Во-вторых, существует настоятельная потребность в обобщении судебной практики по уголовным делам о совершении преступлений диверсионной направленности на уровне постановления Пленума Верховного Суда РФ.
Список литературы Уголовно-правовые меры борьбы с диверсионной деятельностью: критический анализ законодательства
- Глазырин С.И. Преступления диверсионной направленности: новый подход в области обеспечения экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации на современном этапе // Правопорядок: история, теория, практика. 2024. № 1 (40). С. 167-171. https://doi.org/10.47475/2311-696X2024-40-1-167-171.
- Емельянов В.П. Терроризм, бандитизм, диверсия: вопросы разграничения // Законность. 2000. № 1. С. 53-54.
- Кадников Н.Г., Дайшутов М.М. О проблемах ответственности за преступления террористической направленности // Общество и право. 2016. № 2 (56). С. 104-107.
- Коряковцева О.А., Семенцова И.А. Меры совершенствования антидиверсионного законодательства (ст. 281 УК РФ): политико-правовые аспекты и пути предупреждения диверсии // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 9 (148). С. 90-94.
- Кочои С.М. Терроризм и экстремизм: уголовно-правовая характеристика. М., 2005. 171 с.
- Лопатина Т.М. Уголовная ответственность за содействие диверсионной деятельности и организацию диверсионного сообщества или участие в нем // Российский следователь. 2023. № 11. С. 25-29. https://doi.org/10.18572/1812-3783-2023-11-25-29.
- Нудель С.Л. Модернизация уголовной политики: проблемы правового регулирования // Журнал российского права. 2023. Т. 27, № 1. С. 5-22. https://doi.org/10.12737/jrp.2023.001.
- Рарог А.И. Уголовный кодекс России против терроризма // Lex Russica (Русский закон). 2017. № 4 (125). С. 155-178. https://doi.org/10.17803/1729-5920.2017.125.4.155-178.
- Решняк М.Г. К вопросу о системности и эффективности уголовно-правовых мер противодействия коррупции // Современное право. 2021. № 4. С. 103-107. https://doi.org/10.25799/NI.2021.7.70.017.
- Решняк М.Г. Обеспечение безопасности государства: о некоторых проблемах уголовно-правового регулирования // Теория и практика общественного развития. 2023. № 11 (187). С. 301-305. https://doi.org/10.24158/tipor.2023.11.39.
- Сопов Д.В. Разграничение террористического акта и преступлений экстремистского характера // Научный портал МВД России. 2009. № 4 (8). С. 77-82.
- Тихонин И.А. Отграничение террористического акта (ст. 205 УК РФ) от диверсии (ст. 281 УК РФ) // Вопросы российской юстиции. 2022. № 19. С. 477-484.