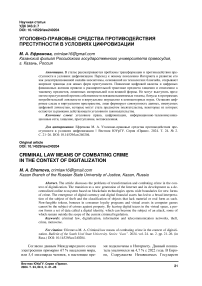Уголовно-правовые средства противодействия преступности в условиях цифровизации
Автор: Ефремова М.А.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 2 т.24, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы трансформации и противодействия преступности в условиях цифровизации. Переход к новому поколению Интернета и развитие его как децентрализованной онлайн-экосистемы, основанной на технологиях блокчейн, открывают широкие границы для новых форм преступности. Появление цифровой валюты и цифровых финансовых активов привело к расширительной трактовке предмета хищения и отнесению к таковому предметов, лишенных материальной или вещной формы. Не могут выступать предметом преступлений против собственности невзаимозаменяемые токены, бонусы в программах потребительской лояльности и виртуальное имущество в компьютерных играх. Оставляя цифровые следы в виртуальном пространстве, лицо формирует совокупность данных, именуемых цифровой личностью, которые могут стать предметом посягательства, некоторые из которых остаются за рамками действующего уголовного законодательства.
Уголовное право, цифровизация, информационно-телекоммуникационные сети, хищение, преступление, метавселенная
Короткий адрес: https://sciup.org/147243672
IDR: 147243672 | УДК: 343.2/.7 | DOI: 10.14529/law240204
Текст научной статьи Уголовно-правовые средства противодействия преступности в условиях цифровизации
Согласно данным Международного союза электросвязи примерно 67 % населения мира, или 5,4 миллиарда человек, в настоящее вре- мя подключены к Интернету. Данный показатель увеличился на 4,7 % с 2022 года. В Европе, Содружестве Независимых Государств
(СНГ) и Америке от 87 % до 91 % населения пользуется Интернетом [9]. Доступность Интернета обусловила переход преступности на «цифровые рельсы», то есть перемещение ее в режим «онлайн». Включение информационно-телекоммуникационных технологий в «традиционные» формы и способы противоправной деятельности, в конечном итоге, породило не просто новый вид преступности, а совершенно уникальное явление, которое отличается принципиально иным механизмом совершения преступления.
Переход к Интернету эпохи Web3, развитие технологий искусственного интеллекта, блокчейн актуализируют вопросы о способности современного уголовного права противостоять новым угрозам и о возможностях его адаптации к произошедшим переменам.
В последние несколько лет во всем мире была запущена интеграция Интернета в формате Web3, который предполагает наличие некой децентрализованной онлайн-экосис-темы, основанной на технологиях блокчейн. С внедрением Web3 в новом направлении стала развиваться и виртуальная реальность, а также метавселенная. Метавселенная позволяет взаимодействовать людям, аватарам, робототехнике и Интернету так, будто они находятся не в виртуальном, а в реальном мире. C позиции уголовного права метавселенная в обозримом будущем будет представлять определенные риски. Отсутствие эффективного регулирования технологий блокчейн и Web3 будет способствовать тому, что метавселенная может стать своеобразной площадкой для преступной деятельности. На сегодняшний день основными видами противоправной деятельности в метавселенной являются мошенничество, кража виртуальных активов, легализация и отмывание преступных доходов, манипулирование рынком. Финансовые преступления – далеко не единственные формы противоправной деятельности в метавселенной. Возвращаясь к рискам, обусловленным появлением метавселенной, к их числу следует отнести прежде всего неконтролируемый поток передачи большого объема данных, что делает их уязвимыми и доступными для неправомерного использования. Метавселенной присуща иммерсия, то есть погружение, эффект которой достигается благодаря органам чувств. Ввиду этой особенности у пользователей отсутствует возможность получить физический вред. Однако в результате воздейст- вия на их аватар со стороны других пользователей присутствует опасность вреда психического. Эффект присутствия может вызвать чувство страха, тревожности и причинить психологическую травму. Осмысление метавселенной через призму уголовного права еще предстоит, однако этому должно предшествовать решение вопроса о регулировании отношений в ней, что может произойти по самым различным сценариям. Один из них базируется на идее невмешательства реального права в виртуальные отношения. Чем больше стирается грань между реальным миром и виртуальным, тем больше очевидным становится вывод о том, что полностью воздержаться от подобного невмешательства едва ли возможно. Применение аналогии и распространения норм реального права на виртуальные отношения следует признать другой крайностью. Компромиссной видится перспектива урегулирования отношений в виртуальной среде посредством разработки своеобразных правил поведения, которые должны соблюдаться заинтересованными сторонами и точечным регулированием нормами права тех отношений, которые никак иначе урегулированы быть не могут.
Если вопросы противодействия преступности в метавселенной пока еще остаются вопросами будущего, то в настоящее время требует решения проблема квалификации посягательств на так называемое виртуальное имущество, то есть активы, лишенные традиционной вещной формы, – безналичные денежные средства, цифровые права, криптовалюту, NFT, «имущество» в компьютерных играх, бонусные баллы в программах потребительской лояльности. Для завладения новыми «бестелесными» активами используются бесконтактные или дистанционные способы. Ввиду их специфичности закономерно возникает вопрос о возможностях применения положений гл. 21 УК РФ в подобных ситуациях. Предусмотрев уголовную ответственность за кражу с банковского счета и электронных денежных средств (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сам законодатель уже пошел по пути признания в качестве предмета хищения «бестелесных» активов. Высшие судебные инстанции в своих актах также относят безналичные и электронные денежные средства к имуществу и предмету хищения, а в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» говорится, что безналичные, электронные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги являются имуществом, а, следовательно, и предметом хищения.
В гражданском законодательстве безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права определяются как разновидность имущественных прав, которые в свою очередь отнесены к категории иного имущества. Немногочисленная правоприменительная практика, которая начала складываться еще в отсутствие позитивного регулирования оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты, преимущественно пошла по пути признания таковых в качестве предмета хищения. С одной стороны, подобный подход позволяет уголовному праву, как основному элементу механизма уголовно-правовой охраны, решать стоящие перед ним задачи. С другой стороны, усиливается рассогласованность между нормами гражданского и уголовного права, происходит «размывание» понятия хищения [5, с. 82]. Следует согласиться с мнением о том, что подобная расширительная трактовка имущества «не укладывается в рамки объективной стороны хищения, которая определяется в законе как изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц» [3].
Вовсе не урегулированным следует признать вопрос о правовом статусе других «бестелесных активов»: «имущества» в компьютерных играх, бонусных баллов в программах потребительской лояльности различных торговых сетей и иного виртуального имущества. И хотя виртуальные активы фактически не являются имуществом, а представляют собой информацию в виде компьютерного кода, оно может выступать предметом сделок уже за реальные денежные средства. Ввиду того, что виртуальное имущество не является цифровыми правами, оно не может выступать предметом преступлений против собственности [4, с. 5].
Специфическим предметом посягательства следует признать и NFT (non fungible token) или невзаимозаменяемый токен. Особенность NFT заключается в том, что он может быть цифровой копией объекта материального мира или другого нематериального объекта, а также выступать в качестве самостоятельного виртуального объекта. NFT позволяет оцифровать все, что угодно. NFT может выступать, с одной стороны, как сертификат, удостоверяющий право собственности, и как самостоятельный объект, с другой. Пока статус виртуального имущества не определен, сложности видятся и в определении юридического признака таких активов, а именно в установлении собственника или владельца. Как отмечает В. В. Хилюта, разработчики компьютерных игр обладают исключительными правами на программу и иные ее составляющие, следовательно, именно им принадлежат виртуальные его объекты. Однако приобретая имущество в компьютерной игре, лицо становится собственником, но лишь в виртуальной реальности [7, с. 70]. Отношения между разработчиками и пользователями игр обычно регламентируются пользовательским соглашением, а отношения между пользователями внутри игры – правилами самой игры. Правила некоторых игр допускают и даже поощряют возможность кражи игрового имущества (например, в игре Ultima online). Поэтому неправомерное завладение чужим виртуальным имуществом возможно путем противоправного доступа к аккаунту пользователя. Ввиду изложенного применить к подобного рода посягательствам нормы гл. 21 УК РФ не представляется возможным. Из имеющегося арсенала уголовно-правовых средств противодействия неправомерному завладению виртуальным имуществом остается ч. 2 ст. 272 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб или совершенный из корыстной заинтересованности. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в контексте посягательств на «бестелесные» предметы адаптационные возможности положений гл. 21 УК РФ исчерпаны и необходим принципиально новый подход к регламентации ответственности за их хищение.
Один из таких подходов предложен В. В. Хилютой, который считает, что в рамках «теории имущественных преступлений следует развивать два самостоятельных направления, которые бы четко разграничивали между собой посягательства на телесное и бестелесное имущество ввиду специфичности способа деятельности, механизма причинения ущерба и предмета преступного посягательства» [8, с. 22]. Ученый полагает, что о хищении мож- но говорить исключительно как о посягательстве на имущество, имеющее вещный признак. Во всех остальных случаях речь идет о посягательствах на объекты гражданских прав. Иной позиции придерживается А. В. Архипов, полагая необходимым отказаться «от разделения предмета преступлений против собственности на имущество и право на имущество», а «после отказа законодателя от обязательности физического (вещного) признака предмета хищения сохраняющееся в законе разделение предмета преступлений против собственности на имущество и право на имущество утратило смысл» [1, с. 23]. Представляется, что решение ряда вышеперечисленных проблем первично должно произойти в рамках гражданского законодательства, однако трансформация понятия хищения в обозримом будущем все же неизбежна.
Процессы цифровизации обусловили появление такого феномена, как «цифровая личность», а, следовательно, и потребность в совершенствовании механизма уголовно-правовой охраны в этом направлении. Цифровая личность представляет собой образ человека в цифровом пространстве и включает в себя все аспекты и данные, связанные с конкретным субъектом в виртуальной среде. Сюда можно отнести логины и пароли, персональные данные, информацию об аккаунтах в социальных сетях и многое другое. Следовательно, структура цифровой личности строится на основе тех данных, которые лицо само предоставляет или оставляет в сети. Иными словами, цифровая личность – это совокупность цифровых следов, оставленных владельцем о самом себе. Сегодня существует множество схем и способов завладения цифровыми личными данными: покупка их в Darknet, фишинговые атаки и рассылки вредоносного программного обеспечения. Получая доступ к цифровым данным о лице, злоумышленники могут совершить целый ряд преступлений. Неправомерное завладение данными о цифровом облике лица может осуществляться с целью последующих незаконных финансовых операций, создания «цифровых двойников», изменения данных о личности и т.д. Подобные действия образуют так называемую «кражу цифровой личности» (digital identity theft). В отдельных случаях подобным деяниям можно дать надлежащую правовую оценку, однако положения действующего уголовного законодательства не дают внятного ответа на вопрос о квалификации использования технологий реконструкции лица другого человека в режиме реального времени [6, с. 590]. Сложности могут возникнуть и при квалификации деяний, совершенных при помощи синтетической идентификации с использованием неполных данных (synthetic identify), когда объединяется реальная и недостоверная информация для создания «новой» личности.
Подводя итог вышеизложенному, отметим, что современное уголовное право, столкнувшись с цифровой реальностью, не всегда способно выполнять свои базовые функции. Цифровизация механизма совершения преступлений привела не только к трансформации традиционной преступности, но и к кризису уголовного права [6, с. 590], которое запаздывает и не реагирует на стремительно меняющиеся реалии, а охранительно-предупредительные функции в подобных условиях в полной мере не реализуются. Незначительный запас прочности для противодействия преступности в условиях цифровизации у действующего уголовного законодательства еще присутствует, но и он стремительно исчерпывается под влиянием вышеназванных процессов. Однако предложить какой-либо определенный путь в устранении возникшего сбоя механизма уголовно-правовой охраны весьма затруднительно, потому как невозможно предсказать, как будут развиваться информационно-коммуникационные технологии. Социальная реальность такова, что виртуальное и реальное тесно переплетены между собой. Пользователи метавселенной и компьютерных игр, владельцы наматериальных активов являются реальными людьми. В свою очередь отношения, возникающие в связи вышесказанным, нельзя признать сугубо виртуальными. В англосаксонской правовой системе для решения вопроса о границах между реальным и виртуальным в игровой сфере разработана концепция «магического круга» (The Magic Circle Test) [2]. Суть концепции заключается в том, что все происходящее в виртуальном пространстве находится в рамках «магического круга», однако если виртуальные отношения влекут последствия для мира реального, то круг разрывается и они могут попасть под сферу действия права. Представляется, что данная концепция не утратила своей актуальности и по сей день. Для опережающего регулирования отношений, порожденных цифровизацией, необходимо объединение усилий представителей юридической науки, поскольку только таким путем возможно выработать принципиальные теоретико-прикладные ре- шения о границах действия права, от которых в свою очередь будет зависеть эволюционное развитие уголовного права.
Список литературы Уголовно-правовые средства противодействия преступности в условиях цифровизации
- Архипов А. В. Цифровые объекты как предмет хищения // Уголовное право. 2020. № 6. С. 16-23. EDN: IBQMOF
- Дюранске Б. Т., Кейн Ш. Ф. Виртуальные миры, реальные проблемы // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2013. № 2 (307). С. 115-134. EDN: QBKCFP
- Капинус О. С. Цифровизация преступности и уголовное право // Baikal Research Journal. 2022. Т. 13. № 1. EDN: NZNOMN
- Мочалкина И. С. Цифровые права и цифровая валюта как предмет преступлений в сфере экономики: дис. … канд. юрид. наук. М., 2022. 240 c. EDN: ARANPY
- Ображиев К. В. Преступные посягательства на цифровые финансовые активы и цифровую валюту: проблемы квалификации и законодательной регламентации // Журнал российского права. 2022. Т. 26. № 2. C. 71-87. EDN: TFLWKT
- Русскевич Е. А, Дмитренко А. П., Кадников Н. Г. Кризис и палингенезис (перерождение) уголовного права в условиях цифровизации // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2022. № 3. C. 585-598.
- Хилюта В. В. Дематериализация предмета хищения и вопросы квалификации посягательств на виртуальное имущество // Журнал российского права. 2021. № 5. С. 68-82. EDN: ZFUCQV
- Хилюта В. В. Цифровые права как предмет хищения // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2020. № 5 (79). С. 15-22. EDN: MROCQZ
- Measuring digital development. ICT development 2023. URL: https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/idi2023.