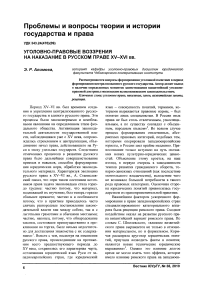Уголовно-правовые воззрения на наказание в русском праве XV-XVI вв.
Автор: Алимова Эльвира Рифкатовна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы теории и истории государства и права
Статья в выпуске: 38 (214), 2010 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются вопросы формирования уголовной политики в период формирования централизованного русского государства. Автор делает вывод о наличии определенных моментов заимствования византийской уголовно-правовой доктрины московским великокняжеским законодательством.
Уголовное право, наказание, закон, византийские законы, рецепция
Короткий адрес: https://sciup.org/147149545
IDR: 147149545 | УДК: 343.24(470)(09)
Текст научной статьи Уголовно-правовые воззрения на наказание в русском праве XV-XVI вв.
Период XV-VI вв. был временем создания и укрепления централизованного русского государства и единого русского права. Эти процессы были закономерными и неизбежными явлениями на определенном этапе феодального общества. Активизация законодательной деятельности государственной власти, наблюдавшаяся уже с XV века, сопровождалась стремлением к централизации, объединению начал права, действовавшего на Руси в эпоху удельных государств. Следствием отмеченных процессов в развитии русского права было дальнейшее совершенствование приемов и навыков, способов формулирования юридических норм, обработки законодательного материала. Характеризуя эволюцию русского права в XV-VI вв., А. Станиславский писал, что «при таком состоянии источников права задача законоведцев стала гораздо труднее: частию потому, что материал, подлежащий их изучению, был теперь гораздо обильнее прежнего; частию и в особенности потому, что в практике приходилось часто сличать разнородные постановления законодательной власти как между собою, так и с льготными грамотами и обычаями местными; частию, наконец, потому, что обнародование законов, состоявшее преимущественно в прокликании на торгах, было весьма недостаточно для доставления знакомства с их содержанием»1. Вместе с тем, несмотря на изменения русского права, происходившие на протяжении всего предшествующего периода до XV века, сохранялась его характерная черта, «отличавшая юридический язык Руси от западноевропейских стран, где юридический язык - совокупность понятий, терминов, которыми выражаются правовые нормы, - был понятен лишь специалистам. В России язык права не был столь отвлеченным, узкоспециальным, а по существу совпадал с обыденным, народным языком»2. Во всяком случае процесс формирования отвлеченных, абстрактных правовых категорий, подобных тем, которыми оперировали западноевропейские юристы, в России шел крайне медленно. Правосознание только вступало на путь осознания новых культурно-юридических ценностей. Объяснение этому кроется, на наш взгляд, в первую очередь в замедленности темпов развития гражданского оборота, товарно-денежных отношений (как последствие монгольского владычества), вследствие чего не возникало большой потребности в такого рода правовых категориях. Оценочная сторона юридических понятий привносилась государством из правоприменительной практики.
Важнейшим фактором ускоренного формирования в праве западноевропейских стран специализированного категориального аппарата была рецепция римского права. Сходное воздействие оказал на развитие русского права византийский вариант римского права. По словам С. Шпилевского, «влияние византийского права выражается не только в отношении материальном, но и формальном. Кормчая расширяла кругозор юридических понятий, приучила возводить факты в понятия; являются новые технические юридические выражения»3. Однако это влияние долгое время не могло иметь того эффекта, которое имело влияние римского права на западноев-
Алимова Э. Р.
Уголовно-правовые воззрения на наказание в русском праве XV-XVI вв.
ропейскую юриспруденцию. Во-первых, византийское право уступало классическому римскому праву именно с точки зрения формально-юридической: его понятия, терминология были сравнительно неопределенны, расплывчаты, носили более конкурентный характер. Данное различие усугубилось в средние века. Римское право в Западной Европе было подвергнуто научной разработке в университетах, тогда как византийское право в России подобной разработке не повергалось, поскольку основным проводником его была православная церковь, не приветствующая существенный «отход от канонов». Во-вторых, как справедливо отмечал Н. П. Загоскин, несмотря на то что в правовом развитии Русь испытывала сильное влияние «византизма», в русском обществе постоянно проходила борьба государственно-религиозного элемента с «естественными основами славянской нации»4. Под влиянием государственной политики складывались и национальные черты отношения к наказаниям, связанным с лишением и ограничением свободы. Кроме того, «военно-фискальная» ценность личности в период ордынского ига меньше всего обусловливала применение таких наказаний в качестве карательных мер, поскольку государственная идеология выступала за социально-активную личность в борьбе за укрепление национальной власти. Но начиная с XV века, по мнению ряда исследователей, почва для восприятия византийских государственных понятий была готова на Руси. Более развитое право Византии, по их утверждениям, без сомнения с этого времени оказывает на русскую правовую систему сильнейшее влияние, «видоизменяя, совершенствуя понятия и учреждения, выработанные народным правом»5.
Наиболее явно эта тенденция проявилась в уголовном праве, где проводником «византизма» выступала православная церковь. «Уже издавна, - отмечал по этому поводу К. А. Неволин, - с самого своего водворения в России, церковь, как свидетельствуют церковные уставы, заведовала по закону множеством дел различного рода, к какому бы состоянию не принадлежали лица, виновные в преступлении»6. Во всех этих случаях церковь преследовала преступников и карала их, правда, часто по господствующей в светском законодательстве системе наказаний (Устав Ярослава), но вовсе не для того только, чтобы удовлетворить «обиженного» или возместить материальный ущерб, причиненный преступ- лением, - она видела в преступлении единственно греховное, злое дело, «яко же от зла непреложены пребудут, яро казнити на взбра-нение злу»7, беззаконие, преступление страха и закона, богомерзкое дело, а преступники суть «забыватели страха Божия»8. Господство теологических доктрин отводило важную роль и принципу возмездия, поскольку возмездие означало «вечное начало абсолютной справедливости, заповеданное творцом»9. Созданное творцом общество мыслилось статичным. Поэтому категория «долженствования» в средневековом праве была неизменной и независимой от воли индивидуума, будучи основанной на бесспорных положениях богословия.
Понятно, что и светское законодательтво, находясь под сильным влиянием церковного, сообразно с воззрениями последнего, изменяет свой взгляд на преступление и начинает видеть в важнейших преступлениях «лихие, злые дела», которые должны преследовать и наказывать «в интересах общественной правды». Значительно увеличивается число «та-тебных» и «разбойных» дел, появляется новая категория преступников, так называемые «лихие люди»10.
Хотя такой новый взгляд мы замечаем именно с XV века в судебниках и современных им юридических памятниках, роль наказаний, связанных с лишением свободы и ссылкой, до XVI века ограничивается в основном политическими потребностями княжеской власти. Первые крупные мероприятия по развитию этих наказаний как мер общеуголовных связаны лишь с массовой преступностью «лихих людей» в первой половине XVI века.
Изменяются и цели наказания. Новые цели, такие, как устрашение и предупреждение новых преступлений, появляются первоначально в переводных византийских законодательных сборниках («Книги законные»), использовавшихся в практике судов еще с XIII -начала XIV вв. Затем эти цели фиксирует уже Кормчая книга. Утверждая, например, смертную казнь для разбойников через повешение в тех местах, где они «разбой творяху», Кормчая заключает: «Да видения ради оубоятся начинающий таковая, и да боудет оутешение сродникам убиенных от них»11. Так начинает складываться получивший впоследствии широкое распространение принцип: «...чтобы, смотря на то, другим неповадно было так делать». Однако, по мнению М. Ф. Владимир-
Проблемы и вопросы теории и истории государства и права ского-Буданова, на начальном этапе своего развития Московское государство не задавалось вопросом, на каком основании и для какой цели оно применяет карательные меры к преступным действиям. И только постепенно в ряде актов мы можем заметить указание на цель устрашения. Так, в губном наказе селам Кириллова монастыря от 1549 года предписывается вешать воров и разбойников «в тех местех, где которого татя поймают с татьбою»12. Царская грамота белозерским воеводам в ответ на их челобитье дозволяла похоронить казненных за измену, которые «в прошлом де... году... повешены... и по ся места висят на виселицах»13. Наконец, в Стоглаве этот принцип получает наиболее четкое выражение: «Да и прочий страх приимут на та-14 ковая не дерзати» .
Кроме того, мы можем в русском праве рассматриваемого периода заметить развитие еще одной цели наказания - «лишение преступника средств повторить преступления, не применяя к нему бесповоротных казней». На это как раз указывает активизация применения таких наказаний, как тюремное заключение, ссылка и уголовное поручительство. Данные наказания всегда рассматривались как средство исправления самого преступника; государство начинает прибегать к «бесповоротным» карам (смертная казнь, пожизненное заключение) только тогда, когда общество признает преступника неисправимым («лихует» его). Таким образом, то первоначальное каноническое понятие о наказании, выраженное в самом термине «наказать -научить, исправить», воспринимается и государственной властью.
В процессе восприятия государственной властью Московского княжества определенных элементов уголовной политики Византии исследователи выделяют еще одну сторону этого явления. Так, С. Н. Викторский не без основания отмечал, что в результате этих процессов с конца XV века верховная власть отрывается от общества и берет на себя всю инициативу искоренения преступных элементов, «идея о государственном значении уголовных кар почти совершенно уничтожает прежние права потерпевшего», и к концу XVI века создалось «неблагоприятное отношение государства к личности, государство не ценило личность, в результате коллизий росли преступления и ширились казни»15.
Однако «огосударствление» наказания не было строго целенаправленным и непрерыв ным процессом. Пример тому мы находим на рубеже 30-х гг. XVI века при реализации земско-губной реформы. С одной стороны, привлечение населения в ходе губной реформы к реализации карательной функции было явлением уникальным; с другой — едва ли не парадоксальным кажется здесь то, что именно эта функция населения была через несколько десятилетий обречена на забвение. На наш взгляд, вполне обоснованное объяснение этого феномена дал В. А. Рогов, видевший основную причину в слабости карательного аппарата, в его неотлаженности, обусловленны-„ «16
ми ускоренной централизацией государства . Именно в этот период достаточно отчетливо начинает прослеживаться применение наказаний, в первую очередь связанных с лишением свободы для преступников неполитического 17 характера .
Список литературы Уголовно-правовые воззрения на наказание в русском праве XV-XVI вв.
- Станиславский А. О ходе законоведения в России и о результатах современного его направления. СПб., 1853. С. 22.
- Развитие русского права в XV -первой половине XVII в. М., 1986. С. 47.
- Шпилевский С. Об источниках русского права в связи с развитием государства до Петра I//Ученые записки Казанского университета. 1862. Вып. II. С. 272.
- Загоскин Н. П. Очерк истории смертной казни в России. С. 21.
- О присутствии значительного числа элементов византийской системы в русском праве к XVI века говорил и B. И. Сергеевич. Сергеевич В. И. Лекции и исследования. С. 407.
- Неволин К. О пространстве Церковного суда//ЖМНП. 1847. LVI. С. 53.
- Иоанн митр. Правила//Русские Достопамятности. T. I. C. 92.
- АЭ. T. IV. № 159.
- Познышев С. Основные начала науки уголовного права. С. 55.
- Развитие русского права в XV -первой половине XVII в. С. 12.
- Кормчая книга. Ч. II. Гл. 48, 49. Гр. 24, 39. Ст. 15.
- ААЭ. T. I. № 224. С. 215.
- РИБ. T. II СПб., 1875. № 86. С. 199.
- Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 2. С. 323.
- Викторский С. Н. История смертной казни в России и современное ее состояние. М., 1912. С. 43, 54-58, 64.
- Рогов В. А. Проблемы истории русского уголовного права. С. 165.
- Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960. С. 418-422.