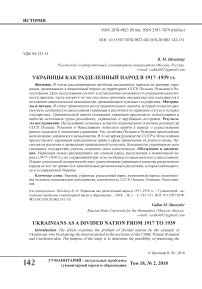Украинцы как разделенный народ в 1917-1939 гг
Автор: Шнейдер Вадим Михайлович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2 (42), 2018 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье рассматривается проблема разделенных народов на примере украинцев, проживавших в межвоенный период на территориях СССР, Польши, Румынии и Чехословакии. Цель исследования состоит в установлении возможности сохранения идентичности народом, части которого по тем или иным причинам оказывались или оказываются в положении национального меньшинства, проживающего в разных государствах. Материалы и методы. В статье применяется метод сравнительного анализа, который позволил рассмотреть особенности самосознания украинцев и различия в их правовом статусе в четырех государствах. Сравнительный анализ положения украинцев предполагал использование в качестве источников труды российских, украинских и зарубежных историков. Результаты исследования. Исследование основных аспектов национальной политики руководства СССР, Польши, Румынии и Чехословакии позволило прийти к выводу о существовании разных подходов в отношении украинцев. Так, политика Польши и Румынии предполагала ассимиляцию украинского меньшинства. В то же время руководство СССР и Чехословакии предоставляло украинцам определенные права в сфере применения их родного языка. Несмотря на различия в проведении национальной политики, большинству украинцев во всех указанных государствах удалось сохранить свою идентичность. Обсуждение и заключение. Украинцев можно рассматривать как единый народ, разделенный в межвоенный период (1917-1939 гг.), но сохранивший при этом особенности национального самосознания. Однако длительный исторический опыт существования украинцев в качестве разделенного народа не мог не привести к значительным региональным различиям, которые наблюдаются и в современной Украине.
Украина, украинцы, разделенный народ, межвоенный период, национальная политика, национальное меньшинство, идентичность, ссср, польша, румыния, чехословакия
Короткий адрес: https://sciup.org/147218314
IDR: 147218314 | УДК: 94:323.15 | DOI: 10.15507/2078-9823.042.018.201802.142-151
Текст научной статьи Украинцы как разделенный народ в 1917-1939 гг
В XX в. вследствие мировых войн, региональных конфликтов, а в конце столетия – дезинтеграции крупных государств (СССР, Югославия) значительная часть больших и малых народов оказалась в состоянии разделенных. Такая ситуация сложилась не впервые: например, можно вспомнить о поляках после раздела Польши конца XVIII столетия. В условиях возвращения политических элит ряда стран к идее укрепления национальных государств в сочетании с процессами глобализации важно понять, насколько положение народов в качестве национальных меньшинств в «чужих» государствах запускает процессы ассимиляции, отрыва от этнических и культурно-исторических корней или, наоборот, усиливает неформальные или формальные центростремительные процессы, несмотря на разделенность де-юре. Почему рассмотрение этой проблемы имеет смысл именно на примере больших народов? Во многом потому, что даже оказав- шись в разных государствах, представители этих наций не могут по определению исчезнуть (даже за достаточно длительный период), в отличие от народов, насчитывающих несколько десятков тысяч человек. Одним из народов, который в начале ХХ в. оказался в положении разделенного, можно считать украинцев. Дополнительный интерес к изучению украинцев в межвоенный период (1918–1940 гг.) связан с тем обстоятельством, что они были и остаются поликонфессиональным народом с существенными региональными особенностями и различиями.
В течение многих веков земли, составляющие территорию современной Украины, находились в составе различных государств. Так, западноукраинские земли длительное время находились в составе Великого княжества Литовского, Королевства Польского и Речи Посполитой, Румынии и Австро-Венгрии. В свою очередь, Левобережная Украина (Малороссия) и Южная Украина (Новороссия) окончательно вошли в состав
России в 1654 г., в результате Переяславской Рады. В разные годы на территории Украины существовали государственные образования (примером могут служить Га-лицко-Волынское княжество (XIII–XIV вв.) и, отчасти, Гетманщина (XVII–XVIII вв.)). Первая попытка создания независимого украинского государства – УНР – была предпринята уже в XX в. Ключевой идеей, которая послужила основой для существования УНР, была идея объединения украинцев в рамках одного государства. В связи с этим особое значение приобретает дата 22 января 1919 г., когда был подписан акт объединения («Акт Злуки») двух украинских государственных образований – УНР и ЗУНР (Западно-Украинской народной республики) в единую украинскую державу. Этот день и сегодня для многих украинцев является символом единства страны, а в государственном календаре 22 января отмечено как праздник – День Соборности Украины. Впрочем, существование единого украинского государства было недолгим – уже к 1920 г. большая часть территорий УНР оказалась под контролем Советской России. В 1921 г. РСФСР, УССР, БССР и Польша подписали Рижский договор, согласно которому большая часть территорий Западной Украины вошла в состав Польши [3, с. 99–106]. В свою очередь, УССР сохранила контроль над Центральной, Южной и Восточной Украиной. Помимо этого, в 1918 г. земли Северной Буковины (современная Черновицкая область) и Бессарабии (часть современных Черновицкой и Одесской областей) вошли в состав Румынии, а в 1919 г. Закарпатье стало частью Чехословакии. Таким образом, после кратковременного совместного существования в рамках единого украинского государства, в межвоенный период украинцы снова оказались в положении разделенного народа. Данная статья является попыткой анализа имеющихся фактов, цепочка которых может рас- сматриваться как некий процесс, с нашей точки зрения, нуждающийся в дальнейшем изучении.
Обзор литературы
Среди авторов, подробно рассматривавших в своих трудах интересующую нас тематику, следует отметить российского историка Леонида Млечина, украинского ученого Ярослава Грицака, американского исследователя украинского происхождения Сергея Плохия и канадского историка Пола Роберта Магочи. В то же время, несмотря на определенное количество исследований, посвященных положению украинцев в межвоенный период, представляется, что необходимо продолжать изучение этой проблематики, поскольку и в независимой Украине можно увидеть исторические следы сравнительно недавнего прошлого.
Методы
Использование метода сравнительного анализа позволило более детально рассмотреть особенности самосознания украинцев, оказавшихся в межвоенный период 1917–1939 гг. в положении разделенного народа. Применение этого метода помогло проанализировать основные аспекты национальной политики руководства СССР, Польши, Румынии и Чехословакии в отношении украинского меньшинства. По итогам анализа были выявлены существенные различия в правовом статусе украинцев в указанных государствах.
Результаты исследования
Большая часть украинцев в межвоенный период проживала в СССР. Сегодня в украинской историографии этот период рассматривается, прежде всего, с негативной точки зрения. В то же время в 1920-х гг. руководство СССР проводило политику украинизации. Данная политика предполагала утверждение двуязычия – развития национального языка и культуры одновременно с поддержкой русского языка как языка меж- национального общения1. Украинский язык распространялся в различных сферах, в том числе в образовании, искусстве, средствах массовой информации. Так, в конце 1920х гг. 97 % украинских детей обучались на родном языке, украиноязычные газеты составляли 89 % от всех газет в УССР, а украиноязычные театры составляли три четверти от всех театров в республике [6, с. 126]. Процесс украинизации привел к существенному изменению этнического состава крупнейших городов южной и восточной Украины. Например, по сравнению с 1923 г. в 1933 г. с 38 до 50 % увеличилась доля украинцев в населении Харькова – столицы УССР до 1934 г. Существенно увеличился процент украинцев и в таких городах, как Днепропетровск (с 16 до 48 %), Луганск (с 7 до 31) и Запорожье (с 28 до 56 %) [6, с. 126–127].
Следует отметить, что процесс украинизации, проводимый в УССР в 1920-х гг., не имел аналогов в украинской истории. Так, во времена нахождения украинских земель в составе Российской империи украинский язык последовательно вытеснялся из общественной жизни. В Польше и Австро-Венгрии украинский язык оставался языком меньшинства и не имел возможности претендовать на обретение официального статуса. Политика украинизации, реализуемая СССР, может быть признана эффективной, поскольку, расширяя права украиноязычных жителей УССР, советская власть укрепляла свои позиции в республике, а коммунистические идеи активно распространялись среди широких слоев населения. Таким образом, этническая и языковая идентичность украинцев сохранялась, но при этом была встроена в единое советское самосознание. Впрочем, в 1930-х гг. политика украинизации фактически была свернута.
Украинскую ССР не обошли стороной процессы коллективизации и индустриализации, характерные для всех советских республик. Отношение в Украине к данной политике советского руководства и по сей день неоднозначно. С одной стороны, реализация политики индустриализации привела к быстрому развитию промышленности, с другой – процесс коллективизации оказался губительным для значительной части украинского крестьянства. Массовая коллективизация также привела к ряду крестьянских восстаний, недовольство фиксировалось и среди некоторых украинцев-красноармейцев [4, с. 63].
Народная украинская культура, тесно связанная с православными традициями, не могла сохраниться в условиях доминирования коммунистической идеологии. В то же время следует упомянуть о поддержке со стороны советского руководства в начале 1920-х гг. идеи создания украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Освобождение от российского епископата сравнивалось как с революцией в социальной сфере, так и с национальным освобождением украинского народа [2]. Впрочем, уже во второй половине 1920-х гг. началась организованная кампания против УАПЦ, закончившаяся ее роспуском в 1930 г.
В отличие от религии, украинский язык в начале 1930-х гг. по-прежнему формально поддерживался советским руководством. Однако во многих крупных городах по-прежнему преобладал русский язык. Так, несмотря на все меры по украинизации, доля жителей Харькова, которые назвали родным языком украинский, в период с 1926 по 1939 г. выросла всего лишь с 24 до 32 % [5, с. 328–329]. Историк Сергей Плохий отмечает, что руководство СССР сознательно притормозило процесс украинизации, не дав ей шанса перетянуть крупнейшие промышленные города юго-востока в украинское культурное поле [5, с. 329]. Это способствовало распространению в данном регионе особого типа идентичности, в рамках которой соединились принадлежность к украинской нации, использование в быту русского языка и принятие основополагающих ценностей Советского государства. Украинский язык в данных обстоятельствах оставался лишь одним из инструментов, с помощью которого человек адаптировался в городской индустриальной среде.
Как уже отмечалось выше, западноукраинские земли в межвоенный период были разделены между тремя государствами – Польшей, Румынией и Чехословакией. В каждом из этих государств украинцы составляли меньшинство населения. Так, 5 млн украинцев были крупнейшим меньшинством Польши (около 14–16 % всего населения), в Румынии и Чехословакии проживали 500–600 тыс. украинцев, которые составляли 3–4 % населения этих стран [6, с. 135].
Политика государств относительно украинского населения существенно различалась. Так, в Польше, где украинцы составляли значительную часть населения, проводилась традиционная для этой страны политика ассимиляции. Еще во времена Польского Королевства и Речи Посполитой отличительными чертами политики польского государства по отношению к меньшинствам являлись полонизация и католизация. Это позволило ассимилировать определенную часть восточнославянского и литовского населения, вследствие чего Польша укрепилась в качестве одной из сильнейших держав Центральной Европы. В период с 1919 по 1939 г. руководство Польши стремилось препятствовать какому-либо распространению украинского языка и культуры. Для этого использовались различные методы. В польских городах украинцы составляли абсолютное меньшинство населения, однако именно в крупных городах (в первую очередь, во Львове) в XIX в. наблюдался повышенный интерес к изучению украинского языка и культуры. Поэтому одним из шагов со стороны польского руководства стало закрытие украинской кафедры во Львовском университете. В сфере школьного образования также произошло существенное сужение сферы применения украинского языка: за время нахождения в составе Польши, число украинских школ сократилось с 3 662 до 144 [6, с. 136]. Еще одной задачей в рамках политики ассимиляции для руководства Польши было уменьшение влияния украинцев на территориях их компактного проживания (Галиция и Волынь). Поскольку абсолютное большинство украинцев проживало в сельской местности, польское руководство выделило в этом регионе земли для польских солдат и офицеров. В результате этой акции на территории современной Украины переселились десятки тысяч поляков. Еще одним ярким проявлением стремления польского руководства ассимилировать украинцев было использование этнонимов «русины» и «русинский» вместо «украинцы» и «украинский». Помимо этого с 1920 г. в официальном делопроизводстве вместо обозначения «Западная Украина» стал применяться термин «Малопольска Всходня» (дословный перевод – «Восточная Малопольша») [7].
Необходимо отметить, что несмотря на проведение политики ассимиляции, в Польше существовали различные политические партии, имевшие легальный статус и пытавшиеся отстаивать права украинского населения. Наиболее влиятельной политической силой, можно считать Украинское национально-демократическое объединение (УНДО). Эта партия выступала за расширение прав украинцев в Польше и считала своей стратегической задачей дви- жение в сторону обретения Украиной независимости [11]. УНДО была представлена и в польском сейме в 1930–1935 гг. Также пользовались определенной поддержкой среди украинского населения и левые партии: Украинская социалистическая радикальная партия и Коммунистическая партия Западной Украины. Сохранились и партии, поддерживавшие идеи русофильства.
Существенного влияния на политику, проводимую польским государством, украинские политические партии оказать не могли. Кроме того, были упразднены некоторые украинские научно-просветительские организации (в том числе «Просвита»). В связи с этим на авансцену вышли радикальные националистические группы, большая часть которых объединилась в Организацию украинских националистов (ОУН). Деятельность ОУН привела к проведению Польшей в 1930 г. операции «Пацификация» – фактически являвшейся акцией устрашения по отношению к украинскому населению. Насилие, сопровождавшее данную акцию, не осталось незамеченным и со стороны международных организаций: так, Лига Наций приняла резолюцию, в которой осудила действия польского руководства [8]. Тем не менее противостояние между польским государством и украинским меньшинством в 1930-е гг. только усилилось. Польское руководство по-прежнему проводило репрессивную политику в отношении украинцев; в ответ украинские националисты использовали террористические методы: в частности, были совершены покушения на ряд польских высокопоставленных чиновников.
Следует подчеркнуть, что политика ассимиляции не достигла поставленных целей: украинцы, проживавшие в Польше, сохранили свою идентичность. В отличие от Советского Союза, в межвоенной Польше украинское население не имело возможности воспользоваться социальными лифтами: на различные должности, места в университетах и работу в крупнейших городах, как правило, претендовали поляки. Однако украинскому сельскому населению, не обладавшему высокой социальной мобильностью, удалось сохранить социокультурные характеристики. При этом одним из главных признаков украинской идентичности в Польше была религия. Безусловно, политика ассимиляции коснулась и религиозной сферы: так, православные и греко-католические приходы перешли под контроль римско-католической церкви. Тем не менее значительная часть украинцев продолжала исповедовать греко-католицизм. Важную роль в этом сыграл и предстоятель Украинской греко-католической церкви митрополит Андрей Шептицкий, которого можно считать бесспорным духовным лидером украинцев, проживавших в Галиции.
Поскольку политика Польши в отношении украинцев носила ярко выраженный дискриминационный характер, после раздела Польского государства в 1939 г. многие жители западноукраинских земель положительно отнеслись к перспективе вхождения в состав СССР. Украинцы Галиции и Волыни надеялись, что после воссоединения с соотечественниками в рамках УССР их национально-культурные права будут соблюдаться. Однако репрессивная политика, проводимая советским руководством в 1939–1941 гг. по отношению к населению Западной Украины, привела к распространению в этом регионе не только антипольских, но и антисоветских взглядов.
Руководство Румынии также проводило в отношении украинцев дискриминационную политику, направленную на их ассимиляцию. Поскольку доля украинцев в Румынии была существенно меньше, чем в Польше, румынское руководство практически не сталкивалось с каким-либо противостоянием со стороны украинского населения. Это позволило исключить украинский язык из системы школьного образования (так, Закон 1924 г. о школьной системе трактовал украинцев как «румын, забывших свой язык») [6, с. 136]. Методы ассимиляции, применявшиеся румынским руководством, практически не отличались от опыта Польши: была закрыта украинская кафедра в Черновицком университете, а автономную Буковинскую православную митрополию подчинил себе Румынский патриархат. Более того, в 1918–1928 гг. на территориях Буковины и Бессарабии действовало военное положение, при котором использование украинского языка часто влекло за собой карательные меры в отношении украинцев [1]. В отличие от Польши румынская власть даже не признавала украинцев отдельным народом, пытаясь ликвидировать любые проявления украинского национального самосознания. Впрочем, данная политика также не смогла привести к тотальной ассимиляции украинцев. Более того, некоторые украинцы стали поддерживать определенные политические силы, оппозиционные правящему режиму. В Буковине действовала украинская Национально-демократическая партия, а в середине 1930-х гг. в этом регионе появились и более радикальные силы, в частности ОУН [6, с. 339]. Проукраинские силы впоследствии были вынуждены уйти в подполье, однако большая часть украинского населения Буковины смогла сохранить самосознание. После вхождения в состав СССР в 1940 г. этот регион, большинство жителей которого составляли украинцы, по социокультурным характеристикам практически не отличался от соседних украинских областей. В то же время часть Бессарабии, получившая после присоединения к УССР название Аккер-манская (Измаильская) область, обладала особенностями. На ее территории компактно проживали русские, болгары, румыны, украинцы и другие народы. Возможно, это повлияло на то, что какие-либо национали- стические силы не получали в Бессарабии значительной поддержки. Тогда коммунистическая идеология казалась близкой многим жителям региона. После присоединения к СССР народы Бессарабии смогли сохранить культурную идентичность, однако значительная часть украинцев перешла на русский язык, используя его в качестве языка межнационального общения.
Политика Чехословакии в отношении украинского населения коренным образом отличалась от действий руководителей Польши и Румынии. Более того, уважение культурно-языковых прав украинцев, проявляемое со стороны чехословацкого руководства, существенно отличалось от политики, проводимой ранее в этом регионе Венгрией. Территория Закарпатья, где компактно проживали украинцы, получила статус отдельной административной единицы – Подкарпатской Руси. За годы нахождения в составе Чехословакии на территории Подкарпатской Руси существенно увеличилось количество украиноязычных школ, а украинские университеты получали финансовую поддержку. Также в отличие от соседних держав руководство Чехословакии позволяло представителям местного населения занимать административные должности [6, с. 139]. Поэтому, несмотря на то, что на территории Подкарпатской Руси существовали определенные центробежные тенденции, они не носили характер силового противостояния с центральной властью.
В то же время сами жители Закарпатья долгое время не могли четко обозначить свою идентичность. Еще в конце XIX в. в отношении жителей Закарпатья использовались ряд этнонимов, в том числе «русские», «русины», «угророссы» и «карпатороссы» [10]. Представители закарпатской интеллигенции, рассматривая вопрос своей национальной принадлежности, обращались к нескольким концепциям. Сторонники концепции русофильства восточнославянское население региона частью русского народа и считали важнейшей задачей выдвигали распространение в Закарпатье русского языка и культуры. В свою очередь, украинофилы относили жителей Закарпатья к украинскому народу и активно взаимодействовали с интеллектуалами из соседней Галиции. Наконец, существовало движение «народовцев», которое выступало в поддержку особой русинской идентичности, включавшей в себя отдельный русинский язык. Противостояние элит Закарпатья продолжилось и в межвоенный период. Мягкая политика Чехословакии приводила к тому, что местные жители не стремились к консолидации на основе единой идентичности. Как и в других регионах, о которых речь шла выше, здесь важное значение для самоидентификации имела религия. Православное духовенство чаще всего придерживалось пророссийской ориентации, а греко-католики осознавали свою украинскую идентичность. Следует подчеркнуть, что политика, проводимая руководством Чехословакии, позволила жителям Закарпатья сохранить этническое, языковое и культурное разнообразие. В 1944 г. Закарпатье было присоединено к УССР. Это событие советские власти трактовали как «воссоединение с Советской Украиной» [9]. Постепенно большинство жителей Закарпатья осознало свою принадлежность к украинской нации, однако этот регион по-прежнему обладает особыми социокультурными характеристиками.
Обсуждение
Итак, в межвоенный период после недолгого совместного пребывания в составе УНР украинцы оказались в положении разделенного народа. Крайне интересным представляется вопрос идентичности украинцев, проживавших в 1917–1939 гг. на территориях, которые находились под контролем СССР, Польши, Румынии и Чехословакии. В СССР благодаря проведению политики украинизации в 1920-х гг. сфера применения украинского языка расширилась. В то же время традиционная украинская культура уступала место новым советским установкам и ценностям. В 1930-х гг. религия, занимавшая важное место в жизни украинцев, фактически оказалась под запретом. Менялся и традиционный уклад жизни, что было связано с политикой индустриализации и коллективизации. Значительная часть украинцев успешно адаптировалась в новых условиях, получая образование и работу, в том числе на административных должностях. После свертывания политики украинизации в 1930-х гг., советская идентичность стала окончательно доминировать на территории УССР. Украинское самосознание сохранялось, однако рассматривалось, прежде всего, в качестве культурноязыковой особенности.
Идентичность украинцев, проживавших на территории, подконтрольной Польше, значительно отличалась от самосознания советских украинцев. Несмотря на притеснения со стороны польских властей и даже вопреки им, украинцам удалось сохранить язык и культуру. Сохранился и традиционный уклад жизни, связанный с ведением индивидуального хозяйства. Поскольку социальные лифты для украинцев в Польше фактически оказались закрытыми, значительная часть жителей Галиции и Волыни поддержала украинские политические объединения, в том числе националистические. Дискриминационная политика Польши не привела к ассимиляции украинцев, а напротив, способствовала укреплению их национального самосознания.
Руководство Румынии не только осуществляло дискриминационную политику в отношении украинцев, но даже не рассматривало их в качестве отдельного народа. Столь жесткая политика приводила к тому, что определенная часть жителей Буковины и Бессарабии была вынуждена отказаться от своей идентичности. Некоторые украин- цы меняли фамилии на румынские, а также переходили на румынский язык. Тем не менее значительная часть местных жителей смогла сохранить свою культуру.
Достаточно мягкая политика Чехословакии, проводимая в отношении коренного населения Закарпатья, с одной стороны, способствовала сохранению их языка и культуры. С другой стороны, идентичность местных жителей длительное время оставалась «плавающей». Лишь часть закар-патцев относила себя к украинцам и стремилась к воссоединению с ними в составе единого государства. Однако в межвоенный период в Закарпатье были распространены и другие концепции, сторонники которых рассматривали местных жителей как отдельный этнос (русины) или представляли их в качестве одной из ветвей единого русского народа. Тем не менее украинская идентичность впоследствии возобладала и в Закарпатье, хотя жители этого региона и по сегодняшний день обладают особыми социокультурными характеристиками.
Заключение
Таким образом, несмотря на различия в культуре, образе жизни и языковых предпочтениях украинцев, можно рассматривать в качестве единого народа, разделенного в межвоенный период. Дальнейшее объединение регионов в рамках УССР привело к тому, что жители республики приобретали совместный опыт и впоследствии большинство из них стали ощущать себя частью единой украинской нации. Впрочем, длительный исторический опыт существования украинцев в качестве разделенного народа не мог не привести к значительным региональным различиям, которые наблюдаются и в современной Украине.
Список литературы Украинцы как разделенный народ в 1917-1939 гг
- Виднянский С. Процессы национального самоопределения на Буковине в 1918 г., ее включение в состав румынского королевства и румынизация автохтонного украинского населения края // Русин. - 2012. - № 2 (28). - С. 32.
- Марчуков А. Украинская автокефальная православная церковь: возникновение и особенности внутреннего устройства (1921-1922 годы) [Электронный ресурс] / Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - URL: http://pstgu.ru/download/1172751953.marchukov.pdf.
- Мельтюхов М. И. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918 - 1939 гг. - М.: Вече, 2001. - 464 с.
- Млечин Л. Степан Бандера и судьба Украины. О чем напомнил киевский Майдан. - М.: Центрполиграф, 2014. - 414 с.
- Плохий С. Врата Европы. История Украины / пер. с англ. С. Лунина. - М.: АСТ: Corpus, 2018. - 544 с.
- Грицак Я. Нариси з iсторiї України: формування української модерної нацiї [Электронный ресурс] // Проект «Iсторiя України». - URL: http://history.franko.lviv.ua/PDF Final/Grycak.pdf.
- Дерев'яний I. Польська окупацiя Захiдної України в 1919-1939 роках. Як це було [Электронный ресурс] // Iсторична правда. - URL: http://www.istpravda.com.ua/articles/4d4b20cabaaa8.
- Липовецький С. Операцiя «Пацифiкацiя» [Электронный ресурс] // Український тиждень. - URL: http://tyzhden.ua/Publication/7432.
- Магочiй П. Р. Традицiя автономiї на Карпатськiй Русi (включаючи Закарпаття) // Русин. - 2011. - № 2 (24). - C. 111.
- Стряпко I. Становлення нацiональної iдентичностi населення Закарпаття в кiнцi XIX - початку ХХ ст. // Annales Scientia Politica. - 2014. - Roč. 3, č. 2. - S. 13.
- Magocsi P. R. Galicia and Volhynia in interwar Poland [Электронный ресурс] // Chapter 44 from the book "History of Ukraine". - Toronto, 1996. - URL: http://www.conflicts.rem33.com/images/Ukraine/Ukrainians in Interwar Poland.htm.