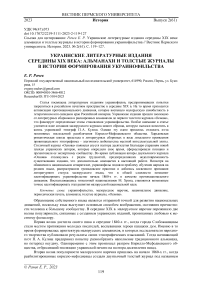Украинские литературные издания середины XIX века: альманахи и толстые журналы в истории формирования украинофильства
Автор: Рачев Е.Р.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Историография истории России
Статья в выпуске: 2 (61), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена литературным изданиям украинофилов, предпринимавших попытки закрепиться в российском печатном пространстве в середине XIX в. На то время приходится активизация протонационального движения, которое воспевало малорусскую самобытность в гетерогенном юго-западном крае Российской империи. Украинские издания прошли эволюцию от литературных сборников и расширенных альманахов до первого толстого журнала «Основа», что фиксирует определенные этапы становления украинофильства. Особое внимание в статье уделяется идее создания малорусского журнала нового образца, которую пытался воплотить в жизнь украинский этнограф П. А. Кулиш. Однако эту идею пришлось отложить из-за негативных последствий разоблачения Кирилло-Мефодиевского общества. Харьковская романтическая школа предстала в литературных сборниках в виде локального проявления провинциального этнографизма - элегичного любопытства местной интеллектуальной элиты. Столичный журнал «Основа» появился спустя полтора десятилетия благодаря стараниям новой плеяды украинских акторов, которые опередили свое время, сформулировали позицию и презентовали ее экспертному сообществу. Во время публикации авторы двуязычного журнала «Основа» столкнулись с рядом трудностей, предопределивших недолговременность существования издания, что дополнительно освещается в настоящей работе. Несмотря на обвинения в национальном сепаратизме, украинофилы подняли проблему обучения народов на родном языке, распространили громадовские практики и добились косвенного признания литературного статуса малорусского языка, что в общей сложности позволяет идентифицировать украинофильство начала 1860-х гг. в качестве протонационального движения. Воспользовавшись типологией национализмов М. Хроха, становится возможным точнее идентифицировать этап развития малорусской национальной идеи.
Украинофильство, малорусское наречие, национальное движение, периодическая печать, альманахи, толстые журналы, "основа"
Короткий адрес: https://sciup.org/147245306
IDR: 147245306 | УДК: 94(47).073 | DOI: 10.17072/2219-3111-2023-2-119-127
Текст научной статьи Украинские литературные издания середины XIX века: альманахи и толстые журналы в истории формирования украинофильства
Образование собственного языка является отправной точкой для развития национальных движений, поскольку язык выступает основным способом воображения, осознания причастности человека к бóльшему сообществу. В середине XIX в. малорусское наречие переживало две волны популярности, связанные с созданием украинских изданий, пронизанных любовью к местному фольклору.
Первая волна достигла своего пика в середине 1840-х гг., когда города Слобожанщины стали местом притяжения молодых писателей, воспевавших героев казацких дум. Именно в то время формировалась архитектура малорусских альманахов, в которых исследователи народного творчества публиковали результаты своих этнографических изысканий. Тогда начинающий поэт П. А. Кулиш предпринял попытку разнообразить наполнение традиционного альманаха, но потерпел неудачу. Одновременно с этим произошел разгром Кирилло-Мефодиевского общества, отбросивший эволюцию украинской печати на полтора десятилетия назад.
Вторая волна популярности малорусского наречия пришлась на начало 1860-х гг., когда реабилитированные кирилло-мефодиевцы создали двуязычный толстый журнал под названием
«Основа». В издании выстраивалась генеалогия украинской литературы, обсуждалось героическое прошлое простого народа, велась полемика с консервативными мыслителями по поводу малорусской самости. Где проходит грань между провинциальной романтикой и национальной литературой? какое влияние оказала «Основа» на украинофильское движение и какие процессы запустила ее активность? – поискам ответов на эти вопросы посвящена настоящая статья.
В 50-60-е гг. XIX в. Россия переживала настоящий печатный бум, выражавшийся в создании десятков периодических изданий, формировавших досуг тысяч читателей в разных уголках империи. Оставаясь аграрной державой, насыщенной традиционными общественными институтами, Российская империя характеризовалась низким уровнем грамотности населения. Однако за несколько десятилетий сеть разнородных губернских центров книгопечатания, слабо связанных между собой, превратилась в профессиональное публицистическое сообщество с жестким идеологическим делением и строгими правилами игры.
Столь кардинальные изменения в отечественном печатном пространстве стали возможны благодаря нескольким взаимообусловливающим причинам. Во-первых, для увеличения выпуска периодических изданий сложились необходимые материальные условия, а именно: рынок наполнился новой бумагой благодаря применению первых машин на соответствующих фабриках. Во-вторых, на смену прямому государственному стимулированию отрасли в виде финансирования казенных типографий пришла косвенная поддержка в форме постепенного смягчения цензуры. Прежде всего на себя обращают внимание «Временные правила о цензуре и печати», обнародованные в 1865 г. В серии преобразований, предпринятых во время правления Александра II, данный указ занимает далеко не первое место, но все же фиксирует важные перемены в обществе. Если в 1861 г. в стране работали 164 типографии, то к 1865 г. их число увеличилось до 500 [ Летенков , 1988, с. 21]. Правительство не могло оставить растущую сферу без своевременного регулирования и отменило предварительный надзор для большого круга изданий, ограничиваясь карательной цензурой, что позволило газетам с небольшим объемом листов обойти барьеры и получить доступ к печати.
Одновременно с этим в индустрии развивались специализированные журналы, у истоков которых находились отдельные увлеченные мыслители. В результате этого общества садоводов, юристов, географов и изобретателей сконцентрировались на определенной тематике и представили свои изыскания на суд публики. Схожие процессы сопровождали становление различных течений российской общественной мысли и выпуск толстых журналов с научными, политическими и творческими разделами. Такая широкая гамма размышлений привлекала образованную аудиторию.
Именно с изменением досуга читателей связана третья причина преображения информационного климата. Вместе с тем природа появления журналов в России обусловлена деятельностью кружков и литературных салонов. Современные исследователи приходят к выводу, что подобное «регулярное чтение определенного журнала означало обычно для читателя нахождение социальной или культурной группы, с которой он себя отождествлял» [ Рейтблат , 2009, с. 40]. Украинские издания, о которых пойдет речь в данной статье, расходились небольшим тиражом и образовывали сплоченное горизонтальное товарищество единомышленников, помогавших друг другу, поэтому идентификационные процессы у них проявились отчетливее, чем у большой и пестрой аудитории оппонентов.
Генезис украинской идеи в XIX в. включил в себя воззрения нескольких поколений акторов, испытывавших влияние общественных учений разного толка. Однако по-настоящему заявить о себе и стать заметным явлением не только провинциального, но и столичного масштаба удалось только украинофилам в середине девятнадцатого столетия. «Украинофильство есть привязанность весьма малого числа малороссиян к своей народности, происшедшая от того, что эта народность гаснет, народ меняет свой язык на русский, а известно, когда исчезает народность, всегда является в пользу ее агоническое движение», – сокрушался Н. И. Костомаров на допросе по делу о Кирилло-Мефодиевском обществе (Нові зизнання…, 1990, с. 298). Один из представителей новой плеяды южнорусских мыслителей, основоположник демократического направления в российской историографии, Костомаров вынужден был оправдываться за крамольные сочинения, задуманные и исполненные им на заседаниях киевской политической организации в 1847 г. С этого момента деятельность украинофилов попала под пристальный надзор органов политического сыска и оказалась запрещена.
Тремя годами ранее дискурс украинизации мог принять совершенно иной оборот, потому как существовала возможность и даже предпринималась попытка формирования малорусского издания нового поколения. На кого оно было рассчитано? что планировалось публиковать и почему так и не состоялось? – вопросы не праздные, а требующие подробного изучения, поскольку в фокусе внимания находится первоначальная стадия зарождения национального движения.
Главным инициатором и «промоутером» претенциозной затеи выступил молодой украинский этнограф П. А. Кулиш. По его задумке, «Киевский сборник» предполагалось выпускать в Киеве и Харькове не реже, чем четыре раза в год. Такая область распространения сборника была выбрана не случайно, поскольку совмещала в себе ключевые составляющие для успешного старта нового издания: прочные экономические основания с одной стороны и сильную экспертную команду с другой. Для воплощения в жизнь первого элемента выбранной концепции Кулиш искал спонсоров среди местной национальной элиты, чтобы обеспечить стабильный тираж южнорусских произведений. Наиболее близок к осуществлению своей мечты он был в феврале 1845 г., когда нашел загадочного мецената, чем активно мотивировал других писателей. «Этот редкий и может быть единственный между нашими богачами (которые ведь полные эгоисты) человек теперь желает, чтобы издание печаталось в Киеве, потому что он и сам намерен здесь жить почти постоянно. Итак, покорнейше прошу Вас, Милостивый Государь, сообщить мне что-нибудь из Ваших трудов. Только за этим и стало дело», – с призывами обращался он к Костомарову (РГАЛИ. Ф. 436. Оп. 1. Д. 1256. Л. 5 об.–6).
Для воплощения в жизнь второго элемента концепции издания Кулиш на протяжении длительного периода убеждал друзей и коллег в необходимости участия профессуры Императорского Харьковского университета в подготовке сборника. В частности, осенью 1845 г. в переписке Костомаров упоминал: «Он [Кулиш] предлагает мне написать Вам, Измаил Иванович и Амвросию Лукьяновичу, не захотите ли Вы взять редакцию на себя, а он только был бы участником…» (РГАЛИ. Ф. 436. Оп. 1. Д. 1246. Л. 36 об.). В данном случае историк обращался к известным специалистам в области российской словесности – Измаилу Ивановичу Срезневскому и Амвросию Лукьяновичу Метлинскому, которые имели опыт выпуска альманахов в столице Слобожанщины. Более того, Кулиш готов был пойти на размещение редакционной коллегии в Харькове: настолько сильно он желал заручиться поддержкой ведущих исследователей украинского фольклора.
Громкое имя редакторов способствовало бы привлечению лучших южнорусских мыслителей гораздо эффективнее, чем многочисленные письма и просьбы Кулиша. Но важнее казалось другое - возможность начинающих писателей поработать с мэтрами литературы для написания собственных сочинений на малорусском наречии. А запрос на это становится очевидным, если проследить динамику наполнения альманахов того времени. Пионеры этого направления – «Украинский альманах» (1831 г.) и «Запорожская старина» (1833 г.) – содержали в себе казацкие думы, песни, баллады и прочие культурные артефакты народа Малороссии. Они подкреплялись научными комментариями и объяснениями контекста в исполнении Срезневского. Поворотным явлением, которое окончательно оформило харьковскую литературную школу, стал переход от пародийного творчества к романтическому. На практике это означало отказ от слепого подражания российским авторам в пользу создания произведений, вдохновленных местным фольклором. Так, появляются «Гайдамаки» Л. И. Боровиковского, «Солдатский портрет» Г. Ф. Квитки-Основьяненко, «Переяславская ночь» Костомарова и другие лирические работы, рассчитанные на очень специфическую публику, преимущественно состоящую из молодых интеллектуалов-романтиков. В центре сюжета, как правило, находились архетипические персонажи – прообразы героев народных преданий, наделенные уникальными чертами характера, близкими к национальным.
Не оставляя попыток продвижения малорусского слова, Кулиш расширял круг общения и приглашал совершенно разноплановых писателей для участия в своем проекте, преследующем одну цель – придать импульс развития украинскому литературному языку. Он напрямую признался в этом О. М. Бодянскому в мае 1846 г.: «Я хочу издать Украинский альманах (придумайте заглавие). Шевченко прислал удивительные четыре стихотворения. Он делает чудеса с языком украинским. Надеюсь, что и Вы не откажетесь украсить издание Вашим именем. Нет ли у Вас какого-нибудь небольшого стихотворения или рассказа, или чего-нибудь ученого на украинском языке. Задача в том, чтобы украинский язык поднять на степень литературного» [Тес-ля, 2017, с. 121].
Сложно сказать, к чему привели бы устремления Кулиша, если бы не разгром Кирилло-Мефодиевского общества в марте 1847 г., послуживший поводом для последующей ссылки ведущих украинофильских акторов. В текущей ситуации о «Киевском сборнике» уже не могло идти и речи. Затянувшаяся процедура запуска альманаха показала не столько ограниченность организаторских способностей отдельного мыслителя, сколько маргинальность подобной идеи для того времени, и вот почему. Во-первых, разобщенность и малочисленность украинофильского сообщества не позволяли претендовать на лидерство в украинском литературном возрождении. Во-вторых, сочинения на малорусском наречии являлись большой редкостью и не могли в нужном количестве заполнить страницы издания Кулиша, который планировал выпускать по четыре номера в год. В-третьих, интерес к фольклору Малороссии проявлялся исключительно в творческой среде и не встречал отклика у местной элиты, поэтому рассчитывать на их поддержку украинофилам не приходилось. Например, Костомаров с сожалением вспоминал: «Я повсюду слышал грубые выходки и насмешки над хохлами не только от великоруссов, но даже и от малорусов высшего класса, считавших дозволительным глумиться над мужиком и его способом выражения» ( Костомаров , 1922, с. 153).
Участников Кирилло-Мефодиевского общества выслали подальше от заветного края с запретом публикации своих трудов. Для писателей, которых обвиняли в национальном партикуляризме, это стало мягким наказанием по меркам «мрачного семилетия». Однако удаление главных украинофильских спикеров не могло не сказаться на продуктивности южнорусской печати, привлекавшей пристальное внимание органов цензуры. Таким образом, идея создания собственного национального журнала, как и прочие проявления украинской самости, оказалась отложена на неопределенный срок.
Временем Ренессанса, определенно, могла стать вторая половина 1850-х гг., когда произошло возвращение опальных идеологов украинства к активной публичной деятельности. Поражение России в Крымской войне придало импульс общественным дискуссиям о поиске истинного пути русского народа и назревших преобразованиях в стране. Привычные размышления в прессе об истоках народности, принадлежавшие славянофилам, раздавались все чаще со страниц «Русской беседы» и «Молвы». Помимо этого, учитывая цензурные ограничения, ключевые ораторы славянофильства выступали в иностранных изданиях с призывами о необходимости «понять, что если русское самодержавие в общественном сознании не должно смешиваться с деспотизмом, отжившим свой век на Западе, то, с своей стороны, и правительство не должно увлекаться обманчивым сходством и заподозривать русское народное начало в революционном демократизме, – а потому не мешать сближению высших слоев общества с народом, в каких бы, по-видимому, странных формах это сближение не начиналось…» ( Самарин , 2008).
Это анонимное высказывание Ю. Ф. Самарина является своеобразным «портретом эпохи», который очень точно передает реформационные настроения части правых мыслителей, разочарованных итогами военной кампании. «Сближение с народом» виделось автором не только в отмене крепостного права, но и в усилении культурной интеграции политической элиты. В центре внимания славянофильских писателей оказался национальный дух, что во многом роднило их с украинофилами. Поэтому поддержка последних соседями по идеологическому лагерю не заставила себя ждать. В печатном пространстве эта помощь нашла выражение в двух ипостасях: с одной стороны, дружеская академическая полемика М. П. Погодина и М. А. Максимовича по вопросу наследия Киевской Руси напомнила читателям о малорусских интерпретациях совместного исторического прошлого, с другой стороны, «Русская беседа» освещала литературные успехи коллег, размещая отрывки «Кобзаря», «Черной рады» и «Богдана Хмельницкого», а также рецензии на них.
Одними из таких штудий, которые тепло встретило российское научное сообщество, являлись «Записки о Южной Руси» Кулиша. Данное обстоятельство совпадает по времени со снятием запрета на публикацию работ остальных кирилло-мефодиевцев, что дало определенную надежду автору и привело к возобновлению попыток создания украинского журнала. С такой просьбой в 1857 г. Кулиш обратился в Министерство народного просвещения, однако получил закономерный отказ, продиктованный позицией III Отделения. Ведомство жандармов не согласовало инициативу южнорусского писателя, потому «что он в литературной своей деятельности следует прежнему направлению, бывшему причиной особых мер, принятых против него правительством…» [Миллер, 2000, с. 76]. Строгие меры III Отделения были предприняты из-за негативной репутации мыслителя, а не вследствие недоверия к романтическому литературному течению, поскольку через год подобное разрешение получил В. М. Белозерский. В результате в январе 1861 г. появился на свет пилотный номер журнала «Основа».
«Основа» стала первым украинским толстым журналом, учрежденным в столице Российской империи, где сконцентрировались все знаменитые украинофилы. Так, в редакционную коллегию журнала вошли Белозерский, Костомаров, Кулиш, А. Ф. Кистяковский, известные научными трудами, написанными на малорусском наречии. Однако не только хозяйственными нуждами обусловлено месторасположение редакции. Другим важным аспектом становления нового печатного органа выступила его ориентированность. Речь идет не о рядовом петербургском обывателе, случайно наткнувшемся на малорусские сочинения. Скорее, владельцы издания рассчитывали заручиться поддержкой правых сил и обратить внимание высших чинов на актуальные потребности национальной окраины империи. В журнале этому уделялось особое место в специальном разделе под названием «Вопрос жизни». «Основа будет внимательно следить за действиями общества и распоряжениями правительства на пути народного образования и сообщать обо всех явлениях жизни, полезных или вредных просвещению, на всем пространстве южнорусского края», – утверждали в превью авторы (От редакции, 1861, с. 5). В действительности же активность малорусских писателей запустила сложные процессы в российской общественной мысли с отложенными последствиями.
Для начала ревнители украинской старины получили реакцию консервативной прессы на свое творчество. В отличие от «Современника» или «Отечественных записок», анонсировавших выход нового журнала, поборники триединства русской нации не испытывали никаких иллюзий по поводу народнических увлечений украинофилов, что выражалось в снисходительном отношении к их деятельности как к разновидности этнографического чудачества.
Такое положение дел не устраивало Костомарова, отвечавшего за научный раздел «Основы», поэтому в октябре 1861 г. в рамках полемики с польскими и московскими публицистами он разместил две программные статьи: «Правда полякам о Руси» и «Правда москвичам о Руси». Причем в последней он указал на наметившиеся тенденции русификации: «Отделение привычек от истинных элементов – это московская лазейка; мы будем говорить: это наши истинные элементы народности; они нам дороги, священны, а вы скажете: неправда, это привычки, вы должны с ним расстаться, а вот ваши элементы, – и будете указывать на то, чего в самом деле не было в истории и теперь нет в духовной и общественной жизни или же на то, что хотя и существует, но от чего мы отвращаемся, как от временных привычек» ( Костомаров , 1861, с. 15).
Важной отличительной особенностью вышеуказанных статей стала обличительная тональность исследователя, который находился в поиске бинарных позиций для усиления аргументации уникальности малорусской народности. Подобные сравнения являются базисными при первоначальных попытках конструирования национальной самости, построенной на противопоставлении с соседними народами. Пожалуй, выход в свет этих работ можно считать реперной точкой, когда воззрения украинофилов и славянофилов окончательно разошлись. В практической плоскости южнорусским мыслителям также пришлось столкнуться с трудностями иного характера.
Размещение художественных произведений редакторами «Основы» преследовало давнюю цель демонстрации потенциала малорусского наречия. В сочинениях Т. Г. Шевченко, М. Вовчак, Н. В. Гоголя, Я. И. Костенецкого представлен прообраз будущего национального литературного языка, чему посвящена серия размышлений Кулиша, вобравшая в себя творения нескольких поколений украинских писателей. Таким образом, выстраивалась генеалогия, обобщался предыдущий опыт и анализировалось современное состояние малорусской словесности. Точнее всего финальную черту подвел П. Г. Житецкий, отметивший, «что она [малорусская литература] создается не на песке, а на твердой почве и в своем настоящем имеет прочные залоги будущего развития; что она достаточно определилась для того, чтобы не затереться в журнальном хламе, под влиянием цивилизаторских внушений русских патриотов» (Житецкий, 1861, с. 21). Если отбросить очередные обвинения великороссов в тягостной ассимиляции народов юго-западного края, то можно обнаружить постоянные обращения авторов к научному сообществу с целью признания литературного статуса украинского языка. Это являлось промежуточным звеном для претворения в жизнь главного чаяния романтиков – введения начального образования на заветном наречии.
В начале 1860-х гг., к моменту актуализации наболевшего вопроса, украинофильство уже имело свое представительство в Петербурге, Киеве, Полтаве, Харькове, Чернигове, Одессе и Екатеринославле. Как правило, оно выражалось в формировании громад – модификации частных воскресных школ, при посещении которых подрастающее поколение знакомилось с героями местного фольклора, облачалось в национальные наряды и изучало грамоту на родном языке. География подписчиков «Основы» закономерно совпадала с центрами развития громадов-ского движения, нуждавшегося в обучающих материалах. Поэтому не менее важную группу потребителей этнографического журнала составляли провинциальные интеллектуалы и учителя, рассказывавшие малорусскому населению о национальных корнях. Для выстраивания коммуникации между читателями и авторами в журнале был предусмотрен отдел «Областных известий», публиковавший поступившие письма.
Но главная обратная связь пришлась не на «Областные известия», а на третий номер 1861 г. «Журнала Министерства народного просвещения», поместившего прошение жителя Чигиринского уезда Киевской губернии Г. К. Костарева следующего содержания: «Малороссия и Киевская губерния ждут азбучек и других учебников на местном языке; по-моему, эти пособия быстро бы двинули нашу грамотность, потому что легче развивать понятия и учить всякого на местном наречии; подучившись, легко будет освоиться и с великорусским языком, что непременно и последовало бы. В этом случае здесь крепкую надежду возлагают на известных писателей и знатоков малороссийского языка, гг. Костомарова и Кулиша, что они непременно позаботятся о нас» (Распространение грамотности…, 1861, с. 89). Приведенная выдержка может свидетельствовать о двух вещах: с одной стороны, запрос на украинское обучение действительно существовал, с другой стороны, правительство не ретушировало такие пожелания, а, напротив, поощряло частные образовательные инициативы и открыто обсуждало их в прессе до тех пор, пока на юго-западных окраинах Российской империи национальный феномен не охватил новые народности.
«Основа» существовала на спонсорские средства М. Катенина – дальнего родственника главного редактора. И как только выделенные деньги закончились, создатели издания столкнулись с дилеммой: полностью прекратить работу или изменить формат ежемесячника. Учитывая, что напечатанные тиражи номеров «Основы» не удавалось реализовать в полном объеме, писатели приняли второе решение. Однако обновленное двухнедельное издание не удалось согласовать с Министерством внутренних дел. Белозерский впоследствии связывал свою неудачу с личной неприязнью, возникшей между ним и министром П. А. Валуевым (К истории…, 1899, с. 73). Как бы то ни было, деятельность «Основы» растянулась на полтора года, за который был опубликован 21 номер, а владельцы понесли большие убытки. Вместе с тем вклад столичного печатного органа в идейное становление украинофильства невозможно переоценить, несмотря на кажущиеся неблагоприятные факторы, сопутствовавшие журналу на протяжении всего времени его существования.
Первым таким фактором оказалась локальность издания. Прежде всего данная характеристика проистекает из кратковременности существования журнала и его малого тиража. Особенно разительно выглядят сравнения с «Московскими ведомостями» и «Русским вестником» М. Н. Каткова, которым сопутствовал небывалый коммерческих успех. Творческая артель украинофилов не выдержала конкуренции и проиграла борьбу за читателя, зато смогла преодолеть провинциальность украинской идеи и объединить усилия разноплановых противоречивых акторов. Тем самым авторы «Основы» вышли за рамки локального этнографизма, присущего исследователям Харьковского университета в 1830-е гг.: И. И. Срезневскому, А. Л. Метлин-скому, П. П. Гулаку-Артемовскому и др.
Вторым фактором выступила элитарность журнала. Предприятие украинофилов аккумулировало старания лучших поэтов, знатоков малороссийской словесности, признанных исто- риков и находчивых публицистов, рефлексировавших над проблемой сохранения украинской культуры. Специфика толстого журнала, высокий академический и литературный статус спикеров, а также узкая направленность содержания – факторы, способствовавшие восприятию «Основы» в качестве некой привилегированной площадки, что отчасти соответствует действительности. Но, если сопоставить ее с исторически предшествующими альманахами, то выясняются значительные отличия в мотивации участников: в литературных сборниках 1840-х гг. составители презентовали свои труды, а «Основе» удалось раскрыть новых акторов, передать творческую эстафету следующей плеяде мыслителей и новым ответвлениям украинофильства. Например, в дискуссиях, развернутых на страницах журнала «Основа», активно участвовали В. Б. Антонович, П. П. Чубинский и Житецкий, возглавившие течение под названием «хлопоманство»1.
Третьим фактором стала оппозиционность украинофильского издания . «Основа» была первым в своем роде не только по хронологическому принципу, но и по тому, что стремилось стать зеркалом народной жизни Южного края. Демократичные писатели вынесли на обсуждение неприглядные темы социального, экономического и культурного положения простых жителей Малороссии. За полтора десятилетия украинские публицисты вышли за рамки романтических представлений о народности и предложили конкретные практики для укрепления национальной самости. Удаление друг от друга двух русских народностей вызвало негодование и опасение у консервативных мыслителей. Поэтому, когда юго-западные окраины Российской империи пронзило Январское восстание 1863 г., организованное польской национальной партией, Катков и коллеги из охранительного лагеря объясняли проявления лояльности украинского населения к мятежникам губительным влиянием украинофилов ( Катков , 1897, 21 июня; Катков , 1897, 3 сентября; Катков , 1897, 19 ноября).
Национальные движения в Российской империи формировались неравномерно, слабо взаимодействуя между собой. В середине XIX в. процессы украинского национального «воображения» только начинались в формате пробуждения интереса интеллектуальной элиты к собственному народу. Согласно типологии «национализмов» М. Хроха, первичное осознание причастности к бóльшему сообществу и артикулирование национальных идей украинофилами можно определить в качестве фазы А развития национализма. Так, чешский историк отмечал, что «исследователи-эрудиты фазы А «открывали» этническую группу и закладывали основу для последующего формирования «национальной идентичности» [ Хрох , 2002, с. 129]. Тем не менее их интеллектуальную деятельность нельзя назвать организованным политическим или социальным движением. Большинство патриотов вообще не выдвигало никаких «национальных» требований» [Там же]. Таким образом, малорусские альманахи и литературные сборники 1840-х гг. являлись пилотной попыткой популяризации местного фольклора, закладыванием литературного фундамента, детальным прописыванием национальных характеров. Немного позднее, в 1848 г., произошли революции в Европе, когда национальные движения обрели свой язык. И только спустя пятнадцать лет общая тенденция на возложение ответственности за положение простых людей на привилегированные сословия, которая привела к отмене крепостного права, позволила украинофилам откреститься от принципов федерализма и представить свою программу в столичной печати.
Журнал «Основа» имел очень сложную проблематику, но не смог привлечь внимание не только прогрессивного бомонда, весьма капризной публики, но и украинской национальной элиты, русифицированной и сильно привязанной к центру. Украинофилы опередили свое время, сформулировали позицию и представили ее экспертному сообществу на профессиональном уровне. Однако они не были услышаны из-за вычурной формы изложения, а также из-за того, что потенциальные читатели не разделяли поставленных проблем, зато ощущали потенциальную крамолу национального сепаратизма.
Единственным утешением для украинских писателей стало косвенное признание литературного статуса малорусского языка в печально известном циркуляре от 18 июля 1863 г., в котором давалось «распоряжение, чтобы к печати дозволялись только такие произведения на этом языке, которые принадлежат к области изящной литературы; пропуском же книг на малороссийском языке как духовного содержания, так учебных и вообще назначаемых для первоначального чтения народа, приостановиться» (Циркуляр…, 1904, с. 304).
Список литературы Украинские литературные издания середины XIX века: альманахи и толстые журналы в истории формирования украинофильства
- Летенков Э.В. "Литературная промышленность" России конца XIX - начала XX века. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1988. 176 с. EDN: VSGXND
- Миллер A.И. Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX века). СПб.: Алетейя, 2000. 260 с.
- Рейтблат А.И. От Бовы к Бальмонту и другое работы по исторической социологии русской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2009. 448 с. EDN: QUGPIJ
- Тесля А.А. Молодой Кулиш // Вопросы национализма. 2017. № 1 (29). С. 108-147. EDN: VMIXDX
- Хрох М. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации: процесс строительства наций в Европе // Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох [и др.]. М.: Праксис, 2002. С. 121-145.