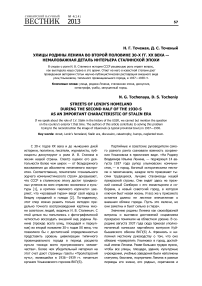Улицы родины Ленина во второй половине 30-х гг. XX века - немаловажная деталь интерьера сталинской эпохи
Автор: Точеная Н.Г., Точеный Д.С.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 4 (14), 2013 года.
Бесплатный доступ
В спорах о роли И. В. Сталина в истории СССР решающую роль играет вопрос, как выглядела наша страна в это время. Ответ на него в известной степени дает проведенная авторами статьи научно-публицистическая реставрация внешнего вида улиц Ульяновска, типичного провинциального города, в 1937-1938 гг.
Улица, родина ленина, сталинская эпоха, дискуссия, катастрофа, ухабы, запущенный город
Короткий адрес: https://sciup.org/14113855
IDR: 14113855
Текст научной статьи Улицы родины Ленина во второй половине 30-х гг. XX века - немаловажная деталь интерьера сталинской эпохи
С 30-х годов XX века и до нынешних дней историки, политики, писатели, журналисты, публицисты дискутируют о роли И. В. Сталина в жизни нашей страны. Спектр оценок его деятельности более чем широк — от безудержного восхваления до абсолютно негативного восприятия. Соответственно, почитатели «гениального зодчего коммунистического строя» доказывают, что СССР в сталинскую эпоху достиг грандиозных успехов во всех отраслях экономики и культуры [1], а критики «великого кормчего» уверяют, что «кровавый тиран» вверг свой народ в бездну страданий и голода [2]. По-видимому, этот спор можно решить только методом предельно точного воспроизведения картины жизни советских людей, ведомых И. В. Сталиным. С этой целью мы попытались с фотографической четкостью воссоздать внешний вид родины Ленина (прежде всего улиц, площадей и переулков) во второй половине 30-х годов XX века, что позволило бы с достаточной определенностью представить уровень цивилизации типичного провинциального города в период расцвета культа «вождя всего прогрессивного человечества». Более чем убедительный материал на этот счет дают страницы газеты «Пролетарский путь», являвшейся в 1936—1939 гг. печатным органом Ульяновского горкома ВКП(б).
Партийные и советские руководители самого разного ранга сознавали важность сохранения Ульяновска в приличном виде. «На Родину Владимира Ильича Ленина, — подчеркнул 14 августа 1937 года рупор ульяновских коммунистов, — в город, богатый историческими местами и памятниками, каждое лето приезжают тысячи трудящихся, лучшие стахановцы нашей прекрасной страны. Они видят здесь не прежний сонный Симбирск с его монастырями и соборами, а новый советский город, в котором ключом бьет новая жизнь. И все же у приезжего остается далеко не лестное впечатление о внешнем облике города. Пусть это мелочи, но они заметны и бьют сильно в глаза».
Значение родины Ленина как своеобразной витрины и выставки достижений социализма прекрасно понимали на областном уровне. В середине августа 1937 года сюда приехал уполномоченный комиссии партийного контроля Куйбышевского обкома ВКП(б) А. Френкель и напомнил местному руководству о том, что оно обязано «превратить Ульяновск в город, достойный имени Ленина. Разве больших трудов нужно, чтобы все улицы, площади, здания, культурные учреждения, учебные заведения были наполнены статуями, бюстами, портретами Ленина в разные периоды его жизни, его родных, соратников и вождей нашей партии?». В конце выступления у А. Френкеля прозвучали суровые ноты: «Пора, давно уже пора Ульяновскому горкому и горсовету сделать ныне запущенный и отсталый Ульяновск передовым городом, достойным великого имени гения Ленина» [3].
В конце 1938 года Н. К. Крупская, вдова создателя Советского государства, которую беспокоила запущенность города, где провел свои детские годы и юность ее муж, потребовала от ульяновской молодежи сделать все, чтобы трансформировать Ульяновск «в настоящий культурный центр, влияющий на всю округу» [4].
Нельзя сказать, что отцы города были глухи к проблемам его благоустройства. Президиум городского совета и руководители коммунальных служб систематически обсуждали проблемы ремонта дорог, озеленения улиц, уборки мусора. В середине 1937 года появилось даже специальное управление по очистке города. Возглавила его властная, деловая и решительная по характеру Е. М. Самсонова. Учитывая всероссийскую и даже международную значимость внешнего вида Ульяновска, ее для ознакомления с передовым опытом организации коммунистического хозяйства направили в столицу. Е. М. Самсонову приняли в Совнаркоме, проконсультировали ведущие ученые и специалисты по проблемам развития городской культуры и экономики. А самое важное — правительство выделило машины и технику для приведения Ульяновска в надлежащий вид [5]. Но сделать это было более чем непросто. Проезжая часть и тротуары абсолютного большинства улиц Родины Ленина наводили тоску и уныние. Особенно раздражали спуски к Волге, которые вели к железнодорожной станции Ульяновск-2 и пристани. По ним и ехали на подводах или санях тысячи обитателей Подгорья, водники, рабочие, колхозники.
«Спуски к Волге, — отметил 5 февраля 1936 года корреспондент «Пролетарского пути» В. Егоров, — находятся в крайне плохом положении. Итти по ним сплошное мучение. Особенно в неудовлетворительном состоянии находится Пролетарский спуск (бывший Завья-ловский). В то же время он является самым оживленным, что объясняется его удобным месторасположением.
Если на Никольском спуске сохранились жалкие остатки сооруженных здесь некогда лестниц, то на Пролетарском нет даже этого. Кочкообразные тропинки, идущие по краю все более разрастающегося оврага, заставляют пешеходов заниматься эквилибристикой, цепляясь за изгороди, за остатки съеденных козами акаций, а иногда и просто за кочки.
Это в сухую погоду. А летом после дождя всякий идущий Пролетарским спуском оказывается в безвыходном положении. Долго ли свалиться в овраг?
Предстоящей весной на всех наиболее крутых участках спуска необходимо построить лестницы, сделать водостоки, засыпать промоины».
Весной 1937 года ситуация на Пролетарском и Никольском спусках стала близка к катастрофической. Корреспондент печатного органа ульяновских коммунистов А. Знамов, повествуя об их состоянии, патетически вопрошал: «Когда присмотришься, в каких условиях живут люди на берегу Волги, невольно возникает вопрос, считают ли своим долгом городские организации интересоваться жизнью Подгорья? Чтобы попасть отсюда в центр, приходится больше ползти, чем итти, так как на Пролетарском спуске нет лестницы, а на Никольском она совершенно развалилась, и люди на них ломают ноги» [6].
Летом 1937 года горкомхоз провел, как сообщил «Пролетарский путь», «работы по восстановлению лестниц на спусках» [6]. Однако через несколько месяцев следов от ремонта почти не осталось. Поскольку лестницы никто не охранял, то их вскоре растащили на дрова. И опять начались тяжкие страдания тех, кто вынужден был ежедневно брести на работу, преодолевая трудности путешествий по бездорожью. Осенью 1938 года из-за многочисленных ям и рытвин Пролетарский и Никольский спуски стали практически непроходимыми [7].
Перед жителями Подгорья и пассажирами, прибывавшими по железнодорожному мосту из Заволжья, встал вопрос, где же им подняться к центру города. В поисках наименьшего зла они вспомнили о так называемом спуске им. Володарского (ранее он назывался Рабочим). Вот как описал его «Пролетарский путь» в номере от 24 сентября 1938 года: «Этот путь является единственной дорогой в город, но он совершенно не оборудован. На верху спуска водоканал поставил колонку, но так, что сток направлен прямо по дороге, которая ежедневно размывается бегущими потоками. Все лето путь представлял из себя болото с ямами, заполненными водой и грязью. Ежедневно здесь ломаются телеги, валятся с ног лошади. По тротуару спуска ходить опасно. Во многих местах доски подгнили, перила поломаны. Наступила осень, скоро пойдут дожди. О ремонте спуска, видимо, не думают».
В горсовет непрерывно поступали письма от ульяновцев с просьбами отремонтировать хотя бы один из спусков или, на худой конец, засыпать опасные рытвины и канавы щебнем [8]. Однако руководители города разводили руками: у них на это нет средств. И они не лгали. Не только спуски к Волге были в ужасном состоянии, мостовые и тротуары в центре родины Ленина выглядели тоже далеко не лучшим образом. Об этом свидетельствовали многочисленные заметки нештатных корреспондентов, помещенные в «Пролетарском пути». «Вот улица Лассаля в центре города, — делился впечатлениями курсант Краснознаменного училища Плешаков, — по ней большое движение. Но здесь нет хороших тротуаров. Стоит пройти по ним, и обувь испортится о валяющиеся камни и доски. К тому же вся мостовая изрыта» [9]. Рабкор Попов побывал на улице Бебеля: «Здесь, на расстоянии двух кварталов вообще нет даже нормальной грунтовой дороги. В дождливые дни непроходимая грязь, образовались овраги. Движение автомобилей и гужевого транспорта сопряжено с большими трудностями» [10]. Студента Носова поразила улица Федерации: «По ней трудно не только пройти, но и проехать. От дождей образовалось болото. Шоферы и извозчики проложили дорогу по тротуару» [10].
С удалением от центра городские кварталы представляли собой еще более мрачную панораму. Около станции Ульяновск-1, написал роб-кор Соболев, почти на каждой улице встретишь глубокие ямы, «из которых жители добывают глину» [9]. Слесарь И. Трифонов дважды жаловался в редакцию «Пролетарского пути». Первый раз — 15 июня 1937 года — он посетовал на то, что его родная улица Шевченко забыта горкомхозом: «По ней, начиная с дома № 47, к Свияге не только на лошадях не проехать, даже пешком трудно ходить. Тротуары здесь развалились. По середине улицы — овраг (образовался осенью). Его не ремонтировали очень давно». Через год — 9 июля 1938 года — И. Трифонов вновь обратился в редакцию «Пролетарского пути»: «Одной из самых неблагоустроенных улиц города является улица Шевченко, сильно размытая ливнями в 1922 году. В течение последних 16 лет эта улица не ремонтировалась и оставалась непроезжей».
Свою специфику заброшенности и запущенности имели кварталы Заволжского района г. Ульяновска. О трудностях проживания в них повествовалось в заметке А. Мара «Ни проехать, ни пройти», помещенной в номере «Пролетарского пути» за 1 апреля 1938 года. Ее со- держание некоторые читатели даже приняли за весенний юмористический розыгрыш. Но, увы, она была более чем правдива: «Заволжская начальная школа № 10 с двух сторон отрезана болотами. Отчего школьники не раз приходили с мокрыми ногами, и были случаи заболевания гриппом. Не только около школы вы можете встретить болота: они есть и у клуба «1 Мая», и на Ленинградском проспекте, и по дороге из с. Часовня и с. Канава на завод им. Володарского. Да и где только нельзя увидеть грязь и болота на территории Заволжского райсовета! Председатель Заволжского райсовета тов. Тихонов превосходно знает об этом наводнении, да и как ему не знать, когда он сам ежедневно, балансируя, проходит по узкой доске, перекинутой через двухметровый ручей, на крыльцо учреждения, которым тов. Тихонов руководит. Правда, райсовет выносил постановления (и только!) по ликвидации наводнения на улицах Заволжья, но это было весной прошлого года, а в этом году даже и постановлений не было. А о деле и говорить не приходится».
Итак, внешний вид улиц Ульяновска не только не радовал, а просто угнетал большинство его жителей. И вдруг в начале июля 1938 года город облетела сногсшибательная новость: Москва выделила родине Ленина весьма приличные средства на благоустройство мостовых и тротуаров. «Пролетарский путь» возвестил о том, что горсовет уже приступил к распределению средств на строительные работы, что лишь на восстановление улицы Шевченко ассигновано 180 000 рублей [11]. Руководители горкомхо-за с гордостью объявили: «Впервые за последние годы составлен большой план благоустройства тротуаров и мостовых. Много мероприятий намечено по строительству садов, фонтанов, спусков» [12]. Председатель горсовета торжественно пообещал завершить все реставрационные работы к 1 октября 1938 года. Но столь замечательным проектам не суждено было осуществиться в полной мере.
Организация труда оставляла желать лучшего. 17 июля 1938 года «Пролетарский путь» отметил в обзоре писем читателей: «На улице 12 Сентября асфальтируются тротуары. На это затрачивается много средств. Но это очень плохо, что работа идет впустую. Только что асфальтированные тротуары никем не охраняются, и вечером по ним гоняют коров. Тротуары портятся. Нужно обязательно организовать их охрану». Знакомый нам уже слесарь И. Трифонов 5 августа 1938 года рассказал на страницах «Пролетарского пути» о ходе восстановитель- ных работ на улице Шевченко: «Горкомхоз, наконец, приступил к делу, но ремонт идет очень медленно. Сейчас необходимо подвозить булыжник, щебень, песок. Но подвозка материалов идет медленно, поэтому бывают простои. На ремонте дороги работают 14 землекопов, тогда как нужно их гораздо больше. В течение месяца еще почти ничего не сделано. Больше двух недель назад разобран мост, но он до сих пор ремонтируется. Еще на улице Шевченко необходимо устроить водоколонку. Нужно быстрее благоустроить улицу. Сейчас по ней нельзя ни пройти, ни проехать».
На других объектах ремонт тоже шел со скрипом. О возникших нелегких проблемах говорилось в материалах «Пролетарского пути», поданных под броским заголовком «Кто срывает работу по асфальтированию улиц?». В них, в частности, констатировались некоторые очевидные для всех ульяновцев факты: «Планы и мероприятия, намеченные горкомхозом, частично выполняются. Но находятся еще организации, которые срывают работы по благоустройству города. Уже заасфальтировано 12 тысяч квадратных метров. Сделан капитальный ремонт ул. Радищева и Советской. На других улицах также произведен ремонт. План благоустройства выполнен на 40 процентов. Но вот уже на несколько дней приостановлены работы по асфальтированию» [12].
И в дальнейшем необходимый ритм восстановительных работ наладить не удалось. Комиссия горсовета по благоустройству города подвела в конце лета 1938 года невеселые итоги ремонта: «После трехдневного перерыва, из-за отсутствия асфальта, 22 августа вновь начата укладка тротуаров. Заканчиваются работы по Пушкинской улице… Несмотря на большой перерыв, все же есть возможность выполнить план. Люди работают по-стахановски. Однако дело серьезно тормозится отсутствием транспортных средств. Уже 6 дней асфальт не подвозится к месту работ. Транспортные организации, заключившие договоры с горкомхозом, не выполняют свои обязательства. Сейчас на пристани лежат 5—6 тонн асфальта, а транспортная контора железной дороги высылает только одну машину. Таким образом, только по вине транспортной конторы 28 августа у всех рабочих был простой. Не лучше и с вывозкой других материалов. Казалось, что проще подвозить такой материал, как гравий. Его на территории Ульяновска достаточно. Но и здесь часто бывают перебои. Такое положение с транспортом дальше нетерпимо» [13].
Программу благоустройства Ульяновска к концу сентября 1938 года выполнили только на 50 процентов. А ведь она должна была быть закончена 1 октября. Продолжение работ по асфальтированию не имело никакого смысла: пошли дожди. Более того, проведение их в условиях залитых водой дорог и тротуаров являлось преступным. Однако постулаты советской государственной финансовой дисциплины требовали освоения выделенных средств любой ценой до конца 1938 года.
4 октября «Пролетарский путь» информировал население Ульяновска: «Начато асфальтирование улицы Карла Маркса. В ближайшие дни будут залиты асфальтом верхняя часть улицы Ленина, Голубковский порядок и Новая Дамба». Здравый смысл, если он сохранился в головах руководителей города, должен бы подсказать единственно трезвое решение — немедленно прекратить ремонтные работы. Но нет. В конце октября 1938 года «Пролетарский путь» порадовал маленькой хроникальной заметкой: «Благоустраиваются улицы города. По улицам Ленина, 12 Сентября, Советской и другим проложены новые асфальтовые тротуары. Они протянутся на 18 500 квадратных метров» [11].
В начале ноября дожди сменились буранами, и вопрос об асфальтировании улиц отпал сам собой. А каждая зима несла ульяновцам одни и те же заботы и переживания. Им популярный в городе журналист И. Станиславов посвятил во второй половине 30-х годов ХХ века несколько фельетонов. Вот один из них: «По вечерам на всех улицах города можно видеть людей, выделывающих удивительные па и старающихся показать сложнейшие номера балансировки. Часто это кончается одним: человек растягивается во весь рост на тротуаре, а затем, ощупывая все свои конечности и убедившись в их целости, кряхтя, поднимается, ругая вовсю городские «порядки».
Бывает и так, что человека, сломавшего руку или ногу, увозит карета скорой помощи. Характерно, что не только так называемые боковые улицы, но и главную — Карла Маркса — никак не могут очистить ото льда. Участок от магазина мясокомбината до магазина № 20 Пище-торга почти непроходим. Поэтому, рискуя попасть под автобус, граждане ходят по дороге.
Кто виноват, что городские улицы превращены в каток? Все организации отвечают:
— Мы принимаем меры.
Работники горсовета отделываются тем, что, мол, обязательное постановление горсоветом издано и милиция обязана следить за его исполнением. А домоуправления ссылаются, что золы и песка не напасешься, что поближе к апрелю лед сколют и снег заодно уберут» [15]. Этот фельетон И. Станиславова, опубликованный в 1937 году, не вызвал никакой реакции у ульяновских властей. Впрочем, их не пробудили и многочисленные жалобы рядовых жителей, получавших увечья во время гололеда.
«Зима полностью вступила в свои права, — напоминал и просил один из покалеченных читателей «Пролетарского пути», — выпавший снег и наступившее временное потепление создали невыносимые условия перехода по тротуарам. Как правило, нигде даже в центре города, возле горсовета, снег не очищается. Тротуары песком или золой не посыпаются. Часто, поскользнувшись, пешеходы падают. Есть несчастные случаи. Это нужно предотвратить немедленным вмешательством горсовета» [16].
Активный рабкор Н. И. Соколова, достаточно глубоко изучившая проблемы благоустройства родины Ленина, попыталась обратить внимание руководства города на необходимость борьбы с гололедом: «Что делают дворники? — задала она вопрос членам президиума горсовета. — Граждане зимой чувствуют себя как на катке, а в сильные снегопады проваливаются в сугробы. Дворников же в настоящее время можно встретить очень редко. И все это нисколько не беспокоит горжилуправление и управляющих домами» [17]. Однако письма читателей и рабкоров (а их были десятки) не пробудили зимой 1937—1938 гг. ни горсовет, ни милицию, ни горкомхоз, ни домоуправления, ни дворников. Не готовились, понятно, они и к следующему сезону холодов и буранов: никто не побеспокоился ни о подвозке песка в город, ни о заблаговременном сборе золы.
Все шло обычным порядком. 20 ноября 1938 года «Пролетарский путь» опубликовал очередной фельетон И. Станиславова. «Жителя Ульяновска, — писал талантливый журналист, — легко отличить от граждан других городов Советского Союза, достаточно посмотреть на его походку. Вот он пригнется, вот сделает пируэт ногой, вот непринужденно перепрыгнет через канаву. Такой и барьер с ходу возьмет — ему ничего не страшно.
Объясняется это длительной и невольной тренировкой. Достаточно выпасть снегу, а потом дождю, как образуется на тротуарах, особенно асфальтированных, гололедица и гражданин волей и неволей превращается в акробата-эквилибриста, независимо от пола, возраста и семейного положения.
Так было в прошлые годы, так и в этом году. Граждане падают, разбивают носы и затылки и с чувством вспоминают городской отдел коммунального хозяйства и милицию. А ведь они обязаны были предвидеть, что возможно появление гололедицы, и дать указание домоуправлениям и владельцам частных домов о посыпке тротуаров золой или песком.
На улице Карла Маркса приходится двигаться со скоростью черепахи, причем «аварии» граждан, особенно вечером, происходят очень часто. Не все граждане Ульяновска стремятся переменить свою профессию и дебютировать в цирке, но все граждане уверены, что хождение по улицам города не должно приносить увечий».
К фельетону И. Станиславова власти отнеслись индифферентно. Однако гололедное бедствие, продолжавшееся с конца ноября 1938 года почти два месяца, заставило их проснуться. В больницах не хватало мест для покалеченных от падений на тротуарах-катках. Городской отдел здравоохранения проинформировал жителей Ульяновска о тревожной статистике: если в ноябре 1938 года покалечилось в условиях гололеда 9 человек, то в декабре — 28 [18]. Журналист И. Полтавцев, заведующий партийнополитическим отделом «Пролетарского пути» и писавший статьи по заданию горкома ВКП(б), подверг резкой критике руководство Ульяновского совета: «Люди падают, ломают руки, ноги, ребра, лежат неделями в постелях, по бюллетеням выплачиваются тысячи рублей. Улицы, особенно Карла Маркса, представляют из себя каток. Подступы к магазинам надо преодолевать чуть ли не часами. Удивительным кажется равнодушие президиума горсовета, не проверяющего, как выполняется его же обязательное постановление об очистке улиц и тротуаров от льда или снега» [19].
В срочном порядке ульяновский горторг закупил большое количество соли, которую дворники по распоряжению горкомхоза стали разбрасывать на дорогах и тротуарах. Число увечий заметно сократилось. Но возникла еще одна неподъемная проблема. О ней «Пролетарский путь» сообщил 29 января 1939 года: «Тротуары, долгое время не очищавшиеся от ледяной корки, за последнее время усиленно посыпаются солью. Но образовавшееся месиво не убирается».
В конце концов долгие зимние месяцы, угнетавшие ульяновцев то гололедом, то неочищенными от снега тротуарами, так или иначе проходили, а жителей Родины Ленина ждали новые уличные неприятности. Сугробы, помимо неизъяснимой прелести оттенков переливаю- щейся белизны, играли еще сугубо практическую роль: они прикрывали оставшиеся с осени неубранные кучи мусора и навоза.
Летом повсюду горожан заметает пыль. От нее не избавлена ни улица Карла Маркса, ни площадь Ленина. И самый коварный вопрос для горкомхоза — поливка мостовых и тротуаров. В прошлом году весной взялись за нее, но потом все заглохло, и ульяновцы созерцали песчаные вихри, глотали пыль. Не разрешена эта проблема и сейчас».
В 1937 году целая группа рабкоров, следом за штатными корреспондентами, обратила внимание на запущенность улиц Ульяновска: «За забором около цирка, — выразил свое возмущение К. Минаев, — некоторые досужие хозяйственники и рядом живущие граждане организовали свалку. Навоз сейчас преет, и распространяется зловоние. По улице Карла Маркса мимо этого места нельзя пройти, если не зажмешь нос» [20]. C. Кишенин написал о том, что спуски к садам «давно превратились в свалки мусора и навоза» [21]. В. Ктор прочитал странную и малограмотную предупредительную надпись у входа в сквер на Новом Венце: «Бросаться в фонтан и засорять его строго запрещается». И вот как он ее прокомментировал: «Какой, спрашивается, чудак полезет в фонтан, который вечно покрыт грязью и плесенью» [22].
Корреспондент «Пролетарского пути» А. Андреев получил в августе 1937 года читательские письма, посвященные уборке ульяновских улиц, и выделил основные проблемы наведения чистоты и порядка. Во-первых, «любым человеком, — констатировал он, — попавшим на улицу К. Маркса, — овладевает подавленное настроение. Около газонов — горы мусора, заботливо оберегаемые в назидание потомству». Во-вторых, «тяжелое впечатление производят подъезды домов. Непролазная грязь и отбросы. Ульяновцы привыкли к этому. Руководство города свыклось с вопиющей антисанитарией. Ни- кто не замечает грязи в центре. А что делается на окраинах?». В-третьих, «если заглянуть в любой двор, то там можно найти все, за исключением чистоты и порядка. В особенности печальную славу имеют дворы военторга, плодо-винзавода, сберкассы, сельхозтехникума, пище-торга. Не лучше и у других организаций». В-четвертых, «мусор сваливается куда попало. То же самое относится и к нечистотам. Большинство переулков превратились в узаконенные свалки мусора. В городе 12 ведомственных бесконтрольно работающих ассенизационных обозов. Они никому не подчиняются, сливают «добро» там, где им заблагорассудится. А 19 августа кто-то бросил на Базарной площади ассенизационную бочку — хозяина так и не нашли». В-пятых, «не проходит ни одного заседания горсовета, на котором бы многословно не говорили о наведении порядка на улицах. Но сдвигов нет. Сила привычки — трагедия для Ульяновска» [22].
Пессимизм корреспондента «Пролетарского пути» А. Андреева был более чем оправдан. Наступил апрель 1938 года, но никаких положительных перемен по части благоустройства Ульяновска не произошло. Вновь журналисты родины Ленина получили возможность состязаться в написании юморесок, посвященных безобразному внешнему виду города.
«Вот и весна! — писал один их них. — Защебетали птички, апрельское солнце расправляется с последними остатками снега… В такую погоду так и тянет из комнаты, мурлычешь весенние мотивы. А когда попадаешь на наши ульяновские улицы, сразу пропадает игривое настроение, лицо мрачнеет и неудержимо подмывает ругаться. И чем дольше мотаешься по городу, скачешь через лужи и колдобины, тем больше растет раздражение. Исковерканные тротуары, груды прошлогодних отбросов, развороченные мостовые и свалки на площадях окончательно приводят в ярость» [23].
Второй корреспондент не без тонкой иронии рассказал о встрече с заведующим коммунальным отделом горсовета Сидельниковым. Когда мастер пера поведал собеседнику о «форменном безобразии, творящемся на улицах», то последний не только не стал спорить, а «сделал горькую мину и трогательно заключил:
— Вы, безусловно, правы…
И очень любезно начал дополнять перечень городских беспорядков. Он возмущался покосившимися заборами, горами мусора на площади 1 Мая, негодной изгородью на Новом Венце, разрушенными постройками в саду им. Свердлова, штабелями кирпича на площади Ленина.
— Да, — согласился Сидельников, — Ульяновск — грязный, неприветливый город. Но от нас почти ничего не зависит. Нам не дают на уборку денег. Я заказал только чугунные ножки для 50 скамеек. На большее денег нет.
Стало грустно» [24].
Третий журналист отправился в прокуратуру, чтобы узнать, как прокуратура следит за организациями, отвечающими за наведение санитарного порядка в Ульяновске. Его удивление росло по мере приближения к месту нахождения государственного органа за соблюдением законов. «Пройдитесь по центральным улицам города, — саркастически заметил корреспондент «Пролетарского пути», — за красивыми фасадами можно нередко встретить запущенные, годами нечищеные дворы. Вот двор дома, где помещается прокуратура. Трудно придумать что-нибудь более безобразное и отвратительное, чем состояние этого двора. Настоящая клоака в центре города! И никому — ни милиции, ни саннадзору, ни самим обитателям этого двора — не мозолит глаза эта грязь.
Когда работники коммунальной службы обратились в прокуратуру с предложением очистить свой двор, там заявили:
— У нас нет средств на эти расходы.
Такую же «позицию» в вопросе очистки своих дворов заняли директор кинотеатра «Пионер» тов. Ерофеевский, заведующий кондитерским магазином, руководитель военторга, начальник дома профсоюзов и др. Даже в сухую погоду из ворот этих зданий на улицы текут потоки зловонной грязи» [24].
Проходили весенние месяцы. Наступала летняя жара. Но никаких изменений в уборке улиц Ульяновска в лучшую сторону не просматривалось. Казалось, что летаргический сон работников коммунальных служб лишь изредка прерывался для совершения непродуманных, а порой и бессмысленных действий. Например, озеленение родины Ленина можно было квалифицировать как сизифов труд. «В городе, — писал рабкор «Пролетарского пути» И. Жбанков, — несколько лет назад было посажено много молодых деревьев, но они не охраняются. Немало их хищнически уничтожаются — их ломают ребятишки, объедают козы. Домоуправления не позаботились огородить их, а в некоторых местах загородку давно растащили» [25]. Аноним-читатель той же газеты тоже был удивлен странным способом работы горкомхоза над ландшафтом Родины Ленина: «Зимой начали благоустраивать Смоленский спуск. И что же сделали в первую очередь? Вырубили около гектара фруктового сада. После этого ремонт спуска прекратился. Знает ли горсовет о хищническом уничтожении сада? Почему не наказаны виновники?» [26]. 11 августа 1937 года «Пролетарский путь» подвел безрадостные итоги двухлетней кампании по озеленению Ульяновска: «В городе не посажено ни одного деревца, а те, что посажены раньше, уничтожаются козами, беспрепятственно разгуливающими по улицам. Варварски эксплуатируются и фруктовые сады — украшение и гордость родины Ленина. О них, видимо, забыли в городском совете».
Летний сезон 1938 года также финишировал плачевными итогами работ по озеленению города. Корреспондент А. Донской рассказал о них в заметке под знаменательным заголовком «Пустая болтовня»: «С удовлетворением ульяновцы говорили о заботливости директора зе-ленстроя тов. Евсеева, наблюдая за устройством новой изгороди на улице Ленина. В 1937 году, осенью, он обещал разбить здесь клумбы. Но прошла зима, наступила весна, а вместо цветов по-прежнему буйно растет бурьян. А что творится около здания самого горзеленстроя! Перед ним раскинулась огромная площадь имени III Интернационала, издревле славящаяся непролазной грязью и ухабами. Не случайно шоферы назвали ее «ловушкой» — осенью здесь может застрять даже вездеход. Еще в прошлом году зеленстрой обещал посадить деревья на площади, включил эти работы в план, но и в нынешнем году там не появилось ни одного деревца» [27].
Проблема озеленения Ульяновска, без сомнения, волновала многих жителей города. Неслучайно вскоре после публикации заметки А. Донского «Пролетарский путь» поместил корреспонденцию Ф. Петрова на ту же тему. В ней, в частности, подчеркивалось: «Посадка деревьев и кустарников проводится плохо. На Пролетарской площади и других улицах несколько лет высаживали их в большом количестве, но почти все они погибли. Занимались этим неопытные рабочие. Они закапывали саженцы на большую глубину, корневые шейки деревьев засыпались землей. Деревья после посадки в течение года должны поливаться водой, а ямы вокруг них нужно окапывать, удалять сорные травы, отнимающие влагу у слабо развивающихся корней. Окопка должна продолжаться периодически и в последующие годы до полного укрепления корней. Этих правил никто не соблюдает. И, естественно, что деревья без ухода гибнут» [29].
22 сентября 1938 года «Пролетарский путь»
признал полное фиаско с проведением программы озеленения в последние пять лет: «Мало лесных насаждений на улицах нашего города. Посадки их совсем незначительны. Многие молодые деревца погублены. Обширные планы озеленения не стали реальностью. Однажды в зеленстрое повели речь о пересадке десятилетних деревьев. Вариант вполне приемлемый. Однако в зеленстрое привыкли только рассуждать, а не претворять планы в жизнь. Ухода за посаженными деревьями не видно. Вот на площади Марата раскинулся садик плодовинзавода. Однако много деревьев в нем повяло. Летом этот садик не поливали и не пропалывали. Молодые саженцы американского клена в основном погибли».
Жителям Ульяновска, выходившим на улицы во второй половине 30-х годов ХХ века, можно искренне посочувствовать. Им надо было иметь крепкие нервы, чтобы не быть психологически раздавленными. Причин для раздражения, помимо уже перечисленных отрицательных факторов, оставалось еще более чем достаточно.
Население родины Ленина угнетали темные и плохо освещенные улицы. Ярко горели лампочки только на улице Карла Маркса. «За уличным освещением, — возмущался рабкор В. Ефимов, — в городе никто не следит. Фонари на спуске Степана Разина пламенеют днем, зато ночью совсем не горят. То же и на других спусках» [30]. Читатель «Пролетарского пути» А. Чу-носов сообщал: «Для освещения улиц горкомхоз поставил керосино-калильные фонари, но фонарщики наливают в них керосину так мало, что они горят не более 2—3 часов» [31]. В коллективном письме 5 рабочих выражалось недоумение по поводу того, что «на некоторых улицах города света недостаточно. Электролампочки, которые висят на столбах, покрыты пылью, и свет от этого очень бледный. Керосиновые фонари не горят» [32]. Рабкор Амосенко сетовал на то, что на улице Новый Венец отсутствие освещения создает благоприятную обстановку для совершения преступных деяний: «С наступлением вечера сюда идут сотни людей после работы или учебы, чтобы полюбоваться Волгой. Но состояние замечательного места отдыха приводит к выводу, что никакие работы по благоустройству Нового Венца не ведутся. Почему бы там не повесить несколько лампочек для освещения? В темноте свободно чувствуют себя хулиганы, они пристают к прохожим, оскорбляют, и дело даже доходит до драк. Удивительно, почему милиция до сих пор не считает нужным поставить там постового милиционера, чтобы призвать к порядку хулиганов» [33].
Захламляли ульяновские улицы расклеенные повсюду объявления. «Взгляните на любой забор, — иронизировал 20 апреля 1937 года корреспондент «Пролетарского пути» Н. Рудин, — и перед вами во всей красе — панорама бескультурья и неуважения к своему городу и его жителям. Лоскуты порванных афиш, грязная мазня расклейщиков украшают большинство заборов на главной улице. Нет ни одного телеграфного столба на улице Карла Маркса, где бы ни красовались такого сорта наклейки: «Сдаетца квартера со всеми удобствами». В городе есть бюро рекламы, есть горкомхоз, но никто за расклейкой афиш и объявлений не смотрит».
На нервы действовало отсутствие часов на улицах. Из-за этого жители города нередко опаздывали на работу. «Большие башенные часы, — язвительно констатировал «Пролетарский путь» 11 января 1937 года, — хранятся в чулане у одного частного лица. А часы на здании Ульяновской электрической станции пришлось снять, так как они немилосердно отставали. Убрав их, горкомхоз почувствовал себя счастливым, ибо никто ему не надоедает жалобами на эту тему».
Кажется, ульяновцы привыкли ко всему: потокам грязи, кучам мусора, навоза, загаженным клумбам и фонтанам, но все-таки значительную часть горожан коробили и возмущали деревянные туалеты на улицах и площадях. «Общественные уборные, — негодовал журналист И. Инский, — представляют собой нечто неописуемое. Они безобразно устроены и находятся в крайне антисанитарном состоянии. Когда со всем этим будет покончено?» [34].
Однако улицы Ульяновска не только угнетали, утомляли и раздражали тех, кто систематически передвигался по ним пешком или на транспорте. Они таили в себе также нешуточную угрозу здоровью. 15 июля 1938 года «Пролетарский путь» решил предостеречь жителей Родины Ленина от рыскающих голодных четвероногих: «За последнее время в городе появилось много беспризорных собак. Часто бывают случаи укусов. На днях собака покусала гражданку Новикову. И это не первый случай. Особенно от собак достается письмоносцам и детям».
Но постепенно ульяновцы смирились со всеми уличными безобразиями. Ведь советская пропаганда внушала им, что трудящиеся нашей страны, ведомые коммунистической партией и великим Сталиным, живут лучше всех на свете! Тем более что грязные улицы в Ульяновске в дни политических праздников (а их было очень много) украшались обильно, как отмечал «Про- летарский путь», «портретами вождей, громадными лозунгами, ярко-красочными панно, отражающими радостную жизнь советского народа и расцвет социалистической культуры» [35].
-
1. Барбюс А. Сталин. М., 1935; История ВКП(б).
-
2. Троцкий Л. Д. Сталин. М., 1990; Такер Р. Сталин.
-
3. Пролетарский путь. 1937. 11 авг.
-
4. Крупская Н. К. Музей Ленина и его филиалы // Большевик. 1938. № 9.
-
5. Пролетарский путь. 1938. 1 нояб.
-
6. Там же. 1937. 21 марта.
-
7. Там же. 1938. 2 и 5 авг.
-
8. Там же. 1938. 22 окт., 16 нояб.
-
9. Там же. 1938. 5 сент.
-
10. Там же. 1938. 2 нояб.
-
11. Там же. 1938. 9 июля.
-
12. Там же. 1938. 5 авг.
-
13. Там же. 1938. 2 сент.
-
14. Там же. 1938. 29 окт.
-
15. Там же. 1937. 17 марта.
-
16. Там же. 1937. 10 дек.
-
17. Там же. 1938. 14 февр.
-
18. Там же. 1939. 27 янв.
-
19. Там же. 1939. 29 янв.
-
20. Там же. 1937. 26 апр.
-
21. Там же. 1937. 11 мая.
-
22. Там же. 1937. 21 авг.
-
23. Там же. 1938. 26 авг.
-
24. Там же. 1938. 3 апр.
-
25. Там же. 1938. 23 апр.
-
26. Там же. 1937. 16 мая.
-
27. Там же. 1937. 2 июня.
-
28. Там же. 1938. 11 июня.
-
29. Там же. 1938. 30 июня.
-
30. Там же. 1937. 17 июня.
-
31. Там же. 1937. 12 дек.
-
32. Там же. 1938. 29 сент.
-
33. Там же. 1938. 8 июня.
-
34. Там же. 1937. 29 сент.
-
35. Там же. 1938. 22 апр.
Краткий курс. М., 1938; Жуков Ю. Н. Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933— 1937 гг. М., 2003; Емельянов Ю. Сталин. На вершине власти. М., 2006; Фейхтвангер Л. Москва. 1937 // Наш современник. 2008. № 11; Рыбас С. Сталин. М., 2010 и др.
История и личность. М., 2006; Медведев Р.,
Медведев Ж. Неизвестный Сталин. М., 2007; Аксютин Ю. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953—1964 гг. М., 2010; Шлегель К. Террор и мечта. М., 2010 и др.
Список литературы Улицы родины Ленина во второй половине 30-х гг. XX века - немаловажная деталь интерьера сталинской эпохи
- Барбюс А. Сталин. М., 1935; История ВКП(б). Краткий курс. М., 1938; Жуков Ю. Н Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933-1937 гг. М., 2003
- Емельянов Ю. Сталин. На вершине власти. М., 2006
- Фейхтвангер Л. Москва. 1937//Наш современник. 2008. № 11; Рыбас С. Сталин. М., 2010 и др
- Троцкий Л. Д. Сталин. М., 1990; Такер Р. Сталин. История и личность. М., 200б; Медведев Р., Медведев Ж. Неизвестный Сталин. М., 2007
- Аксютин Ю. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. М., 2010; Шлегель К. Террор и мечта. М., 2010 и др
- Пролетарский путь. 1937. 11 авг.
- Крупская Н. К Музей Ленина и его филиалы//Большевик. 1938. № 9.
- Пролетарский путь. 1938. 1 нояб.