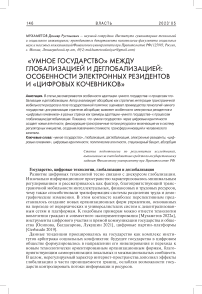"Умное государство" между глобализацией и деглобализацией: особенности электронных резидентов и "цифровых кочевников"
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности адаптации «умного государства» к процессам глобализации и деглобализации. Автор анализирует абсорбцию как стратегию интеграции трансграничной мобильности ресурсов в поле государственной политики; оценивает преимущества технологий «умного государства» для реализации стратегии абсорбции; выявляет особенности электронных резидентов и «цифровых кочевников» в разных странах как примеры адаптации «умного государства» к процессам глобализации/деглобализации. Показано, что «умное государство» через цифровые идентичности создает новые агентности, фиксирующие трансграничные потоки ресурсов и включающие их в систему регуляторных инициатив, создания/извлечения стоимости, трансфера инноваций и человеческого капитала.
"умное государство", глобализация, деглобализация, электронные резиденты, цифровые кочевники, цифровые идентичности, политические агентности, стационарный бандит, абсорбция
Короткий адрес: https://sciup.org/170200657
IDR: 170200657 | DOI: 10.31171/vlast.v31i5.9812
Текст научной статьи "Умное государство" между глобализацией и деглобализацией: особенности электронных резидентов и "цифровых кочевников"
Развитие цифровых технологий тесно связано с дискурсом глобализации. Изначально информационное пространство характеризовалось минимальным регулированием и рассматривалось как фактор, благоприятствующий трансграничной мобильности интеллектуальных, финансовых и трудовых ресурсов, чему также способствовали трансформация системы разделения труда и демографические изменения. В этом контексте наиболее перспективным представлялось создание новых организационных форм управления, основанных на переходе от иерархических и универсалистских систем к децентрализованным сетям и платформам. К подобным примерам можно отнести технологии вовлечения граждан и совместного экспериментирования [Мухаметов 2022а], инструменты цифрового участия и прямой коммуникации государства и общества [Осипова, Багдасарова, Лукушин 2021], цифровые партии-платформы [Gerbaudo 2019].
Данные тенденции проецировались на государство как комплекс институтов арбитража социальных конфликтов: будущее государства в цифровом обществе формулировалось в направлении его нивелирования и перехода к новым технологически ориентированным организационным формам, благоприятствующим самоорганизации локальных и межнациональных сообществ. В целом, нерегулируемый характер интернет-пространства дополнял эффекты глобализации в части проницаемости границ, ослабляя возможности государств контролировать потоки информации и ресурсов.
Современные реалии отличаются обратными процессами, при которых виртуальное пространство инкорпорируется в сферу государственного регулирования. В исследованиях выделяются различные инструменты, с помощью которых государство сохраняет политический контроль: создание «суверенного Интернета», требования фильтрации медиаконтента, регулирование трансграничного трансфера данных. Вкупе с финансовыми и торговыми ограничениями подобная политика запускает деглобализационные процессы, а государство выстраивает симметрию между границами цифрового поля и границами собственного влияния. При этом даже в условиях деглобализации – снижения взаимосвязанности национальных экономик – государство продолжает искать способы эффективного регулирования трансграничной мобильности ресурсов для привлечения инвестиций, человеческого капитала и технологий.
Представляется целесообразным предложение стратегий, благодаря которым государство может адаптироваться к глобализационным и деглобализа-ционным процессам для решения своих традиционных задач. Актуальность подобных стратегий обусловлена цикличным характером процессов глобализации и деглобализации [Chase-Dunn, Álvarez, Liao 2023]. Как следствие, для государства востребованны сравнительно устойчивые и универсальные стратегии, позволяющие выявлять данные процессы и реагировать на них.
Переход к «умному государству» как новой модели управления позволяет использовать новые технологии для включения трансграничных потоков информации, финансов, человеческого капитала в сферу государственной политики в случае глобализации и деглобализации. В данной статье внимание акцентируется на абсорбции как стратегии «умного государства» в условиях цикличности глобализационных и деглобализационных процессов, а также на электронных резидентах и «цифровых кочевниках» как примерах технологии реализации данной стратегии.
Абсорбция как стратегия «умного государства»в условиях глобализации/деглобализации
Для современного государства является востребованной стратегия адаптации трансграничных потоков ресурсов для решения таких традиционных задач государства, как создание и извлечение стоимости, перераспределение ресурсов, вовлечение новых агентов в поле государственной политики, организация доступа к институтам. Отдельно следует отметить, что если в контексте глобализации наиболее актуальны вопросы аккумуляции государством регуляторных возможностей при возрастающих масштабах трансграничных потоков, то в контексте деглобализации на первый план выходят проблемы сохранения интеграционных связей в условиях сокращения международной мобильности ресурсов. В качестве стратегии адаптации государства к данным процессам можно рассматривать абсорбцию, сопряженную с изменением отношений между системой принятия решений и окружающей средой.
В контексте государства и глобализации/деглобализации целесообразно говорить о том, что абсорбция обозначает способность государства использовать трансграничную мобильность информационных, человеческих, трудовых и экономических ресурсов не только для роста рынков, но и для эффективности государственного сектора в целом. При этом в сравнении с другими организациями государство взаимодействует с б о льшим и более разнообразным спектром потоков окружающей среды, что справедливо для процессов как глобализации, так и деглобализации: фактически данные процессы связаны с одинаковыми потоками (человеческие, информационные и экономические ресурсы), однако имеют разные направления.
Наиболее перспективна реализация стратегии абсорбции через технологии «умного государства» – модель управления, основанную на операцио-нализации пространства и ресурсов управления через цифровые двойники и идентичности. В структуре политического управления технологии «умного государства» играют роль медиатора, связывая различных агентов (граждане, бизнес, некоммерческие организации) с системой принятия решений, институтов, государственных ресурсов [Мухаметов 2022б]. К примеру, платформы вовлечения граждан обеспечивают участие граждан в формировании политической повестки, а маркетплейсы и онлайн-платформы госзакупок позволяют бизнесу участвовать в государственных проектах. Основное преимущество данных технологий заключается в нивелировании промежуточных уровней управления, что повышает гибкость системы. Кроме того, интеллектуальные системы управления способствуют выстраиванию системы принятия решений, более восприимчивой к изменению состояния окружающей среды за счет численной оценки всех процессов и объектов. Данные аспекты «умного государства» позволяют реализовывать абсорбцию, т.к. появляется возможность напрямую взаимодействовать с потоками информационных, человеческих и экономических ресурсов, встраивая их в государственную политику. Наиболее примечательными примерами являются электронные резиденты и «цифровые кочевники».
Электронные резиденты: доступ к институтамдля создания стоимости и трансфера инноваций
Электронные резиденты – яркий пример интеграции трансграничных потоков в систему «умного государства». В общем понимании электронные резиденты – это иностранные граждане, которые не имеют гражданства или вида на жительство в стране, однако им предоставлена возможность получить цифровую идентификацию и участвовать в публично-правовом и частноправовом делопроизводстве вне зависимости от его физического местонахождения. Взаимодействие «умного государства» и электронных резидентов выстраивается таким образом, что государство предоставляет электронным резидентам цифровые карты с гарантированным доступом к госуслугам для бизнеса, онлайн-банкингу и электронной подписи, в то время как резиденты регистри- руют собственные компании, предоставляют собственные продукты и услуги в этой стране, находясь при этом в другом месте.
В контексте абсорбции электронные резиденты – пример интеграции трансграничных потоков человеческого капитала, информационных продуктов и услуг в регуляторные границы «умного государства» с целью создания/извле-чения стоимости (электронные резиденты как инвесторы и новая группа налогоплательщиков), а также трансфера технологий и инноваций (традиционно электронными резидентами являются IT -компании, а также компании из сферы образования и консалтинга). Таким образом, «умное государство», используя цифровые идентичности и онлайн-инструменты, создает в лице электронных резидентов новые агентности, встроенные в действующие институты и системы перераспределения ресурсов, но отличающиеся от трудовых иммигрантов, туристов, граждан или обладателей вида на жительство.
На данный момент электронные резиденты распространены в немногих странах. Наиболее показательный кейс – Эстония, которая запустила программу электронной резиденции еще в 2014 г. Электронные резиденты в данной стране имеют широкий спектр возможностей, включающий полный онлайн-доступ к услугам для бизнеса и банковскому кредиту, электронный документооборот, электронную подпись, а также доступ к европейской бизнес-инфраструк-туре. Доступ к европейской бизнес-инфраструктуре также предполагают программы электронной резиденции в Португалии и Литве, однако в этих странах нет полного онлайн-доступа к регистрации и использованию ID электронного резидента. Также электронные резиденты предусмотрены в Бразилии, Грузии, ЮАР, Азербайджане, Палау, однако их масштаб и эффективность еще предстоит оценить по мере реализации данных программ. Примечательно, что возможности регистрации электронных резидентов есть в Либерленде, виртуальном государстве в Юго-Восточной Европе, и Проспере, «чартерном» городе в Гондурасе, который имеет свое законодательство и налоговую систему. Данные примеры демонстрируют, какие возможности для управления стоимостью и инновациями имеют электронные резиденты как новые агенты в поле государственной власти.
В то же время электронные резиденты скорее формируют региональные/ кластерные связи, нежели интегрируют страну в глобальную экономику. В частности, на примере программы электронной резиденции в Эстонии можно наблюдать значительное превалирование среди электронных резидентов граждан Украины, России, Финляндии, Германии, хотя в последние два года наблюдается значительный рост электронных резидентов из Китая1. Аналогично, данные по числу компаний, зарегистрированных электронными резидентами разных стран, показывают активность резидентов из Германии, Украины, Финляндии, России, Франции, Турции; при этом резиденты из Китая пока не достигли подобных результатов. Исходя из этого, логично рассматривать электронные резиденции как инструмент повышения информационной связанности региональных или субрегиональных экономических систем.
Таким образом, электронные резиденты могут рассматриваться и как инструмент регулирования «умным государством» трансграничных потоков ресурсов в условиях глобализации, и как инструмент повышения инвестиционной привлекательности в контексте деглобализации или конкуренции с крупными экономиками.
«Цифровые кочевники»: мобильность человеческих ресурсовдля извлечения стоимости и контроля занятости
Другим примером абсорбции «умным государством» трансграничных потоков являются «цифровые кочевники». «Цифровые кочевники» – это иностранные граждане, которые находятся и проживают в стране пребывания, однако выполняют свои профессиональные обязанности дистанционно в стране своего гражданства. Первоначально «цифровые кочевники» связывались с обычным фрилансом и возможностью глобальной мобильности, однако сегодня в ряде стран для «цифровых кочевников» предусмотрены специальные временные визы, получить которые можно при наличии необходимого подтвержденного дохода, трудового контракта в стране гражданства, а также брони жилья и медицинской страховки. Другими словами, для получения статуса «цифрового кочевника» требуется иметь потенциал для участия в экономической жизни страны пребывания через потребление продуктов и услуг, но при этом не конкурировать за рабочие места.
Как и электронные резиденты, «цифровые кочевники» – это новая агент-ность, появление которой возможно через технологии цифровых идентичностей «умного государства». В контексте отношений между государством и глобализацией/деглобализацией статус «цифровых кочевников» предполагает абсорбцию трансграничных потоков человеческих, информационных и экономических ресурсов с целью выявления ресурсов для решения задач государственного управления: с одной стороны, формализация этого статуса позволяет частично регулировать занятость, с другой – является инструментом повышения привлекательности территории. Таким образом, «цифровые кочевники» также вносят вклад в создание/извлечение стоимости со стороны государства, однако не являются агентами трансфера инноваций или человеческого капитала.
На данный момент в мире насчитывается около 35 млн «цифровых кочевников», 52% которых – граждане США1. Наиболее популярные страны для цифровых кочевников – Португалия, Мексика, Таиланд, Индонезия, Колумбия, Хорватия, Турция, Вьетнам. При этом среднестатистический «цифровой кочевник» имеет более высокий ежемесячный доход, чем средний доход граждан из перечисленных топ-5 стран. Для «цифровых кочевников» популярность развивающихся стран (стран с доходом выше среднего уровня и доходом ниже среднего уровня) обусловлена более низкой стоимостью жизни, а также тем, что в них имеются наименьшие регуляторные ограничения для цифровых платформ, с помощью которых возможна онлайн-работа, онлайн-бронирование жилья (например, BnB ), онлайн-услуги для здравоохранения и образования.
Необходимо подчеркнуть, что разнообразие возможностей для «цифровых кочевников» во многом связано с разрывами в качестве жизни, которые сложились за последние десятилетия. Потоки «цифровых кочевников» из развитых стран в развивающиеся – это скорее импорт покупательной способности для городских рынков, нежели конвертация трансграничной мобильности в рост человеческого капитала, технологии и инновации. И данный аспект в равной степени характерен как для глобализации, так и деглобализации.
Заключение
Обобщая сказанное выше, можно отметить, что для государства актуальны стратегии, с помощью которых можно использовать трансграничную мобильность продуктов, услуг, капитала, человеческих и информационных ресурсов для решения государственных задач. Абсорбция как стратегия позволяет рассматривать мобильность данных ресурсов как отправную точку для создания новых агентностей, источников создания/извлечения стоимости, механизмов стимулирования и трансфера инноваций, способ усложнения архитектуры рынков. В этом контексте задача «умного государства» – предоставить технологии цифровой идентификации и мониторинга агентов-носителей данных ресурсов для повышения чувствительности системы к изменениям состояния среды. В настоящий момент государства внедряют цифровые идентичности и интеллектуальные системы для решения разных задач – мониторинга онлайн-радикализации [Парма 2022], выявления факторов неравенства и дискриминации [Ben-David, Fernández 2016], предоставления государственных услуг и проведения проактивной политики. Можно ожидать, что цифровые идентичности будут также инструментом вовлечения трансграничной мобильности ресурсов в поле государственной политики в контексте как усиления регуляторных инициатив (случай глобализации), так и сохранения интеграционных связей (кейсы деглобализации).
Электронные резиденты и «цифровые кочевники» – пример абсорбции через создание «умным государством» новых агентностей: в обоих случаях используются цифровые идентичности для фиксации трансграничных потоков ресурсов и их интеграции в системы управления стоимостью и инновациями. В определенном смысле можно говорить о расширении границ политики государства как «стационарного бандита». Однако данные технологии и агент-ности во многом основаны на уже сложившихся линиях демаркации стран по качеству жизни, инвестиционной привлекательности и эффективности институтов, и в условиях трансформации международных центров социальных и технологических новаций можно ожидать появления новых агентностей, отражающих адаптацию государств к цикличности глобализационных и деглобализа-ционных процессов.
Список литературы "Умное государство" между глобализацией и деглобализацией: особенности электронных резидентов и "цифровых кочевников"
- Мухаметов Д.Р. 2022а. Создание устойчивых умных городов: технологии вовлечения граждан и совместного экспериментирования. - Вопросы инновационной экономики. Т. 12. № 2. С. 843-858. EDN: QTOPOD
- Мухаметов Д.Р. 2022б. Цифровое государство как экспоненциальная организация: новые технологии коммуникации. - Мир новой экономики. Т. 16. № 2. С. 6-18. EDN: ZXGRVS
- Осипова О.С., Багдасарова Р.А., Лукушин В.А. 2021. Современные медиа как инструмент совершенствования диалога власти и общества. - Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. Т. 11. № 1. С. 20-28. EDN: TDGRPH
- Парма Р.В. 2022. Современная трактовка политического радикализма в гражданской активности. - Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. Т. 12. № 2. С. 53-60. EDN: BCCQBO
- Ben-David A., Fernández A. 2016. Hate Speech and Covert Discrimination on Social Media: Monitoring the Facebook Pages of Extreme-Right Political Parties in Spain. - International Journal of Communication. Vol. 27. No. 10. P. 1167-1193.
- Chase-Dunn C., Álvarez A., Liao Y. 2023. Waves of Structural Deglobalization: A World-Systems Perspective. - Social Sciences. Vol. 12. No. 5. P. 301-323.
- Dzhengiz T., Niesten E. 2020.Competences for Environmental Sustainability: A Systematic Review on the Impact of Absorptive Capacity and Capabilities. - Journal of Business Ethics. Vol. 162. No. 4. P. 881-906. EDN: FPGGQY
- Gerbaudo P. 2019. The Digital Party: Political Organisation and Online Democracy. Pluto. 240 р.