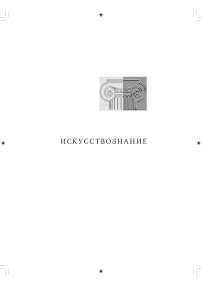Унанимизм как эстетика жизни в европейском искусстве рубежа XIX-ХХ веков
Автор: Лкин Алексей Анатольевич
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культура как этап эволюции биологической жизни
Статья в выпуске: 4 (54), 2013 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья посвящена проблемам эстетики литературно-художественных течений рубежа XIX — XX веков. Автор отмечает, что, несмотря на кажущееся торжество идей декаданса, для эстетических концепций многих литературно-художественных течений указанного периода приоритетным являлось обращение к простым и естественным формам жизни. В связи с этим выделяются католический символизм, натуризм, унанимизм.
Эстетика, жизнь, декаданс, символизм, натуризм, унанимизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14489561
IDR: 14489561 | УДК: 82.02
Текст научной статьи Унанимизм как эстетика жизни в европейском искусстве рубежа XIX-ХХ веков
Рубеж XIX—ХХ веков в культурном сознании часто выделяется прежде всего как время кризиса идей реализма и позитивизма, следствием которого во многом явилось торжество декаданса. Феномен декаданса главным образом ассоциируется с мистическими настроениями и мрачным отношением к жизни. Следует отметить, что у исследователей сложился определённый стереотип, согласно которому практически все литературно-художественные течения данного периода относятся к декадансу. Но при более глубоком анализе среди многообразия литературно-художественных течений ру- бежа XIX—XX веков можно выделить целый ряд тех, чьи эстетические принципы были построены на искреннем воспевании окружающей действительности, разнообразных форм жизни. Обратимся к конкретным примерам.
Согласно отмеченному нами ранее стереотипу особенно часто знак равенства ставят между декадансом и символизмом. Однако даже самое упрощённое толкование концепции символизма не укладывается в рамки декаданса. Символизм есть явление достаточно сложное и многогранное, причём среди его представителей можно выделить и про- водников по-своему жизнеутверждающих эстетических идей. В частности, отметим одного из так называемых поэтов-католиков Франсиса Жамма (1858—1938). Помимо религиозной проблематики, в связи с которой их и определяли как католиков, для Жамма приоритетной была тема провинции и деревни, поскольку практически всю жизнь, за исключением первых студенческих лет, он провёл в маленьком городке По-Ортез в Пиренеях, родился же он в пиренейской деревушке Турне.
Среди главных принципов творчества Жамма — свободный стих, граничащий с ритмизованной прозой; сравнительно простой язык, в отдельных случаях приближающийся к намеренным прозаизмам, но при этом простота языка граничит с манерностью.
Сам поэт характеризовал своё творчество следующим образом: «Когда я раскрываю какую-нибудь книгу, помеченную, например, 1888-м годом, эпоха, которая, казалось, когда я выступил впервые — я нахожу в ней только злой вой вагнерианцев, картонных лебедей (здесь можно выделить явный намёк на С. Малларме и его “Лебедя”. — А. Е. ), а также гермафродитов, украшенных иероглифами (намёк на «Озарения» А. Рембо. — А. Е. )» [1, с. 24]. Далее он продолжает: «Между тем, во мне подымалась та песня, которая хотела перейти в ритмизованную прозу и развеять, рассеять этот подозрительный туман подозрительных символистских видений» [1, с. 24].
Сквозная героиня произведений Жамма — простая французская провинциальная девушка, завязывающая банки с вареньем и джемом и следящая за домашней птицей. Франсис Жамм своим творчеством призывает других поэтов «не застревать в облаках, где просто людям не место, а опустить головы вниз и взглянуть на собственные ноги, а, взглянув на ноги, просто полюбить скромность и простоту, так как к простоте и скромности и идёт искусство» [1, с. 25].
Данная эстетическая позиция Жамма нашла выражение в поэтическом сборнике 1897 года «От утреннего благовеста до вечерне- го». Помимо ранее выделенной простоты и естественности доминирующими являются религиозные мотивы, что следует уже из заглавия.
В произведениях указанного сборника, несмотря на присущие им некоторые неровности стиля и чрезмерно частые повторения, автору удалось выразить живые чувства настоящей, нетронутой цивилизацией природы: «Я читал романы, сборники стихов, / Писанные умными людьми в Париже, / Ах, они не жили у моих ручьёв, / Где бекас, купаясь, шелестит и брызжет…» [1, с. 25].
Любовь к природе родного края, животным, несмотря на то, что это начало, во многом близкое язычеству, является сквозным мотивом для творчества Ф. Жамма.
В 1903 году Жамм опубликовал «Роман о зайце», получивший признание у широкого круга читателей. Как отмечают многие исследователи и критики, это произведение проникнуто поистине лафонтеновским чувством природы. Наряду с этим выделяется и ряд спорных моментов, в частности некоторая слащавость размышлений зверей относительно так называемого рая и элементы животной эротики, местами близкой к грубому физиологизму.
Естественность и гармоничность мира природы Жамм считает образцом для мира людей, максимально воплощая это в эстетике своих произведений. Выделим здесь образ опавшего сухого листа из «Благовеста», который ассоциируется с чистотой и естественностью чувств. В этом же контексте следует отметить гармонизацию звуков, доведённую Жаммом до совершенства.
Следующим литературно-художественным течением рубежа XIX—ХХ веков, в основе эстетических принципов которого лежало своеобразное воспевание окружающей жизни, стала школа «натюризма».
Это течение возникло в середине 90-х годов XIX века в гостинице «Гвоздь», где встречались молодые поэты, объявившие себя натюристами и в связи с этим противникам символистской школы. Но следует отметить, что они признавали за символизмом
определённые заслуги в области метрики, певучести стиха, освобождения от риторики. Натюристы достаточно высоко оценивали поэзию Поля Верлена. Однако, согласно их концепции, в поэзии следует воплощать не верленовские пессимизм и меланхолию, не абстрактность и фантастичность образов Рембо, а простую, повседневную реальность.
Назвав себя натюристами, молодые авторы противопоставили своё понимание природы огрублённому физиологизму натуралистов. Натюристы считали первым поэтом Франции Виктора Гюго, что до настоящего времени никем объективно не опровергнуто, а в 1903 году они опубликовали «Песнь об апофеозе Виктора Гюго». Автором этого произведения был лидер группы Сен Жорж де Буэлье (1876—1947), больше получивший известность как прозаик и драматург, нежели как поэт.
Кроме него, в группу «натюристов» входили Морис Магр (1877—1942), в итоге, как и Сен Жорж де Буэлье, более заявивший о себе в качестве прозаика и драматурга, а также яркая поэтесса Анна де Ноай (1876—1933), в своих первых книгах воспевавшая и пантеизм, и гимны жизни, и любовь во всех её проявлениях.
Несмотря на сравнительно недолгое существование в качестве направления, поэты-натюристы в конце 90-х годов XIX века с успехом издавали свой журнал «Ревю на-тюрист», в одной из статей которого за 1898 год был взят под защиту Эмиль Золя в связи с делом капитана Дрейфуса. В целом «Ревю натюрист» можно охарактеризовать как издание прогрессивной ориентации, на страницах которого поэты новой волны призывали к более трезвому восприятию мира. Последнее в дальнейшем особенно сильно проявилось у поздних символистов.
В наибольшей же степени жизнеутверждающие идеи нашли своё воплощение в эстетической концепции унанимизма, заявившего о себе главным образом в литературе, охватив практически все её жанры (поэзия, драматургия, эссеистика, проза больших и ма- лых форм). Основополагающие идеи унанимистов были сформулированы в манифестах 1908 и 1931 годов, составленных Ж. Роменом и Р. Аркосом. Прежде всего, это так называемая эстетика человекознания, которая представляет собой синтез гуманитарных знаний человека о многообразии бытия. Очень важными для формирования творческого и человеческого мировоззрения унанимистов стали образы родной земли, неба, природы. Подчеркнём здесь, что их эстетическое мышление питалось от неких извечных жизненных истоков.
Термин «унанимизм» происходит от латинского слова «унанимус», что означает «единодушие». Именно единодушие и стало основной проблемой унанимизма. В центре унанимистского видения мира два объекта — «душа индивидуальная» и «душа коллективная». «Душа толпы» — более значимый фактор, поэтому неизбежно поглощение отдельных индивидуальностей «душой коллективной» и создание «мистического коллектива», объединённого общей духовностью и на духовной основе. Как отмечает известный исследователь французской литературы Н. Рыкова, «группы могут быть городом, улицей, домом, толпой или просто кучкой людей, объединенных одним желанием или одним чувством и занятых одним общим делом. Группы эти мыслятся существующими конкретно и телесно: у них есть плоть, форма, они, как существо, ограничены, конечно, этой формой. Осознавшим себя таким образом группам и принадлежит мир по-роменовки и по-унанимистически, а могущество таких групп поистине безгранично» [4, с. 176].
Основополагающей для концепции унанимизма стала идея единения, подразумевающая, в частности, слияние человека с природой. Здесь унанимисты развили выделенные выше мысли католического символиста Ф. Жамма. Мир природы для них — особый мир, наделённый своим неповторимым разумом, подчиняющийся глубинным законам бытия, в чём-то похожий на мир людей, но в то же время более глубокий и правильный.
Слияние с ним для человека есть некое спасение и укрытие от катастроф, которые несёт окружающая действительность. Началом этого единения должно стать созерцание явлений природы. В связи с этим уместно привести высказывание О. Мандельштама об особенностях творческого мировоззрения одного из представителей унанимизма Ж. Дюамеля, где подчёркивается, что Дюамель «хочет быть туристом даже в собственной стране» [2, с. 24].
Выделенная выше проблема единодушия трансформируется в идею человеческого братства, которая была сформулирована во многом как антагонистическая по отношению к другим художественно-философским течениям рубежа XIX—ХХ веков (символизм, натюризм, футуризм, имажинизм, дадаизм, кубизм, фовизм и др.).
Представители унанимизма во многом ввели в пространство европейской культуры урбанистическую проблематику в позитивном ключе, связав её с проблемой единения. Например, для Ж. Ромена город Париж, «город каштанов, шансонье и куплетистов, студентов и учёных, королей и революционеров, художников и поэтов», стал неким особым художественно-эстетическим образом, хранителем мистической коллективной души, равно как и его многовековая история, начавшаяся на острове Сите [3, с. 3]. Если подавляющее большинство мыслителей и художников главные атрибуты того, что в нашей современности называют мегаполисом, определяют прежде всего как деструктивное начало, обезличивающее и подавляющее людей, то в представлении унанимистов эти явления, с одной стороны, по-своему оберегают жителей огромного города, а с другой — способствуют формированию у них выделенного ранее особого мистического коллектива. Например, в стихотворении Ж. Ромена «Маленькие девочки» громоздкое здание пансиона в центре Парижа, куда ежедневно устремляются героини произведения, создаёт для них некий особый мир, исполненный доброго начала, высокой эстети- ки и, в итоге, духа мистического коллектива. Старый подъёмный кран из стихотворения Ж. Дюамеля хотя и участвует в строительстве скучных однотипных сооружений, но при этом предстаёт в качестве носителя некой извечной житейской мудрости, которая сочетается с простыми человеческими качествами: «Сварливый, суетливый, / что рыбу ловит, / как ребёнок, в шайке…» [5, с. 37]. Следует отметить, что образы машин, наделённых душой и мыслью, своего рода продолжение образов по-человечески мыслящих животных, которые, как было отмечено выше, часто встречались в произведениях унанимистов, стали очень популярны в мировой литературе второй половины ХХ века, в частности в ряде направлений фантастической литературы и в философской сказке.
Выделенные эстетические принципы унанимизма были наглядно воплощены в следующем: урбанистическая новелла и стихотворения урбанистической проблематики («Лев», «Сон», «Атака автобусов» Ж. Ромена, «Подъёмный кран» Ж. Дюамеля); драматургия («Кнок, или Торжество медицины» Ж. Ромена, «Пароход Тинесити» Ш. Вильдрака), где представители течения ввели оригинальный термин «медицинский свет» (1923); роман-река («Люди большой судьбы» Ж. Ромена, «Хроника семьи Паскье» Ж. Дюамеля); философская поэзия Ж. Дюамеля, Ш. Вильдрака, Ж. Шеневьера, Л. Дюртена; литературно-сценические опыты А. Мерсеро, во многом предвосхитившие практику современных шоу-программ; эротическое эссе; рассказы-новеллы; политическая публицистика; мемуаристика.
Завершая настоящую статью, вновь подчеркнём, что на рубеже XIX—ХХ веков, в период торжества декадентского мировоззрения, проблематика реальной жизни, её воспевание, оригинальное осмысление жизненных процессов из искусства отнюдь не ушли, иллюстрацией чего служат эстетические позиции и творческая практика выделенных нами европейских литературнохудожественных течений.