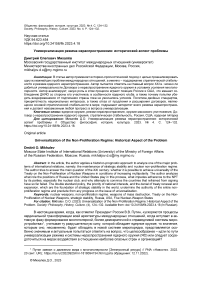Универсализация режима нераспространения: исторический аспект проблемы
Автор: Михалв Дмитрий Олегович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье автор применяет историко-прогностический подход с целью проанализировать одну из важнейших проблем международных отношений, а именно - поддержание стратегической стабильности и режима ядерного нераспространения. Автор пытается ответить на главный вопрос XXI в.: можно ли добиться универсальности Договора о нераспространении ядерного оружия в условиях усиления многополярности. Автор анализирует, какую роль в этом процессе играют позиции России и США, что мешает соблюдению ДНЯО со стороны его участников, в особенности ядерного клуба, а также почему попытки убедить воздержавшиеся от подписания страны пока не увенчались успехом. Политика двойных стандартов, приоритетность национальных интересов, а также отказ от продления и расширения договоров, являющихся основой стратегической стабильности в мире, подрывают авторитет всего режима нераспространения и делают невозможным любой прогресс в вопросе универсализации.
Ядерное оружие, режим нераспространения, оружие массового уничтожения, договор о нераспространении ядерного оружия, стратегическая стабильность, Россия, сша, ядерная пятерка
Короткий адрес: https://sciup.org/149142236
IDR: 149142236 | УДК: 94:623.454 | DOI: 10.24158/fik.2023.4.18
Текст научной статьи Универсализация режима нераспространения: исторический аспект проблемы
В настоящее время, когда, как отметил Президент России В.В. Путин, «ускоряются процессы кардинальной трансформации всей архитектуры международных отношений, когда вступает в активную фазу формирование многополярной, более демократичной и справедливой системы миро-устройства»1, учитывая ту разрушительную силу, которой обладает ядерное оружие, то значение, которым оно, несомненно, будет обладать в новой системе миропорядка, представляется особенно значимым и актуальным попытаться ответить на вопрос, что целесообразнее – идти по пути универсализации режима и системы нераспространения ядерного оружия (ЯО) или следует сосредоточиться на мерах воздействия в отношении наиболее опасных стран и организаций?
Как известно, впервые ядерное оружие было испытано в 1945 г. США, затем аналогичные испытания провел СССР в 1949, Великобритания – в 1952, Франция – в 1960, КНР – в 1964 г. Вскоре был подписан и в 1970 г. вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который установил, что государством, обладающим ядерным оружием, является государство, которое произвело и взорвало такое оружие до 1 января 1967 г. Так оформилась ядер-ная пятерка, причем одновременно все эти страны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, что всегда возлагало на них особую ответственность в деле поддержания мира и порядка, создания системы нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и режима международной безопасности.
Именно тогда, когда сформировалась концепция «взаимного гарантированного уничтожения», когда человечество, во-первых, полностью осознало всю разрушительную мощь ядерного оружия, во-вторых, получило понимание, что в ядерной войне не будет победителей, – ведущие державы впервые задумались над вопросом: необходимо ли создавать универсальную систему нераспространения ядерного оружия или следует точечно реагировать на проблемные вопросы? Развитие международных отношений показывает, что мир пошел по первой траектории. Однако это никогда не мешало ведущим державам обращаться к инструментам второго подхода.
Итак, система ядерного нераспространения была создана, что же она включала в себя? Прежде всего целесообразно выделить несколько ее уровней: во-первых, многосторонние соглашения; во-вторых, международные структуры, предотвращающие распространение ОМУ; в-третьих, двусторонние соглашения.
Первый уровень системы состоит из ряда соглашений, регулирующих самые разные вопросы, связанные с разработкой, испытанием, размещением и применением ЯО. Безусловно, столпом всей системы нераспространения ЯО является ДНЯО, который устанавливает обязательства как для государств, обладающих ядерным оружием (ЯОГ), так и для не обладающих (НЯОГ), учреждает систему гарантий, оставляет открытой деятельность по развитию мирного атома и призывает страны к разоружению. Другим значимым элементом данного уровня являются зоны, свободные от ядерного оружия (ЗСЯО): район Антарктики (договор 1959 г.), Латинская Америка (договор Тлателолко 1967 г.), южная часть Тихого океана (договор Раротонга 1985 г.), Юго-Восточная Азия (Бангкокский договор 1995 г.), Африка (договор Пелиндаба 1996 г.), Средняя Азия (Семипалатинский договор 2006 г.). Страны, подписавшие соответствующие договоры, взяли на себя обязательства, запрещающие разработку, производство, контроль, обладание, испытание, размещение или транспортировку ЯО в данных регионах. Запрещено размещать ЯО и в космическом пространстве (договор 1967 г.), на морском дне и в его недрах (договор 1971 г.). Другой аспект системы нераспространения связан с ядерными испытаниями. В 1963 г. в Москве был подписан многосторонний Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, который, правда, не касался подземных ядерных взрывов любого назначения, но и этот вопрос был урегулирован в ходе двусторонних соглашений СССР и США в 1974 и 1976 гг. В 1996 г. был подписан Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который, однако, так и не вступил в силу, поскольку недостаточное количество стран его подписали и ратифицировали.
Второй уровень международного режима нераспространения представлен организованным в 1954 г. Международным агентством по атомной энергии. Система гарантий МАГАТЭ, регулярные инспекции призваны не допустить в странах, не обладающих ядерным оружием, переключения атомной энергии с мирного применения на создание ядерного оружия. И хотя МАГАТЭ входит в систему ООН, целесообразно отдельно выделить Совет Безопасности, который является многосторонней площадкой для обсуждения проблем ядерного нераспространения. Примечательно, что именно этот институт многосторонней системы используется, казалось, для совершенно иного подхода – реагирования на наиболее проблемные вопросы, например ядерную программу КНДР. Другим элементом этого уровня выступают иные международные и региональные, межправительственные и негосударственные организации, структуры, форумы, институты, в частности Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) или Африканская комиссия по ядерной энергии (AFCONE). Наконец, если говорить не о ядерном оружии, а о химическом, которое также является ОМУ, то систему международной безопасности с институциональной точки зрения дополняет Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Третий уровень системы является наиболее противоречивым, возможно, некоторые сочли бы более целесообразным определить его как точечное реагирование на наиболее опасные проблемы, поскольку уровень состоит преимущественно из российско-американских договоров, т. е., во-первых, только две страны решают общий проблемный вопрос; во-вторых, это именно те страны, которые обладают наибольшим ядерным потенциалом. Однако будет разумнее отнести данный уровень к международной системе безопасности, поскольку именно эти страны всегда задавали тон процессу нераспространения, влияние этих великих держав охватывает все континенты (условно говоря, сокращение ядерного оружия США – гарантия того, что оно не будет размещено в таком объеме на военных базах США в других государствах хотя бы потому, что его физически станет меньше). Наконец, важно учитывать последние дискуссии по СНВ-III и позицию США по вовлечению в переговорный процесс КНР, т. е. попытки сделать договор многосторонним. Тем более этот тезис подтверждается требованием России, выдвинутым в феврале 2023 г., привлечь НАТО к участию в договоре.
Как отмечалось ранее, создание системы нераспространения никогда не исключало возможности оказания давления на проблемные точки. Одни страны смогли встроиться в данную систему, повели себя добросовестно, например ЮАР отказалась от разрабатываемого ядерного оружия, также отказались от этой идеи Аргентина, Бразилия. Не все государства, к сожалению, способны действовать аналогично. Злостными нарушителями режима нераспространения являются Индия, Пакистан, Израиль (официально не заявлял о наличии ядерного оружия, но и не опровергал), КНДР, Иран. Каждая страна – это отдельный и долгий сюжет, в котором переплетается множество факторов. Вероятно, наибольший нажим международное сообщество оказывает на КНДР, которая на протяжении многих лет разрабатывает ядерное оружие и средства его доставки в рамках своей ракетно-ядерной программы. В 1993–2018 гг. Советом Безопасности ООН были приняты десять резолюций, последовательно вводивших и расширявших санкции в отношении КНДР за систематическое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия и иных соглашений, обеспечивающих международную безопасность. Исследователь И.В. Дьячков отмечает, что в результате введения данных санкций КНДР оказалась отрезана от мировой финансовой системы, лишена возможности закупать передовое вооружение за рубежом, проводить многие другие торговые операции (2018).
Несомненно, все эти меры серьезно сдерживают экономический рост КНДР, хотя они и не привели к изменению политики северокорейского государства. Напротив, КНДР завершили успешные испытания ядерного оружия и периодически проводят запуски баллистических ракет1. Конечно, важно учитывать, что КНДР не является членом ВТО и изначально слабо интегрирована в мировое хозяйство, поскольку придерживается командно-административных методов управления экономикой, а не рыночных, тем не менее можно говорить о недостаточной эффективности изоляционного подхода. В мире, где государства ставят в приоритет свои национальные интересы, экономическое давление не может изменить их политику. Порой это давление носит крайне избирательный характер.
Индия, Пакистан и Израиль также вовлечены в разработку ядерного оружия, хотя последнее государство официально этого не признает, однако международное сообщество не вводит серьезные экономические санкции в отношении этих стран, что, конечно, связано и с их бóльшим значением для мировой экономики, нежели КНДР, и лучшими отношениями с США. На Израиль не оказывается совершенно никакое давление, а с Индией США подписали в 2008 г. ядерное соглашение, по сути, согласившись на наличие у них ядерного оружия. Согласно этому документу Индия получила возможность вести торговлю ядерными материалами и технологиями, несмотря на то что она не является участником ДНЯО. Вполне возможно, что и Иран был бы в числе этих стран, если бы согласился на роль вассала США. Подобная разница в подходах, политика двойных стандартов приводит к обесцениванию значения и в определенной степени эффективности международных санкций, принимаемых в соответствии с Уставом ООН.
Если взглянуть на карту наиболее проблемных вопросов, связанных с ядерным оружием, то они связаны именно либо с теми странами, которые отказываются участвовать в системе ядерного нераспространения (проблема нарушителей, упомянутая в предыдущих абзацах), либо с США, которые постоянно подрывают этот процесс в погоне за эгоистичными национальными интересами. Более того, сегодня США формируют о России стереотип как о разрушителе современного режима международной безопасности, нарушителе норм международного права в сфере безопасности, стране, подрывающей режим ядерного нераспространения и неприменения ОМУ, шантажирующей применением ядерного оружия. К сожалению, это реальность, получившая широкое распространение в доктринальных документах США, НАТО, выступлениях официальных лиц западных государств.
В Стратегической концепции НАТО (NATO Strategic Concept), принятой в июне 2022 г. в Мадриде, прямо заявляется об использовании Россией «дипломатии ядерного принуждения», в ней говорится, что «Россия избирательно выполняет свои обязательства по ограничению вооружений и подрывает режим международной безопасности». Более того, в доктринальном документе НАТО Россия наряду с некоторыми другими странами уже открыто обвиняется в использовании химического оружия1. В Стратегии национальной обороны (National Defense Strategy) США от октября 2022 г. отмечается, что Россия представляет США и их союзникам угрозу в ядер-ной сфере, а также в области применения крылатых ракет большой дальности2. В Стратегии национальной безопасности (National Security Strategy) США, опубликованной в октябре 2022 г., Россия вновь обвиняется в «угрозах применения ядерного оружия, подрыве режима ядерного нераспространения». В документе даже делается вывод, что на фоне исчерпания в ходе конфликта на Украине потенциала обычных вооружений Российская Федерация будет еще интенсивнее угрожать применением ядерного оружия или даже использует его3. В Обзоре ядерной политики (Nuclear Posture Review), опубликованном в США в октябре 2022 г., вновь отмечается, что Россия угрожает применением ядерного оружия, незаконно проводит ядерные испытания, наращивает ядерный арсенал, делает ложные заявления о том, что другие государства рассматривают возможность использования ОМУ. В Обзоре ядерной политики говорится, что «Российская Федерация рассматривает ядерное оружие как щит, за которым ей дозволено начинать безосновательную агрессию». Как и в Стратегической концепции НАТО, в Обзоре ядерной политики делается заявление, что «Россия, вероятнее всего, обладает средствами поражения, связанными с химическим и бактериологическим оружием». В части предполагаемых действий США в текущей международной обстановке значится «оказание давления на Россию и Китай в целях обеспечения запрета на проведение ядерных испытаний»4.
Такая же риторика слышна из уст официальных представителей США. Например, бывший посол США в России (с января 2020 г. по сентябрь 2022 г.) Дж. Салливан заявил: «Мы не поддадимся на ядерный шантаж [России], но мы и не потерпим бряцания ядерным оружием и балансирования на грани ядерной войны»5. На заседании Генассамблеи ООН президент США Дж. Байден обвинил Россию в нарушении режима нераспространения ядерного оружия6. Аналогичные высказывания в адрес Российской Федерации позволяют себе и другие политические, государственные деятели западных стран.
Формируемый стереотип о России в действительности не выдерживает никакой критики. Более того, Российскую Федерацию лицемерно обвиняют США, которые, как метко отметил Д. Бэндоу (бывший помощник президента Р. Рейгана), сами погрязли в этом грехе7.
Во-первых, Россия на протяжении многих десятилетий является приверженцем идеи сокращения ядерных арсеналов посредством заключения двусторонних соглашений с США, которые, в свою очередь, напротив, не раз отказывались от них: либо не ратифицируя подписанные соглашения, либо отказываясь продлевать уже вступившие в силу. Примером первого служит Договор между СССР и США об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-II), подписанный в 1979 г. в Вене, устанавливающий потолок для количества ракет ядерной триады в 2 400 ед. и подуровень в 1 320 ед. для ракет с разделяющаяся головной частью с индивидуальным наведением (РГЧИН)8. ОСВ-II не был ратифицирован Сенатом США под предлогом вступления советских войск в Афганистан (Юров, 2014).
Примером второго выступает действующий в настоящее время Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), подписанный в 2010 г. в Праге, который установил максимальное количество ядерных боезарядов у каждой из сторон в 1 550 ед. Договор вступил в силу в 2011 г. и истекал в феврале 2021 г., но мог быть продлен на 5 лет (Тучков, 2021). Когда срок действия документа начал подходить к концу, российская сторона выразила готовность продлить СНВ-III, однако администрация Д. Трампа отказалась от этого, полагая, что договор невыгоден американской стороне1. Понимая значимость данного соглашения и трудность переговорного процесса, Президент России В.В. Путин предложил «продлить договор хотя бы на год без всяких дополнительных условий»2, но и это предложение было встречено отказом. Лишь победа Дж. Байдена на президентских выборах в США спасла от краха последний договор в области сокращения вооружений между Россией и США, поскольку новая администрация продлила договор на 5 лет3. К сожалению, из-за того, что США в течение нескольких последних лет чинили препятствия российской стороне по проведению инспекций на американских ядерных объектах, одновременно требуя свободы доступа к российским, Российская Федерация была вынуждена приостановить свое участие в ДСНВ-III.
Во-вторых, Россия придерживается принципа нераспространения ядерного оружия, всячески способствует этому посредством создания ЗСЯО. Одна из таких зон была сформирована в Средней Азии в результате подписания в 2006 г. Семипалатинского договора, участниками которого стали Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Документ предусматривает отказ стран от приобретения, испытания и размещения ядерного оружия и дополняется, как и другие договоры о ЗСЯО, протоколом пяти государств, обладающих ядерным оружием. Протокол обязывает ядерную пятерку дать негативные гарантии (неприменения ядерного оружия и (или) угрозы его применения в отношении стран – участниц Семипалатинского договора). В 2014 г. все пять стран подписали протокол, спустя некоторое время его ратифицировали все, кроме США. Североамериканское государство возражает против пункта о том, что обязательства по Ташкентскому договору (ОДКБ) имеют приоритет над Семипалатинским договором (Третьякова, 2013).
В-третьих, Россия добросовестно и в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства в сфере международной безопасности, до последнего стремится сохранить существующие международные соглашения. Примерами этого служат Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) от 1972 г. и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 г. Первое соглашение являлось важным элементом предотвращения развития гонки вооружений, поскольку делало нецелесообразным разработку более современных средств доставки вооружений, так как ограничивало возможности по созданию средств защиты (ПРО) для обеих сторон. В 2002 г. США на фоне терактов 11 сентября 2001 г. вышли из Договора по ПРО. Российская сторона не раз отмечала значимость данного соглашения как в своих доктринальных документах (Концепции внешней политики 2000 г.), так и в выступлениях официальных лиц. В.В. Путин после решения США отметил: «Россия не пошла на настойчиво предлагавшийся США совместный выход из Договора по ПРО и сделала все от нее зависящее, чтобы этот договор сохранить, руководствуясь при этом заботой о сохранении и укреплении международных правовых основ в области разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения»4.
Второе соглашение предотвращало возможность доставки ядерного оружия сразу двумя классами ракет (дальность 500–5 500 км). Д. Трамп безосновательно обвинил Россию в нарушении ДРСМД (Россия проводила показательные испытания с участием иностранных военных атташе для демонстрации ракеты, к которой предъявлялись претензии), хотя сами США создали БПЛА с тактико-техническими характеристиками, схожими с таковыми крылатых ракет, а противоракеты для наземных установок американской системы ПРО Aegis – Aegis Ashore – могли быть при необходимости заменены на крылатые ракеты средней дальности, что стало бы прямым нарушением договора5. В конечном счете в 2019 г., несмотря на убеждения российской стороны, США вышли из ДРСМД6.
В-четвертых, Россия никогда не применяла ядерное оружие и не шантажирует его применением. Российская Федерация в соответствии со своей Военной доктриной «оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядер-ного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства»1. Следовательно, США пытаются подменить российскую позицию: представить подход, что ядер-ное оружие будет применено, если на Россию нападут, как подход, что если какая-то страна не сделает желаемое Россией, то она нападет с ядерным оружием. Оборонительный подход представляется в виде наступательного, агрессивного, угрожающего миру. Между тем за всю историю человечества лишь одно государство применяло ядерное оружие против людей – США в августе 1945 г. Наконец, абсурдно звучат в доктринальных документах США призывы оказать давление на Россию с целью запретить ядерные испытания, когда США сами являются государством, которое уже 26 лет не может ратифицировать ДВЗЯИ, что Россия сделала еще в 2000 г. Во многом из-за такого подхода США ДВЗЯИ так и не вступил в силу.
Почему важно уделить такое большое внимание двусторонним отношениям России и США? Как уже отмечалось, отношения этих двух великих держав оказывают влияние на все другие страны мира, на них лежит особая ответственность в деле поддержания мира, именно они задают тон нераспространению ядерного оружия. Несостоятельны попытки представить Россию как нарушителя норм международного права в сфере безопасности, как государство, подрывающее режим нераспространения ядерного оружия и неприменения ОМУ, как агрессора, шантажирующего ядерным оружием и готового применить его в наступательных целях. Все приведенные примеры и реальные факты говорят о том, что Россия добросовестно подходит к выполнению соглашений, готова к подписанию новых договоров, стремится сокращать ядерные арсеналы, заботится о расширении и сохранении режима международной безопасности, а США, напротив, в угоду своим целям его разрушают.
Подход, принятый великими державами в отношении стран – нарушителей режима ядерного нераспространения, угрожает адекватному восприятию и соблюдению актуальных на сегодняшний день норм и правил. Продолжать выделять определенные государства как изгоев мирового сообщества, оказывая на них нелегитимное влияние и давление, в конечном счете означает исключать саму возможность участия этих стран в двустороннем взаимовыгодном диалоге. Пример КНДР является показательным с точки зрения достижимости универсальности ДНЯО – несмотря на то что страна была членом договора, данный факт не предотвратил дальнейшее ядерное распространение. Наоборот, впоследствии ускорилась гонка вооружений, а отношения между КНДР и США испортились настолько, что непонятно сколько понадобится времени в будущем для восстановления двусторонних связей. КНДР в рамках ДНЯО пользовалась помощью в развитии мирной ядерной энергетики, а затем, в соответствии со всеми международно-правовыми нормами, отказалась от участия, создав прецедент для множества других стран. Наблюдается и другая крайность: серия соглашений о сотрудничестве в ядерной сфере, заключенных между Индией и ведущими государствами, обладающими ядерным оружием, начиная с американо-индийской сделки, предоставила Индии преимущества членства в ДНЯО без обязательств и таким образом устранила любую мотивацию, которая могла бы быть у нее для присоединения к договору2.
Российский исследователь, член Российской академии наук А.Г. Арбатов в работе «Ядер-ное сдерживание и нераспространение» 2005 г. отмечал, что великие державы сами должны взять на себя ответственность за «вертикальное и горизонтальное» ядерное разоружение, ратифицировав ДВЗЯИ и Дополнительный протокол МАГАТЭ 1997 г.3 Тем самым будет подан пример всем остальным странам, которые боятся за свою безопасность ввиду нестабильного политического положения и полагаются на эффективность сдерживания ядерным оружием (Индии, Пакистану, КНДР, Ирану, Израилю). Более того, как никогда необходимым кажется изменение концептуального подхода сильнейших стран к проблеме использования ядерного оружия в целях национальной безопасности. После анализа нескольких доктринальных документов России и США балансирование на грани возможного применения ядерного оружия первыми становится очевидным. Важным этапом на пути универсализации, возможно, должен стать новый договор, отражающий различные угрозы современности. ДНЯО был подписан в те годы, когда террористическая активность некоторых группировок не вызывала столько опасений, когда Интернет не становился платформой для развития теневых секторов мировой экономики, когда подтвержденные государствами гарантии не являлись пустым звуком.
Что мы имеем на сегодняшний день? Прогноз президента Дж. Кеннеди о мире, состоящем из 20 ядерных держав, к счастью, не сбылся. Однако ядерные державы не добились ускорения разоружения и значительного сокращения арсеналов. Некоторые страны успешно манипулировали договором для создания своих полноценных ядерных программ. С каждым годом универсальность ДНЯО постепенно становится все более недостижимой целью в связи с развитием ядерного оружия государствами, не исполняющими обязательства по договору или вообще не являющимися его участниками.
Почему великие державы в некоторых случаях поддерживают ядерное распространение, а в других демонстрируют несогласие, пытаясь обуздать, ограничить и даже уничтожить ядерные программы других государств? В статье «Сила или дружба: объяснение политики нераспространения великих держав» М. Крениг предложил теоретическое объяснение данному явлению. Государства определяют уместность распространения ядерного оружия на основе отношения «враг – друг»: очевидно, что дружественные страны получают от своих более сильных союзников помощь и всяческую поддержку, а усиление неподконтрольных государств-противников вызывает у последних беспокойство на грани паники, особенно когда дело касается ядерного оружия (Kroenig, 2014). Если конечной целью выступает универсальность режима нераспространения, то государства не должны идти на компромисс, позволяя другим приобретать ядерное оружие, независимо от того, являются ли эти государства врагами или друзьями. Если посмотреть на ситуацию под другим углом, то можно заметить, что наиболее энергично державы критикуют те страны и угрожают тем государствам, на которые способны проецировать свою военную и геополитическую силу (особое давление на Иран и КНДР со стороны США). Кроме того, третьей, но не менее важной ошибкой в стратегии ядерных держав становится приоритет военных и политических интересов, что подрывает сам режим нераспространения (пример передачи ядерных технологий неядерной Индии со стороны участников ДНЯО, в том числе членов ядерной пятерки). Нератифицированный многими ядерными странами ДВЗЯИ, а также расширение Группы ядер-ных поставщиков (ГЯП), режима экспортного контроля, с одной стороны предполагают исключительность, а с другой – в перспективе допускают присоединение стран, не являющихся членами ДНЯО (Индия). Тем самым другим странам подан знак, что гегемоны будут пытаться сохранить статус-кво любыми, даже несправедливыми, способами и что на самом деле их отношение к режиму нераспространения сводится к манипулированию в целях контроля. При этом большинство ученых-международников определяют справедливость как неотъемлемую часть эффективности любого режима. Обычно государства ведут себя более последовательно в соответствии с нормами, если они широко рассматриваются как результат справедливого и законного процесса и если согласуются с широко разделяемыми представлениями о справедливости.
Для большинства стран, остающихся вне соглашений о нераспространении и разоружении, восприятие угроз и интересы безопасности формулируются в контексте безопасности в регионе, где расположены эти страны. Следовательно, чтобы международное сообщество стремилось к универсализации и повышению эффективности многосторонних соглашений, важно изучить взаимосвязь между решениями о присоединении к многосторонним соглашениям и динамикой региональной безопасности, а также рассмотреть ядерные угрозы в контексте региональной безопасности. В некоторых случаях улучшение в области нераспространения не способствует улучшению обстановки в сфере региональной безопасности. Например, совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с Ираном вызвал опасения Саудовской Аравии с точки зрения усиления роли Ирана в регионе и международной экономике, а ядерный статус Израиля препятствует подписанию Египтом ДВЗЯИ. Однако в целом улучшение обстановки в области региональной безопасности предполагает универсализацию многосторонних соглашений (Akiyama, 2016).
Таким образом, можно сделать несколько выводов.
-
1. Система нераспространения ядерного оружия, действительно, была создана во второй половине XX в. и покрывает самые различные аспекты, связанные с ядерным оружием. Это запреты на его передачу, разработку, запреты испытаний, размещения, системы контроля и проверок, двусторонние соглашения о сокращении арсеналов, об отказе от различных военных разработок, об ограничениях на испытания и многое другое. Иными словами, система нераспространения ядерного оружия предстает проработанным (наиболее разработанным по сравнению с другими видами ОМУ) и высокоэффективным (если бы все были ей привержены) механизмом обеспечения мира и безопасности.
-
2. Система никогда не ликвидировала полностью все проблемные вопросы, связанные с ядерным оружием. Причем, как показал анализ, сложности возникают именно там, где страны
-
3. Рассчитывать исключительно на оказание давления на проблемные страны ни в коем случае нельзя, потому что США всегда проводили и будут проводить политику, выгодную только им, а не всему мировому сообществу. Однако была бы другая страна на месте США, удержалась бы она от такого же соблазна? Маловероятно, но сегодня вина лежит на их плечах. Можно ли говорить о точечном подходе, когда отношения к ядерным программам Израиля и КНДР, Ирана и Индии как лакмусовая бумажка высвечивают политику двойных стандартов США.
-
4. Наконец, исключительно точечный подход невозможен, потому что предполагает участие небольшого количества государств, которые, как показывает история, далеко не всегда верны своим обязательствам. США, нивелируя двусторонние соглашения с Россией о разоружении, различных запретах, ограничениях, подрывают, как пишет А.Г. Арбатов (2021), общемировой процесс нераспространения.
-
5. Воздействие в отношении наиболее опасных стран и организаций, как отмечалось ранее, будет осуществляться небольшой группой государств, между которыми, вероятнее всего, взаимопонимание невозможно, либо решение о таком воздействии будет приниматься в узком кругу или коалицией желающих, это идет вразрез с формирующимся в настоящее время многополярным миропорядком, где важно участие разных центров силы и особое значение имеют именно многосторонние соглашения. В этом контексте стоит сказать, что случаи «ядерной исключительности» подрывают способность режима справляться с несоблюдением, посылая сигнал о том, что к разным государствам применяются разные правила. Более того, данная ситуация может расцениваться как дающая преимущества тем, кто остается вне режима.
отказываются от всеобъемлющего участия в системе и режиме нераспространения. На нарушителей оказывается давление, но даже пример с КНДР, где, казалось бы, приложены максимальные усилия, не говорит об успешности точечного реагирования.
Однако что может стать стимулом к изменениям? Во время холодной войны сокращение ядерных вооружений было вопросом двусторонних отношений между США и Россией. Это изменится в ближайшем будущем, когда нисходящая траектория американских и российских арсеналов рискует столкнуться с восходящей траекторией арсеналов Китая, Индии и других стран. Кроме того, три государства ядерной пятерки еще не стали частью более широких международных или региональных процессов контроля над вооружениями и разоружением, параллельно продолжая модернизацию своих ядерных сил. Возможно, в скором времени США и Россия призовут эти страны присоединиться или возобновить универсальное стратегическое партнерство на равных условиях с новой силой и в новом формате.
Будущее в любом случае за системой и режимом нераспространения, а точечное давление (без двойных стандартов) можно и нужно оказывать только для того, чтобы заставить нарушителей участвовать в этой системе или в ее обновленном варианте. Главное, чтобы у стран было искреннее желание достичь нераспространения. Как подчеркивает А.Г. Арбатов, нужно проявлять политическую волю в борьбе за безопасность с ядерным милитаризмом, выражающемся в том числе в постоянном неподконтрольном усовершенствовании технологий (2021).
Список литературы Универсализация режима нераспространения: исторический аспект проблемы
- Арбатов А.Г. Стратегическая стабильность - оружие и дипломатия : монография. М., 2021. 430 с.
- Дьячков И.В. Санкции ООН в отношении КНДР: оценка эффективности // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2018. Т. 23, № 177. С. 173-179. https://doi.org/10.20310/1810-0201-2018-23-177-173-179.
- Третьякова Н.А. Проблема ратификации Семипалатинского договора в контексте евро-азиатской архитектуры безопасности // Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. Т. 3, № 2 (54). С. 159-162.
- Тучков Д.А. Договор СНВ-III в контексте политики перезагрузки в российско-американских отношениях // Инновационная наука. 2021. № 2. С. 144-146.
- Юров Р.В. Договоры по стратегическим наступательным вооружениям между Россией (СССР) и США: исторический обзор // Наука. Общество. Оборона. 2014. № 1 (2). С. 1-6.
- Akiyama N. Nuclear stability in Asia. Strengthening order in times of crises // 10th Berlin Conference on Asian Security (BCAS). Berlin, 2016.
- Kroenig M. Force or friendship? Explaining great power nonproliferation policy // Security Studies. 2014. Vol. 23, no. 1. https://doi.org/10.1080/09636412.2014.870863.